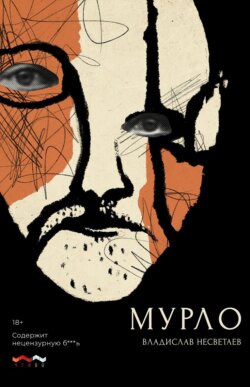Читать книгу Мурло - Владислав Несветаев - Страница 3
Часть первая
2
ОглавлениеСияя, Степан Фёдорович заполнял баллон «Газели» пропаном, морщил лоб и озирался. Со стороны Мешково на розовое небо наползала тёмно-синяя хмурая туча, и с ней уже слились макушки ёлочных крон. Залив топливо, Домрачёв отогнал «Газель» и пошёл в магазин.
Обычно скупость отступала от него, только когда на него давили люди или обстоятельства. На сей же раз он никакого давления не испытывал: просто душа просила чего-то этакого (например, кофе и булочку). Степан Фёдорович не до конца сознавал, в чём причина его мгновенного счастья, или не сознавал вовсе – ему казалось, что добродушный старик заставил его радоваться, – но ощущал, что ему было немного за своё счастье стыдно, ведь, как-никак, цель его визита в Мешково диктовалась трагическими событиями.
Умершего в одиночестве дядю Жору Степан Фёдорович знал не очень хорошо. Можно сказать, не знал его вообще. В детстве отец Степана Фёдоровича, Фёдор Аркадьевич, с женой возили сына и дочь в деревню. Кажется, каждому члену семьи в деревне нравилось, кроме маленького Стёпы. По детству и молодости ему вообще в жизни мало что нравилось, точнее, ничего не нравилось, и оттого, что деревню он видел только в детстве, она, как ему казалось теперь, приятных чувств вызывать не должна. Однако это мнение никак не стыковалось с тем, что он испытывал сейчас, стоя у жёлтой «Газели» и потягивая горький горячий кофе. Он казался даже чересчур горьким, и Степан Фёдорович открыл крышку, чтобы посмотреть на его цвет, и искренне удивился, не увидев ни малейшего следа белого молока в чёрной жидкости. Кофе вообще не был его напитком. Домрачёв никогда не относил его к чему-то необходимому, потому тех, кто любит пить кофе, он считал транжирами. Он прекрасно сознавал, что чай, как и кофе, – продукт далеко не первой необходимости, но не мог с той же уверенностью клеймить любителей чая транжирами, потому как сам горячо обожал этот напиток. Теперь же он выбрал напиток по названию. Американо! Уж очень оно аппетитно звучало, это название.
Взрослым Степан Фёдорович видел дядю Жору дважды. И то один раз мельком. Первый раз, когда Домрачёву было немного за тридцать, дядя Жора приехал в Москву на лечение и на обратном пути остановился на трое суток у Фёдора Аркадьевича с женой. Степан Фёдорович заглянул к ним как-то раз вечером, потому что отец сильно просил его, и, выпив рюмку коньяка, пошёл домой, жалуясь на усталость после смены. Дядя Жора тогда показался ему таким же, как в детстве: непонятным толстым дяденькой-весельчаком.
А во второй раз они встретились, уже когда Домрачёву было сорок шесть, на похоронах Фёдора Аркадьевича. В этот его визит на самих похоронах они обмолвились буквально парой слов, а вечером размякший дядя Жора рассказывал много историй про брата, две из которых Степану Фёдоровичу запомнились. Одна о том, как Георгий и Фёдор Аркадьевичи, будучи подростками, переплывали реку, чтобы спасти на той стороне их пьяного отца от злых собутыльников, а другая – как Фёдор на свадьбе Георгия на спор съел сороконожку.
К вести о том, что дядя Жора умер, Домрачёв отнёсся с безразличием. Когда мать позвонила ему с этой новостью, он, увлечённый работой, даже не понял, о ком идёт речь, и просто сказал ей: «Что поделать – все там будем». Только вечером, когда жена Наташа, ставя на стол тарелку гречи со свиными котлетами, расспрашивала голодного мужа о том, как прошла его пятница, Степан Фёдорович вспомнил о звонке матери. Он подумал: «У матери кто-то умер», но ничего не сказал. На следующий день он пошёл к матери и, постеснявшись уточнить напрямую, кто умер, наводящими вопросами выведал правду.
На похороны из семьи никто не поехал: мать болела, сестра не могла уйти с работы, Степан Фёдорович сделал вид, что тоже не мог, но на самом деле просто не хотел. Оказалось, что дядя Жора был никому не нужен. Жена его умерла несколько лет назад, единственный сын – ещё молодым, другие родственники знать его не хотели, а те, кто всё-таки хотел, поумирали раньше. В итоге похоронили дядю Жору сочувствующие соседи своими усилиями.
Умер он осенью, в середине октября. Степан Фёдорович же позабыл об этом уже на следующий день и не вспоминал вплоть до злополучного январского звонка. Он только ушёл в отпуск (числился слесарем на заводе по производству амбарных замков), как на следующий день утром раздался звонок от матери. Сказала, что звонили соседи дяди Жоры и просили приехать кого-нибудь из семьи за вещами и архивом. Домрачёв сначала не понял, при чём здесь он, а когда догадался, начал покашливать, бубнить и заторопился попрощаться с матерью. Тогда она напрямую попросила его съездить в деревню, и он, сказав, что попробует выбраться, с чистой совестью положил трубку и пошёл завтракать. К обеду позвонила сестра и попросила о том же. Вечером об этом уже знала жена… В общем, пришлось Степану Фёдоровичу выехать в Мешково, потому что отказываться от живой просьбы, не по телефону, он так и не научился.
Допив горький невкусный кофе, он сел в «Газель» и поехал в сторону Мешково. Насчёт кофе, кстати говоря, он хотел немного поскандалить, но, помявшись на месте, заволновался, вспотел и через силу допил его, свято веря в то, что его жестоко обманули, ведь не может кофе без молока стоить аж сто рублей. Осознав этот обман, Домрачёв обратил внимание, что вкус кофе стал ещё горче.
Когда он свернул с трассы на грунтовку, уже стояла кромешная тьма. Начался сильный ветер, посыпал снег. Степан Фёдорович улыбался, вспоминая старика.
Скорость ему пришлось сбавить: освещения и правда не оказалось. Дорогу освещали лишь тусклые фары «Газели», которые начинал залепливать крупный влажный снег. Редкие указатели представляли собой небольшие выбеленные железные прямоугольники с надписями чёрной гуашью, прибитые к коротким деревянным палкам. В основном на них были написаны технические термины, например, «Кабель» или непонятные цифры с непонятными буквами. Этих знаков было достаточно, чтобы утомить Домрачёва. Деревенских огней он ещё не наблюдал, потому думал, что поворот нескоро. Однако через пару минут указатель на Мешково оказался у водителя за спиной. Благо, он вовремя спохватился и сдал назад.
На подъезде к деревне, когда по бокам начали возникать первые косые заборы, наполовину занесённые снегом (летом, наверное, их так же прячет крапива, подумал Домрачёв), снег и ветер так усилились, что автомобиль Домрачёва зашатало из стороны в сторону. Резиновые прокладки неплотно прилегали к кузову, поэтому образовывались щели, и из них сквозило. Степан Фёдорович мог бы даже почувствовать капельки воды, стучавшие по его лицу, если бы не был так напуган. Он был из тех людей, которые в чрезвычайных ситуациях действуют оперативно, холодно и рассудительно. Напуганный до икоты, он не сбавлял скорости, ибо ещё больше, чем вьюги, боялся, что «Газель» занесёт на скользкой дороге.
Сквозь почти однородную косую стену снега тусклым синим огоньком проступал фонарь на бетонном столбе. Больше источников света не наблюдалось, и Степан Фёдорович ехал на свет этого синего фонаря, как заворожённый мотылёк. «Наверное, это центр деревни, – думал он, – раз нигде больше света нет». Но только Домрачёв об этом подумал, как по сторонам от дороги через резные ставни стал виден свет окон. Вдалеке лаяла собака, и Степан Фёдорович ощутил присутствие человека – то одиночество, которое он испытывал на тёмной грунтовке по пути к селу, отступило.
Подъехав к синему фонарю, Домрачёв остановился и, сощурившись, посмотрел на адресную вывеску, прибитую к забору. В буквах, наполовину стёртых годами, он угадал слово, которое крутилось у него в голове последние пятнадцать минут: «Озёрная», а под ней цифру «8». Он искал дом под номером 17, однако ключей ни от участка, ни от дома, ни от ставней у него не было, потому прежде нужно было попасть к соседям, которые и вызвали его сюда. Жили они в доме под номером 15.
Холодность и рассудительность, возникающие в чрезвычайных ситуациях, обычно покидали Степана Фёдоровича, когда он приближался к цели. Так и сейчас: не успел он подъехать к пятнадцатому участку с домом, стоящим на высоком бетонном фундаменте, как на ходу заглушил мотор и выскочил из машины с дикими воплями:
– Хозяева! Хозяева-а-а-а!
Домрачёв с остервенением колотил кулаками по металлическому забору и не унимал крика. Снег бил его по лицу и уже водой стекал по худосочной шее, но Степан Фёдорович, смотря на дом сквозь зазор, не обращал на это никакого внимания: оно было всецело сосредоточено на тёмных силуэтах, суматошно маячивших за окном на фоне оранжевой стены. Один из силуэтов, обмотавшись платком, двинулся к двери, и через мгновение она отворилась. Раздался женский голос:
– Кто там? Чего надо?
– Здрасте! – оживился притихший на время Степан Фёдорович. – Я Домрачёв! Сосед! Вы звонили!
– Ох, – женщина, которой принадлежал голос, всплеснула руками и, торопясь, как могла, начала спускаться к нему по лестнице, приговаривая на ходу себе под нос:
– Чего ж он, звонка, что ли, не видит? – Мне бы ключи, – громко, как на дискотеке, сказал он, когда калитка открылась. – Какие ключи, господи, – с недовольным видом махнула рукой женщина и, схватив Степана Фёдоровича за локоть, потянула его на участок. – Пройдите в дом.
Домрачёв перешагнул через порог калитки и в сопровождении хозяйки, под лай цепной собаки царственно прошёл к дому.
В сенях их встретил плотный мужчина с щенячьими глазками. Он был одет в белую рубаху с широкими синими полосами, заправленную в хлопковые чёрные штаны, а те, в свою очередь были заправлены в длинные серые носки. Под ногами у него, задрав хвост, вилась рыжая гладкошёрстная кошка. Домрачёв молча приходил в себя и тяжело дышал. Мужчина без каких-либо претензий ждал, когда тот заговорит и объяснится, но Степан Фёдорович уверенно продолжал молчать, осматриваясь и размазывая мокрым предплечьем капли воды со лба по всему лицу.
Хозяйка тем временем, кряхтя, одной рукой стягивала с себя шерстяную шаль, а другой стаскивала с ноги валенок. Выпрямившись, она прошла к мужу и ровным тоном заявила:
– Родственник дяди Жоры. Приехал вот. – А, – спохватился мужчина и протянул руку Домрачёву. – Гена. – Степан, – Степан Фёдорович попытался крепко пожать руку Гены, но замёрзшие пальцы стискивались неохотно. – Чего вы стоите? Разувайтесь – проходите. – Да что вы, – стеснительно заулыбался Домрачёв, – мне бы просто ключи забрать, и я пойду. – Куда ж вы пойдёте? – раздался крик хозяйки из кухни. – Там не топлено, жрать нечего! Не стойте! Проходите чай пить!
Домрачёв улыбнулся Гене и закопошился на месте. Немного подумав, он слегка нагнулся и тихим голосом сказал: – Отключили уже, да? – Что отключили? – уточнил Гена. – Ну, отопление, что ж ещё, – серьёзно сказал Степан Фёдорович.
Гена сначала, недоумевая, пристально посмотрел ему в глаза, а затем, медленно раскрывая рот, широко улыбнулся и захохотал. Он развернулся на месте, нагнулся, почесал кошку и, проходя в дом, весело сказал: – Проходите-проходите.
Домрачёв невольно заулыбался. Его сердцем вновь завладели, и он уже ощущал в себе силы, которые позволят хорошенько поговорить. Ненадолго замечтавшись, он подался вперёд, быстро стянул с себя дублёнку, расстегнул молнии на ботинках, вальяжными движениями сбросил их с ног и в своей кепочке прошёл в дом, оставляя на выкрашенных коричневым глянцем досках водяные разводы. Он шёл на голоса, доносившиеся из кухни, и сжимал кулаки, будто тренируясь пожать следующую руку. Проходя через тёмный коридор, он столкнулся с девушкой, до того мгновения осторожно выглядывавшей из-за угла, как хищный зверёк, но будто не заметил её и двинулся дальше, не сбавляя шагу.
Девушка, на вид лет двадцати, прошла в сени, с недовольным лицом взяла разбросанные ботинки Степана Фёдоровича и аккуратно поставила их к остальной обуви, представленной по большей части валенками и тапочками. Затем она закрыла входную дверь на замок, выключила в сенях свет и легко, будто не касаясь пола, прошла в свою комнату.
Домрачёв сел сбоку от Гены на мягкую подушку кухонного дивана и, сложив руки на столе, изучил внешность хозяина. Вид у него был здоровый. Степану Фёдоровичу показалось, что Гена младше его лет на десять. Казалось, в детстве он упал в чан с репейным маслом. Но волосы, росшие везде: и на руках, и на груди, и, в особенности, на шее, – не выглядели, как рудимент, унаследованный от предков-приматов. Степан Фёдорович успел даже подумать, что люди, у которых таких волос нет, менее человечны, чем мягкий плюшевый Гена.
– Откуда ж приехали? Давно? – спросил улыбающийся хозяин, не дождавшись, когда Домрачёв заговорит.
Хозяйка тем временем суетилась с закусками под аккомпанемент сопящего чайника. – Да с Рязани. Вчера вечером выехал, – как только Степан Фёдорович начал говорить, пальцы его рук хаотично зашевелились, стуча по столу, а скрещённые под диваном ноги затряслись.
– Как дорога? Ничего?
– Ох, да. Отлично доехал. Разве что пурга под конец застала, – улыбнулся Домрачёв.
– Хороша зима, да? – поддержал его Гена.
– Не то слово, – согласившись, Степан Фёдорович замотал головой. – Я, правда, признаться, побаиваюсь метелей. В машине ещё печка барахлит. Всё думал, как бы не замуровало меня в ней.
– А что ж за машина у вас?
– Да я ж не на своей приехал. У знакомого «Газель» одолжил.
– Чего так? – удивился Гена. – Зачем «Газель»?
– Как зачем? Я же за вещами приехал.
– За вещами, – повторил за ним Гена, качая головой. – Долго собирались вы. Всё поутаскивали уже. Вам разве что письма забрать да фотографии.
– Как? – вылупил глаза Домрачёв. – Кто поутаскивал? – Кто-кто? Деревня. Уж третий месяц пошёл, как дядя Жора помер. Ребятня лазит, а может, и не только ребятня. – Вот тебе раз… – уставился перед собой Домрачёв. – Приехал, называется. – Ну, вы не расстраивайтесь, – рассудительно заговорил Гена. – Дело это обыкновенное. Вы б ещё дольше собирались. Скажите спасибо, хоть архив не растащили. Да и я ж гоняю, когда засекаю кого. – Ладно, хоть архив цел, – улыбнулся Домрачёв и многозначительно закивал.
Ему, как человеку, плевавшему и на вещи, и на архив дяди Жоры, да и, вообще говоря, на дядю Жору тоже, новость о том, что вещи растащили, была безразлична. Изобразил он расстройство потому, что, как он полагал, такой реакции от него ждали. Досадно ему было лишь за то, что он просто так на протяжении суток мучился в «Газели» и трясся от страха, проезжая мимо гаишников.
– Вы какой чай пьёте? – спросила его хозяйка, когда засвистел чайник. – Ох, да я любой, – быстро повернув к ней голову, сказал Домрачёв.
Затем, помолчав, вытянул шею и, наблюдая за тем, как она раскладывает пакетики по кружкам, добавил:
– А какой у вас есть? – Я ж и спрашиваю, – с плохо сдерживаемым недовольством сказала она, прекратив наливать кипяток в первую кружку. – Какой-какой? Чёрный, зелёный. – Знаете, давайте-ка зелёного попробую, – сказал Степан Фёдорович, поджав губы и переведя взгляд на Гену. – Кем же вам дядя Жора приходился? – поинтересовался он, когда поймал на себе взгляд Домрачёва. – Дядей. По отцу. – По отцу… – повторила хозяйка, ставя кружки с чаем на стол. – Это такой коренастенький? Седой мужичок? Фёдором его, что ли? – Да-да, верно, – улыбнулся Степан Фёдорович. – Надо ж, – одобрительно закивала хозяйка, – отец ваш. И как он? Как здоровье? Давненько его не было. – Да помер же он, – улыбаясь, хмыкнул Степан Фёдорович и опустил голову.
Он закусывал губу от стеснения. Гена же одёрнул жену: – Ну ты что, дура, что ли? Дядя Жора ж на похороны уезжал, – взглянул он на Домрачёва взглядом, как бы говорящим: «Ну, бабы. Дуры – что с них взять?» – А мне ж почём знать, к кому? – огрызнулась она на мужа, обороняясь. – То есть помер отец, говорите, – тяжело вздыхая, медленно заговорила она.
И вдруг громко вскричала:
– Кать! Иди чай пить!
– Дочка наша, – обратилась она к Степану Фёдоровичу. – Сахар сами кладите – я не клала.
В кухню вошла девушка, с которой Домрачёв столкнулся в коридоре. Вошла тихо и почти незаметно, едва не на цыпочках. Поджав растрескавшиеся губы, она прошла по мягкому ковру и села на диван рядом со Степаном Фёдоровичем. По её лицу трудно было понять, что она чувствовала. Он на неё не взглянул даже после того, как она с ним поздоровалась. А на неё хоть одним глазком взглянуть стоило: приятное личико, мягкие длинные русые волосы, блестящие глаза, аккуратные ручки. Все городские, приезжавшие в Мешково, смотря на типичных его жителей и на неё, про себя поражались тому, как ей удалось сохранить красоту, дарованную ей природой. Во многих других когда-то миленьких деревенских детях врождённая красота уже к семнадцати годам улетучивалась: черты их лиц грубели, укрупнялись, сами они толстели, кожа жирнела, покрывалась угрями, а руки безвозвратно черствели, чернели. В Кате же ничего из перечисленного не проявлялось: она, напротив, с годами только хорошела, и когда-то неярко выраженные черты созревали и кружили головы местным парням. Да и мужикам тоже. К себе она относилась не сказать, что критически, но держала себя серьёзно и тихо, как мышка, хоть и гордо, с широко расправленными плечами и высоко поднятым подбородком. Во всех её движениях была лёгкость, которая только с виду казалась непроизвольной – на деле же она эту лёгкость в себе долго воспитывала. Превращаясь из девочки в девушку, училась не краснеть, не обращать внимания на деревенских простаков, учила себя анализировать поведение людей, тренировала свою походку, долго отучала себя от местного диалекта, много читала и мечтала. Чтение убило в ней неосознанную грубость, привитую воспитанием, и сформировало сострадание к людям. Испытывала Катя его не ко всякому человеку. Можно даже сказать, к редкому. Дядя Жора, сосед, был в числе этих людей. Были в этом числе и дети. Родителей она не жалела и жалеть не собиралась. Она намеревалась строить своё счастливое будущее за пределами этого и какого бы то ни было другого села. Катя мечтала о городе, о том, чтобы получить в нём образование. И если для осуществления этой мечты ей бы пришлось бросить родителей, она бы без раздумий это сделала, потому что считала их людьми чёрствыми, безразличными. Но, вообще говоря, Катя обманывалась насчёт них: они были далеко не чёрствыми, а очень даже сентиментальными людьми. Катя думала плохо про них, потому что они желали ей счастья, а потому многое ей запрещали. Неизвестно, какой бы она была, если бы не их воспитание. Родители исполняли любую прихоть дочери, если это ей не вредило, всех себя отдавали ей и, видимо, делали это так самоотверженно, что она перестала ощущать их влияние на себя и уверенно полагала, что того человека, которым она стала, создала самостоятельно.
– Красавица наша, – улыбаясь, обратилась хозяйка к Степану Фёдоровичу.
– Мам, – смутившись, Катя опустила голову и застучала ложкой по кружке, размешивая сахар, но затем слегка вздрогнула и стучать прекратила.
– Я и смотрю, – сказал Домрачёв, побурлив чаем. – Красавица, красавица.
– А это, Кать, Степан Фёдорович, э-э-э… Получается, племянник дяди Жоры, – представил гостя Гена.
– О, – Катя повернулась к Домрачёву, – неужели? – грубовато, с вызовом сказала она, но одёрнулась и добавила. – Хороший был человек Георгий Аркадьевич.
– Хороший-хороший, – согласился Домрачёв.
– Катя помогала ему по хозяйству последние месяцы, – сказал Гена, не дождавшись вопросов от Степана Фёдоровича. – Хорошо, что находятся люди, – ответил гость. – Куда государство смотрит? Вот действительно! Не было б Катерины, кто б человеку помогал? – А ведь и правда – никто, – сухо сказала Катя.
Домрачёв воспринял это плохо: ему показалось, что Катя гордится. Он прокряхтел несколько раз и снова сделал глоток чая.
– А вы когда ж обратно собираетесь? – спросила хозяйка. – Ну ты чего, совсем? – недовольно развёл руками Гена. – Только приехал человек, а ты уже выпроваживаешь. – Чего я выпроваживаю? – заволновалась хозяйка. – Я же спросила просто, когда домой. Так ведь? – она, улыбаясь, с мольбой взглянула на Степана Фёдоровича.
Он манерно улыбнулся и закачал головой, будто задумался. – Да ничего, – обратился он к Гене, – я тоже, бывает, не так мысль выражу.
Ему нравился Гена. Он не мог понять почему, но сознавал, что это так. Он повернулся к хозяйке.
– Ехать завтра думал. В обед, может. – Чего ж так рано? Побудьте хоть, – словно «отыгрывая очки вежливости» у мужа, с деланным расстройством сказала хозяйка. – Да я уж думал не задерживаться. Это ж протапливать надо, – Домрачёв взглянул на потрескивающую печку, – убираться. Из-за пары ночей, – со знанием дела махнул он рукой. – Возни больше. – Ну а сегодня же как? – обратилась к нему хозяйка. – Вы, знаете, что? Давайте-ка сегодня у нас оставайтесь, а завтра с Генкой разберётесь в доме, протóпите и хоть в деревне побудете. Воздухом хоть чистым подышите. – Ой, да что вы. Мне неудобно как-то, – засуетился Степан Фёдорович, – да и вас стеснять как-то не хочется.
Он и себе, и хозяевам боялся признаться: уже успел посчитать, что его приютят в этом доме на грядущую ночь. – Да, правда, – Гена коснулся его руки, – оставайтесь. Могли бы с вами на рыбалку сходить. Хоть завтра. – Ну ладно тебе, какая рыбалка, – попридержала мужа жена, – метель видел? – Пройдёт сейчас. Если уже не прошла. Ну так что, – обратился Гена к Домрачёву, – останетесь? – Куда ж деваться, – Домрачёв улыбнулся и расставил руки, изображая безвыходность своего положения.
Его движения выглядели так, как если бы замаскированный под человека инопланетянин прилетел на Землю и, не разбираясь в людских порядках, пародировал человеческое поведение. Было понятно, что Степан Фёдорович хотел выразить, но выглядело это так жеманно, будто всякое выражение чего бы то ни было давалось ему с большим трудом и в них, в этих выражениях, не было никакой искренности и понимания.
– Ну вот и хорошо, – засиял Гена. – Вы выпиваете? – быстро проговорил он, будто бы надеясь на то, что жена не успеет расслышать его слов. – Так, Ген, ну всё, пошёл в разнос! – сразу же, махнув полотенцем, рявкнула хозяйка. – Кончай давай! – прикрикнула она. – Чего ты начинаешь-то? – отклонился Гена. – Гостю дай выпить предложить. Самой бы положено предлагать, вообще-то. – Знаю я ваши «выпить»! Начнётся сейчас. И не закончится. – Эй-эй, ты давай кончай со своими замашками деревенскими. – Тоже тут нашёлся. Интеллигенция. Ну вы слыхали, а? – улыбаясь, обратилась она к Домрачёву, ища в нём поддержку.
Он смущённо прятал взгляд, закусывая улыбающиеся губы, и, гоняя крошку от песочного печенья по клеёнке, липкой от разлитого ещё за завтраком чая, порционно носом выдувал воздух. Он не решался встать ни на сторону мужа, ни на сторону жены. Катя же понимала, что родители бранились не всерьёз, но Степан Фёдорович это как шутку не воспринимал. Она старалась не краснеть, но было стыдно, и проклятая краска начинала покрывать её лицо. Почувствовав это, она вмешалась:
– Ну полно вам дурачиться – гости ещё не то подумают. Пусть выпьют, чего ты? – обратилась она к матери. – Ты давай в эти вопросы не лезь, – строго наказала мать. – Ладно, – подняв брови и широко раскрыв глаза, Катя взяла свою кружку и встала, – в комнате попью.
Она пошла к выходу из кухни. – Ну всё, ладно, стой. Куда ты пошла? – всполошилась мать, но дочь, не обернувшись, лёгкой походкой ушла прочь.
Домрачёв глянул ей вслед и не отвёл взгляда, даже когда она исчезла за стеной, ибо боялся поворачиваться к хозяевам: он чувствовал себя яблоком раздора. Хозяева молчали, будто только того и ждали, чтобы он повернулся. И правда, как только Домрачёв «вернулся» к столу, Гена, лихорадочно мотая головой и тряся руками, громким шёпотом яростно прошипел: – Вот чего ты? – уставился он круглыми, краснеющими глазами на жену. – Надо было тебе ляпнуть?
– Ну а чего я? Одёрнуть же надо, – хозяйка чувствовала свою вину.
Она часто это делала – чувствовала вину – но никогда не спешила раскаиваться. – Неча было пререкаться со мной, – грозно сказал Гена. – Она ж всё видит, чувствует. Мужик в семье слабину даёт, и она развязывается. Сколько раз говорил! – Ну, ладно-ладно, – заговорил растерянный Степан Фёдорович, – это я виноват. Сижу тут… – О, нет-нет-нет, – в один голос перебили его хозяева. Они даже стали отмахиваться от его слов руками.
– Это вы нас простите. Развели здесь цирк, – сказала жена и поднялась.
Они и вправду безотчётно сознавали, что эта перепалка – своего рода представление для городского гостя. Они боялись, что он заскучает, и, дабы этого не случилось, применяли любые средства. Видимо, от волнения (а они его испытывали не меньше, чем Домрачёв) ничего лучше супружеских перебранок им в голову не пришло.
Степан Фёдорович, когда хозяйка встала, заулыбался: ему нравилось, как Гена совмещал в себе суровую, но справедливую мужественность с трогательной нежностью по отношению к семье. Не успел он насладиться мыслями о Гене, как хозяйка поставила на стол бутылку водки, пару рюмок и банку огурцов. Гена оживился, потёр руки, откупорил бутылку и разлил её содержимое по рюмкам. Домрачёв неосознанно копировал манеру, мимику и жесты хозяина. Делал он это, правда, с небольшим опозданием, и при внимательном наблюдении за ним могло показаться, будто он передразнивает Гену.
– Нин, а ты не будешь, что ли? – спросил Гена жену, уже собираясь выпить. – Да куда мне с вами, – махнула она рукой. – Ну, тогда за приезд, – обратился он к Степану Фёдоровичу. – За приезд, – поддержал он и потянул рюмку к губам, но вовремя краем глаза заметил тянувшуюся к нему Генину рюмку и чокнулся с ним.
Выпили. Домрачёв пожмурился, покряхтел и хотел было потянуться за огурцом, но ждал, пока Гена это сделает первым. Тот же, сгустив брови, некоторое время наслаждался вкусом водки. Наконец он схватил огурец и откусил от него чуть не половину. Домрачёв, как скаковая лошадь по выстрелу, голодно кинулся на банку и, достав из неё огурец, целиком его проглотил.
– У меня в «Газели», кстати, ещё бутылка лежит, – простодушно сказал наивный Степан Фёдорович. – Ну, – быстро отреагировала Нина, – ладно. Вам и этого хватит. – Молчать! – не всерьёз пригрозил ей Гена.
Она жалостливо вздохнула и, не зная, куда деть руки, грустными глазами уставилась на мужа. Домрачёв этот взгляд почувствовал и, как ему показалось, понял. – Да это я так, – успокоил он её. – На всякий случай. Чтоб не бегать, если что.
Нина с ещё большим отчаянием вздохнула, повернулась к столешнице и, создавая иллюзию деятельности, загремела посудой. Гена посмотрел на жену и, не отводя от неё взгляда, добро сказал Степану Фёдоровичу:
– Да что ты, дорогой, куда нам? Этой-то много будет.
Хозяйка радостно улыбнулась, поразившись сознательности мужа. Пытаясь спрятать свою улыбку от мужчин, она взглянула в окно и увидела медленно сыплющиеся хлопья снега:
– А метель-то прошла, – сказала она.
– Конечно, прошла, – подтвердил Гена.
Домрачёв и Гена пили на протяжении часа. Гена пил крепко, по-мужски: водку он глотал основательно, медленно, смакуя. Выпив, не щурился, а, глубоко дыша ртом, счастливо улыбался, закусывал не всякий раз. Домрачёв же сначала пытался не отставать от хозяина, но на третьей рюмке терпение его лопнуло, и после неё он теперь каждый раз жадно, не успев проглотить водку, трясясь и кряхтя, лихорадочно тянулся к огурцам и с наслаждением хрумкал ими. «Хороши огурчики», – говорил он. Гена со всем, что говорил Степан Фёдорович, соглашался. И качество огурчиков он отрицать не стал. С Домрачёвым тем вечером вообще было сложно не соглашаться. Ну а как можно не согласиться с тем, что зимой холодно, в метель на улице неприятно, а «Газель» – не лучшее на планете транспортное средство? Сам же Гена рассказывал Степану Фёдоровичу о хозяйственных трудностях, о нехватке денег (дочь могла бы поступить летом в московский ВУЗ, но средств на её столичное содержание не было), о трудностях и прелестях сельской жизни. Когда он касался последнего вопроса, то невольно вздыхал, упирал лицо в здоровый кулак и мечтательно всматривался в потолок. Домрачёв проникался этим. Не тем, что Гена рассказывал. Нет, он проникался мироощущением хозяина. Степану Фёдоровичу даже показалось, что он до этого никогда не общался со столь чувственным, глубоким человеком. Размышляя об этом, Домрачёв ощущал в дряхлых мышцах рук приятные покалывания, по телу его пробегали мурашки. Замечтавшись, он почувствовал вставшие на предплечьях дыбом волосы и, смутившись, попытался незаметно их пригладить. На Нину он внимания не обращал. Только раз он заметил её, когда она выпила с ними рюмочку. Говорить она не хотела: ей было интересно слушать, о чём говорят мужчины. Голос Домрачёва действовал на неё очаровывающе. Монотонный шершавый голос звучал для неё как колыбельная, и у неё невольно слипались веки.
Постелили Степану Фёдоровичу в отдельной комнате, сочно пахнувшей древесиной, пылью и сном. Есть у сна запах, не поддающийся описанию. Какая-то теплота, что ли. Степан Фёдорович этот запах знал: он был знаком ему с детства. И, что странно, сейчас этот запах вызывал в Домрачёве мягко-тоскливое чувство ностальгии, хотя он прекрасно понимал, что детство своё и всякое воспоминание из него терпеть не может. Степан Фёдорович, накрытый плотным пуховым одеялом, лежал на мягкой, продавленной кем-то тяжёлым койке и чувствовал себя завёрнутым в кокон или скорее даже не завёрнутым в кокон, а спрятанным в черепаший панцирь. Он чуть ли не впервые в жизни испытал это детское чувство спокойной защищённости. Домрачёв мечтательно смотрел в потолок, заложив руки за голову, и вспоминал прошедший вечер. Всякий раз, натыкаясь на самые тёплые и гостеприимные мгновения прошедшего, он улыбался, закусывал губу, мотал головой и думал: «Вот чудаки».
На тёмном потолке теплела оранжевая полоска света от лампы. Засмотревшись, Степан Фёдорович медленно повёл по ней взглядом, перевернулся на живот и довёл полосу до входа в комнату Катерины. Едва он это сделал и вгляделся в дверной проём, силуэт Гены, увеличиваясь, пересёк столб света из этой комнаты.
Гена вошёл комнату и, держа в руках подушку с одеялом, сказал Домрачёву: – Нинка храпит как танк. Я у тебя тут посплю? – Конечно, – обрадовался Домрачёв, переворачиваясь на спину. Он даже не подумал о том, что сам храпит. – Вдвоём веселее будет, – добавил он. – Веселее-веселее, – шёпотом пробубнил Гена, с тяжёлыми вздохами ложась на койку, придвинутую к окну. – Всё читает, – гордо сказал он, повернувшись набок и взглянув на полосу света. – Молодец дочурка у вас, – похвалил Степан Фёдорович. – Да, – протянул отец, – она у нас умница. Ладно, Степан, будем спать. Завтра рыбалить ещё. – Да-да. Давненько не рыбалил. – Ага, – зевая, протянул Гена и ритмично задышал носом. – Ну, давай, спи.
Домрачёв перевёл взгляд на потолок и опять замечтался. Он вслушивался во вздохи хозяина. Дыхание Гены покрывало тело Степана Фёдоровича мурашками. Он пытался ещё несколько раз заговорить с хозяином, но тот в первый раз ответил односложно, а в последующие и вовсе не отвечал. В итоге Домрачёв унялся, повернулся на бок и с улыбкой на губах уснул.