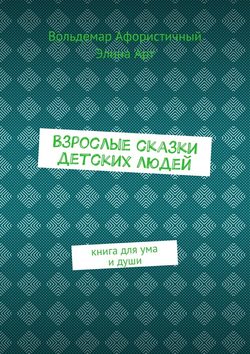Читать книгу Взрослые сказки детских людей. Книга для ума и души - Вольдемар Афористичный - Страница 13
Вольдемар Афористичный
Вероятное и невероятное из жизни замечательных людей
ОглавлениеЭпатажный философ античности
Диоген из Синопа исповедовал аскетизм. По этой причине он устроил себе жилище в пифосе – огромном глиняном кувшине, достигающем высоты человеческого роста (впоследствии Диогену приписывали проживание в бочке, хотя древние греки бочек не делали), – использовал плащ вместо постели, а из вещей имел лишь суму да посох. Диоген славился открытостью, скептицизмом, резкими и остроумными высказываниями об окружающих. Но главное, что отличало его от других философов – эпатажность.
Как-то великий полководец Александр Македонский посетил прославленного философа, когда тот грелся на солнце, подошел к нему и сказал: «Я – великий царь Александр». «А я, – ответил Диоген, – собака Диоген». «И за что тебя зовут собакой?» «Кто бросит кусок – тому виляю, кто не бросит – облаиваю, кто злой человек – кусаю». «А меня ты боишься?» – спросил Александр. «А что ты такое, – спросил Диоген, – зло или добро?» «Добро», – сказал тот. «А кто же боится добра?» Наконец, Александр сказал: «Проси у меня чего хочешь». «Отойди, ты заслоняешь мне солнце», – сказал Диоген и продолжил греться. Впечатленный этой беседой Александр впоследствии заметил: «Если бы я не был Александром, то хотел бы стать Диогеном».
Однажды Диоген читал философскую лекцию прямо на городской площади, но его никто не слушал. Тогда Диоген закричал по-птичьи, и вокруг собралась сотня зевак. «Вот, афиняне, цена вашего ума», – сказал им Диоген. – «Когда я говорил вам умные вещи, никто не обращал на меня внимания, а когда защебетал, как неразумная птица, вы слушаете меня разинув рты». Здесь Диоген демонстрирует нам прием, который порой используют выдающиеся ораторы, чтобы привлечь внимание публики и заставить задуматься хотя бы некоторых слушателей, сыграв на их самолюбии. К сожалению, в наше время мало кто из лекторов решается использовать этот весьма рискованный для их авторитета прием, хотя публика с тех давних времен по существу не изменилась.
Смысл же аскетизма Диогена заключается в том, что только максимальное самоограничение обеспечивает нам подлинную свободу и независимость.
Золотая ванна
Каждому школьнику известна история с древнегреческим ученым Архимедом, который, принимая ванну, открыл свой закон. Однако эта история имеет свое продолжение. После своего удачного открытия Архимед встречался не с одним ювелиром и вел с ними переговоры. После чего в городе Сиракузы, где жил славный ученый, открылось несколько ювелирных лавок под брендом «Эврика». В этой торговой сети владельцы гарантировали клиентам абсолютную защищенность ювелирных изделий от подделок благодаря применению нового метода известного ученого. Современники также свидетельствуют, что после внедрения своего открытия на ювелирном поприще ученый невероятно разбогател.
Человек как мера
Однажды древнегреческий философ Протагор сидел на веранде и наблюдал за строителями, которые занимались измерениями, используя в качестве измерительного инструмента свое тело (поскольку других измерительных инструментов в те времена еще не было). И тогда в голове великого мыслителя родилась фраза, положившая начало целой философии, названной впоследствии антропософией: «Человек – мера всех вещей».
О времена, о нравы!
Выдающийся римский оратор и политический деятель Марк Тулий Цицерон (в переводе на русский прозвище Цицерон соответствует фамилии Горохов или Нутов) с юных лет был очень тщеславным и целеустремленным человеком. Некоторые товарищи посмеивались над его прозвищем простолюдина и советовали, если он хочет делать карьеру оратора, сменить её на нечто более благозвучное. Несмотря на все их насмешки, Марк гордился прозвищем своих предков – потомственных фермеров – и обещал насмешникам прославить его наравне с аристократическими именами.
Популярность пришла к Марку, когда он, будучи молодым адвокатом по уголовным и гражданским делам, выступил в защиту Секстия Росция. Это было смутное время разложения римской аристократии, время передела земельной и недвижимой собственности, когда одни крупные собственники всеми правдами и неправдами, посредством шантажа, подкупа, наклепов и даже убийств пытались завладеть собственностью других крупных владельцев. Одной из жертв этого беспредела стал отец Секстия, который был убит, а его имущество путем подкупа и подлога было скуплено за бесценок. Гнусные убийцы и стяжатели, чтобы снять с себя подозрения выдвинули против Секстия обвинение в отцеубийстве. Благодаря усилиям и ораторским способностям Цицерона обвинения с Секстия были сняты. Именно тогда молодой адвокат, впервые столкнувшись с низкими нравами разлагающейся знати, в глубоком возмущении воскликнул: «O tempora, o mores!»
Впоследствии в истории человечества в том или ином месте, в то или иное время возникают обстоятельства, когда у хозяев жизни, обладающих определенной властью и богатством, возникает непреодолимый соблазн прихватить то, что весьма шатко или плохо лежит. В это время всегда приходит на ум знаменитое изречение великого оратора.
Жертвоприношения во имя науки и мира
Философ и математик Пифагор слыл одним из самых загадочных и мистических мыслителей Древней Греции. Пифагор был убежден, что математическими и астрономическими знаниями должны обладать только посвященные, создав нечто вроде религиозного ордена пифагорейцев; он приписывал числам некую магическую силу, которую они оказывают на все физические объекты, процессы и людей (в связи с этим Пифагора можно по праву считать основателем нумерологии). Сам он не оставил ни одного письменного свидетельства своих открытий. Даже свою знаменитую теорему, знакомую любому школьнику по рифмованной строчке, Пифагор начертал прутиком на песке. Рассказывают, что, когда Пифагор доказал эту теорему, он отблагодарил богов, принеся в жертву 100 быков.
Конечно, современникам покажется такой акт, если не варварским, то по крайней мере весьма иррациональным, имеющим лишь одну цель – возвеличивание своей особы. Однако уничтожение 100 быков одновременно – это лишь невинная забава знаменитого эллина по сравнению с жутчайшим экспериментом американского президента Рузвельта по уничтожению более чем 200 000 жителей двух японских городов, якобы во имя победы и мира.
Самая дорогая и самая бесполезная вещь души
Древнегреческий философ Сократ, прославившийся своими диалогами с простым людом (в которых он, в частности, отрабатывал свой эксклюзивный метод поиска истины – майевтику), никогда не обладал материальным достатком. Однако он любил ходить по базару и подолгу рассматривать разные вещи без малейшего намерения их купить.
– Зачем ты это делаешь? – спрашивали его друзья и ученики.
– Мне очень любопытно, как много люди создали дорогих и совершенно бесполезных вещей, – отвечал философ.
Уча граждан самостоятельному, критическому мышлению, делая их духовно свободнее, Сократ стал опасен для правящих кругов Афин, но особенно для процветающих софистов, подвергая острой иронии их казуистику, конечная цель которой – личная выгода. Самый верный способ в демократических Афинах приструнить возмутителя спокойствия, борца против обывательской покорности и легковерия, нейтрализовать опасного конкурента во влиянии на умы – затеять против него судебный процесс. Что и было предпринято недругами Сократа. На основании сомнительных свидетельств по наущению врагов в результате судебного процесса Сократ был обвинен в не почитании богов и развращении молодых умов. В древних Афинах обвиненному на его выбор предлагали обычно два альтернативных наказания. Согласно Платону Сократу предложили штраф или смерть путем принятия яда. Сократ с героической гордостью отказался от штрафа, говоря, что заслуживает не наказания, а высшей чести Афин – обеда в пританее за государственный счет.
Перед тем как принять яд, Сократ вспомнил ответ ученикам, печально улыбнулся и сказал:
– Вот и моей душе совсем скоро предстоит расстаться со столь дорогой ей, но уже совершенно бесполезной вещью…
Затем он попросил своего друга Критона принести в жертву Асклепию петуха (обряд, совершаемый в знак благодарности за выздоровление), намекая этим, что воспринимает свою смерть как выздоровление, освобождение от земных оков.
…Так ушел из жизни один из самых великих и героических философов древности.
Сарказм полководца
Когда древнегреческий полководец, фиванец Эпаминонд вернулся с победой из Лаконики, его вызвали в суд и предъявили обвинение в том, что он на 4 месяца дольше предписанного занимал должность беотарха – главнокомандующего, – причиной чему явился победоносный поход. В свою защиту Эпаминонд сказал судьям:
– Моя речь уступает моим делам. Если вы решите предать меня казни, то я прошу на могильной плите начертать такие слова: «Знайте, эллины, что Эпаминонд против воли фиванцев разгромил Спарту, которая на протяжении 500 лет была непобедимой. Он восстановил Мессену, которую никто не отстраивал 230 лет. Он же освободил эллинов от порабощения и дал им независимость. И все эти деяния он осмелился совершить в одном походе, в чем и заключалась его вина».
Выслушав речь обвиняемого, смущенные судьи разошлись, даже не притронувшись к камешкам для голосования.
Этот яркий пример говорит нам, что бюрократический формализм существовал и в древности, но в отличие от современных бюрократов, античные бюрократы, таки, имели совесть.
Ошибочная идея
Знаменитый философ античной Греции Платон считал началом всего сущего – идеи, которые реализуются в том или ином предмете посредством трансформации материи. В философских диспутах он пытался доказать, что всякая конкретная вещь как бы «причастна» к своей к идее. Такие рассуждения смешили киника Диогена из Синопа – того, самого, что жил в огромной глиняной бочке, врытой в землю. Как-то Платон сформулировал определение, приведшее в восторг его учеников: «Человек есть животное на двух ногах, лишенное перьев». Тогда Диоген ощипал петуха и, принеся его в рощу Академа (где Платон проводил свои беседы с учениками), объявил: «Вот платоновский человек!» После этого конфуза Платон добавил к своей формулировке уточнение: «И с широкими ногтями».
Так остроумный Диоген продемонстрировал, как неверная идея, существующая в голове отдельного человека, приводит к порочному результату.
Нестандартный ответ
Вы, наверное, удивитесь, но уже в Древней Греции существовал некий прообраз теста на способности. В образовательную школу старались принимать только способных детей. На вступительном экзамене одной из школ ребенку задавали только один вопрос – что бы он выбрал: одно целое яблоко или две половинки? Если ребенок выбирал целое яблоко, его зачисляли в школу. Считалось, что одно целое – это олицетворение законченности и гармонии, в отличие от суммы его частей. Если же ребенок выбирал две половинки, предполагалось, что у него низкий уровень интеллекта, так как две половинки он считает больше, чем одно целое.
Один ребенок не выдержал экзамен. Родители спросили его: «Почему ты выбрал две половинки, а не одно целое яблоко?» Ответ был вполне убедительный, но не вписывающийся в парадигму теста: «Выбрав целое яблоко, как я мог бы узнать, червивое он или нет, не разломив его на две половинки». Имя этого рассудительного ребенка – Эвклидис (впоследствии создатель эвклидовой геометрии).
Молчаливый вердикт
Дионисий Сиракузский был хитрым тираном и весьма одиозной фигурой. Он даже поручил важную должность жалкому субъекту только для того, чтобы в Сиракузах на виду у всех был кто-нибудь, кого бы презирали больше, чем его самого. Дионисий мнил себя великим поэтом, хотя, по сути, был банальным стихоплетом. Поэт Филоксен написал остроумную пародию на творчество Дионисия, высмеивающую безвкусие тирана. За это Дионисий отправил Филоксена на исправительные работы в каменоломни.
Через некоторое время Дионисий вызвал Филоксена во дворец, чтобы тот выслушал и оценил его новые стихи. По этому случаю был накрыт стол. Истощавший и склонный к обильной пище Филоксен много ел, пил, внимательно слушал стихи Дионисия, затем молча поднялся и направился к двери.
– Куда ты направился? – спросил тиран.
– Государь, я возвращаюсь в каменоломни, – ответил тот.
Отважный и сметливый поэт из глубины веков своим примером показывает нам, что даже из ситуации морального выбора можно извлечь пользу, оставаясь верным своим принципам.
Презрение к сенату или политическая целесообразность?
Римский император Калигула, он же Гай Юлий Цезарь, из всех римских императоров пользующийся, пожалуй, самой дурной славой, был человеком взбалмошным, вздорным, необычайно жестоким и развратным. Своими эксцентричными выходками он просто поражал воображение современников. Следуя принципу «пусть ненавидят, лишь бы боялись», он буквально наводил ужас на своих родственников и приближенных. Однако некоторые из нововведений императора пришлись по душе народу. Так, памятуя о священном лозунге римских императоров «хлеба и зрелища», Калигула приказал давать представления в цирках с утра до вечера и при каждом представлении швырять в народ монеты.
Однажды Калигуле показалось, что в сенате недостаточно старательно отдают ему почести. И он приказал ввести в состав сената своего любимого коня, огласив указ: «Коню моему, Инцитату, оказывать такие же почести, как и мне». Когда ненавистный император был убит, народ выступил против вывода коня из сената, потому что в отличие от других законодателей, Инцитат за взятки не продавался, дурных законов не принимал и требовал совсем немного на свое содержание.
Уверен, что если даже третью часть самых никчемных и продажных депутатов Верховной Рады, следуя этому историческому примеру, заменить на коней, то в украинском парламенте ровным счетом ничего бы не изменилось, разве что рацион в парламентском буфете. Народ же Украины от этой удачной рокировки только бы выиграл по тем же причинам, что и народ Древнего Рима.
Поучительная мифология
Древнегреческий завоеватель огромных территорий в Азии Александр Македонский с измальства отличался крутым нравом. В ранней юности он обучался игре на кифаре. Однажды учитель велел ему ударить по одной струне, как того требовала мелодия песни, а
Александр, показав на другую, сказал:
– Что изменится, если я ударю вот по этой?
Учитель на минуту задумался, вспомнив эпизод из мифа о Геракле. Учитель по имени Лин учил мальчика Геракла играть на кифаре и, когда тот взялся за дело неловко, рассердился. В ответ на это раздраженный Геракл ударил учителя плектором и убил…
– Ничего, – ответил учитель, – для того, кто готовится управлять царством, но много для желающего играть искусно.
Юного Александра восхитил столь изящный ответ учителя, и он отблагодарил его, заплатив жалованье за несколько месяцев вперед.
Скромность Катона
Катон Старший – древнеримский писатель, основоположник римской литературной прозы и государственный деятель – всю жизнь боролся против пороков, роскоши и римской аристократии. Однажды к знаменитому Катону обратился один из его горячих сторонников и сказал:
– Это возмутительно, что до сих пор в Риме тебе не поставлен памятник! Этим следует заняться.
– Оставь, – ответил ему Катон. – Я предпочитаю, чтобы люди говорили: «Почему у Катона нет памятника?», чем они будут задаваться вопросом: «Почему это Катону поставили памятник?»
Мудрость Лао-Цзы
Древнекитайский мыслитель Лао-Цзы не всегда был мудрым. Однажды в юности он сморозил такую глупость, что над ним потом долго потешались опытные взрослые. Уже будучи умудренным философом, Лао-Цзы вспомнил этот неприятный эпизод своей молодости и написал знаменитый афоризм: «Если ты произвел на свет мысль, подвергни ее осмеянию». Ведь, философ на собственной шкуре испытал, что значит быть осмеянным окружающими. Уж лучше за них это сделать самому.
Высокомудрая мать и глупая дочка
У немецкого математика, астронома, механика и оптика Иоганна Кеплера было нелегкое детство. Он годами не видел отца, который служил наемником. Его мать содержала небольшой трактир, подрабатывая гаданием и траволечением. Однако проявляя недюжинные способности, Кеплеру удалось блестяще закончить университет. Будучи придворным математиком и астрономом, Кеплер испытывал нужду, так как жалованье было небольшим и часто задерживалось. Ученого выручала астрология, в которую он не очень-то верил. Вот что он сам писал об этом в своих откровениях: «Конечно, эта астрология – глупая дочка, но, Боже мой, куда бы делась её мать, высокомудрая астрономия, если бы у неё не было глупенькой дочки! Свет ведь ещё гораздо глупее и так глуп, что для пользы этой старой разумной матери глупая дочка должна болтать и лгать. И жалованье математиков так ничтожно, что мать, наверное бы, голодала, если бы дочь ничего не зарабатывала».
Чтобы прокормить свое немалочисленное семейство, ученый вынужден был составлять гороскопы для богатых людей, ведь многие в то время путали астрологию с астрономией. Поскольку в составлении гороскопов много общего с гаданием – на картах или на кофейной гуще – пригодился опыт матери, которая передала Иоганну кое-какие секреты своего ремесла. Именно благодаря публичной репутации искусного астролога, а вовсе не благодаря своим научным трудам и нескольким книгам по астрономии, известным лишь в среде ученых, Кеплер сводил концы с концами.
Прошло четыре века, но в обыденном сознании отношение к астрологам и астрономам мало изменилось. А отношение к истинным ученым нашего государства ничем не лучше, чем в средневековой Германии.
Все умы должны вертеться вокруг…
Джордано Бруно был смелым натурфилософом, который боролся против невежества в области естествознания и космологии, насаждаемого церковью. Его роль в утверждении в Европе эпохи Возрождения неоценима. Его дух непримиримого нонконформиста проявился уже в молодые годы, когда, будучи монахом, он категорически не соглашался со многими церковными догматами, в частности: о непорочном зачатии девы Марии, о Божественной каре за земные грехи, о Боге как вершители судеб человеческих. Главная же ересь, за которую он был осужден Римско-католической церковью и отправлен на костер – доказательное ниспровержение (на основе опытных наблюдений и трудов астронома Коперника) представления церкви о Земле как главном творении Господа во вселенной, вокруг которого должны вертеться все иные планет подобно тому, как вокруг церкви должны вертеться все социальные институты, в том числе и те, которые связаны с просвещением.
Восемь лет томился Бруно в застенках римской инквизиции, но дух его за это время был несломлен – он остался верен своим выстраданным убеждениям. Последними его словами на суде были: «Вероятно, вы с большим страхом выносите мне приговор, чем я его выслушиваю. Сжечь – не значит опровергнуть!»
Мы можем с полным правом считать Джордано Бруно первым человеком, который сознательно и бескомпромиссно обрек себя на мучительную смерть ради торжества научной истины. Чем не Христос в науке?! Кстати, несмотря на то, что через три столетия благодарные потомки увековечили память о героическом натурфилософе в виде памятника на той площади, на которой он был заживо сожжен, католическая церковь до сих пор не считает решение суда инквизиции ошибкой.
Только после меня
Свою первую знаменитую экспедицию мореплаватель Христофор Колумб задумал за 20 лет до её осуществления. Потребовалось 20 долгих лет, прежде чем Колумб добыл средства и получил разрешение Её Величества Кастилии на организацию исследовательской экспедиции по поиску западного морского пути в Индию. Успешно завершив экспедицию и вернувшись домой, Христофор Колумб почивал на лаврах первооткрывателя, как тогда ошибочно считалось, Вест-Индии.
Однажды известный путешественник попивал славное испанское вино в трактире, когда к его столу подошел на подпитии один завсегдатай сего заведения и, бахвалясь, заявил, что любой дурак мог бы открыть новые земли, плывя все время на запад на хорошо снаряженных судах. «Любой дурак, говоришь», – задумчиво произнес Колумб, вспоминая все свои мытарства, предшествующие осуществлению заветной мечты. И тут взгляд путешественника упал на вареное яйцо, лежащее на столе: «А ну-ка, сделай так, чтобы это яйцо стояло!» Озадаченный завсегдатай повертел яйцо в руках и передал его Колумбу, чтобы тот продемонстрировал, как это можно сделать. Колумб поставил яйцо на стол и просто прижал его к столу, приплюснув низ так, что яйцо не опрокинулось. «Ха, я так тоже могу», – хмыкнул заносчивый завсегдатай. «Да, но с одним лишь отличием – только после меня», – поставил на место зарвавшегося спорщика неутомимый мореплаватель.
Подделка гения или шедевр эпохи Возрождения
Леонардо да Винчи – выдающийся художник, мыслитель, естествоиспытатель и разносторонний изобретатель эпохи Возрождения – был склонен к мистификации. Многие искусствоведы до сих пор спорят о том, что же зашифровал Леонардо в своих знаменитых картинах, таких как « Мадонна в гроте» или «Тайная вечеря», а «Джоконду» некоторые даже считают завуалированным автопортретом художника. Однако главной гениальнейшей мистификацией живописца и ученого стала Туринская плащаница – ныне главная христианская святыня.
Леонардо чрезвычайно увлекали оптические и химические опыты, результатом которых стала удивительная находка естествоиспытателя, Во-первых, он установил, что нитрат серебра темнеет под воздействием света. Во-вторых, если на заднюю стенку камеры-обскура спроецировать изображение от какого-либо объекта, предварительно нанеся на эту стенку нитрат серебра, а затем поместить эту стенку в соляной раствор, то мы получим некую размытую копию данного объекта. Так Леонардо более чем за три столетия до появления первой фотографии собственно изобрел её, но оставил это изобретение в тайне.
В 1494 году приверженцы таланта Леонардо выставили в Турине новую копию плащаницы Иисуса (погребального полотнища, на которое было возложено тело Христа после его распятия, и которое якобы чудодейственным образом явило нам образ Спасителя) взамен рисованной копии – более очевидной подделки. Новый реликт выглядел убедительней и лучше справлялся со своей функцией – поддержание в людях религиозного благоговения. Предполагается, что Леонардо в качестве натуры для фотографического изображения взял вылепленную им самим скульптуру Иисуса с чертами лица, имеющими определенное сходство со своими собственными чертами, со следами от гвоздей и от копья, которым был пронзен Иисус во время казни, а на заднюю стенку камеры-обскура повесил древнее полотно, покрытое нитратом серебра. После экспонирования, время которого было заведомо определено опытным путем, художник-экспериментатор поместил полотно в соляной раствор и таким образом получил неясное и загадочное изображение Христа.
У Леонардо были сложные отношения с католической церковью. Поэтому его гениальное творение, предвосхитившее на три века появление фотографии – Туринская плащаница, – могло бы стать основанием для компромисса между гением исследователя и диктатом церковного мракобесия: мол, я (Леонардо) храню секрет своего творения и стоящего за ним изобретения, а церковь не препятствует появлению моих новых изобретений и произведений.
Иуда эпохи Возрождения
Леонардо да Винчи долго не мог закончить свое полотно «Тайная вечеря». Камнем преткновения явился облик Иуды. В течение года гений эпохи Возрождения посещал район, где жили все мошенники и негодяи, чтобы подыскать убедительное злодейское лицо. В конце концов, Леонардо нашел личность ничем не примечательной наружности, но с весьма впечатляющей историей. Этот господин своего одиннадцатилетнего сына отдал в услужение одной семье. Мальчик должен был работать за кусок хлеба с восхода до заката, а его основное жалованье забирал отец. По сути, ребенок был продан в домашнее рабство. Когда Леонардо спросил отца-работорговца, почему он это сделал, тот невозмутимо объяснил, что в кругу своей семьи от мальчика не следует ожидать такой отдачи, как в том случае, когда он находится в услужении чужой семье; ведь близкие по отношению к мальчику всегда будут более снисходительны, чем чужие.
Нордический ученый
Карл Линней с раннего детства был собранным и упорядоченным ребенком. Он с завидным упорством собирал различные природные объекты – камешки, ракушки, листики, бабочек и прочих насекомых, – а затем сортировал их по различным признакам и разлагал по полочкам. Чем больше взрослел Карл и чем более образованным становился, тем более усложнялась его система классификации. В конце своей жизни Линней дошел до бинарной номенклатуры с систематическими категориями, а его коллекция разрослась до нескольких тысяч экземпляров и составила огромную ценность не только для науки, но и в денежном выражении. Вот так пустяковое детское увлечение коллекционированием окупилось сторицей, а врожденная склонность к порядку родила великого ученого-классификатора.
Идеальная классификация
Однажды знаменитый английский писатель, отличающийся недюжинным остроумием, Джонатан Свифт обратился к не менее знаменитому естествоиспытателю, создателю единой системы классификации растительного и животного мира Карлу Линнею с вопросом:
– Уважаемый господин Линней, не могли бы вы мне подсказать, как по вашей классификации называется зверь, у которого пять ног и шесть рог?
– Глубокоуважаемый метр, – ответил педантичный натуралист, ревностно относящийся и к языку, – во-первых, не рог, а рогов; а во-вторых…, – тут Линней на некоторое время замешкался и честно признался, что не знает.
– Как! – изумился Свифт. – Это же предельно просто! Он называется гексацерас пентапод, то есть шестирогий пятиног.
Спасительная формула
Как-то раз французский ученый Гаспар-Гюстав Кориолис, обосновавший ныне всем хорошо знакомую со школьной скамьи формулу кинетической энергии «эм вэ квадрат пополам», так спешил на лекцию, что по рассеянности натолкнулся на каменную колонну и от удара головой потерял сознание. Придя в себя, он начал твердить странную фразу:
– Хорошо, что пополам, очень хорошо, что пополам…
Сбежавшиеся к месту происшествия студенты успокаивали своего профессора, клятвенно заверяя, что голова его, к счастью, цела, да и колонна, похоже, не пострадала.
– Да не о том речь! – вдруг с досадой перебил их Кориолис.
– Хорошо то, что в моей формуле кинетической энергии «эм вэ квадрат» делится пополам. А если не делить пополам, как предлагал Гюйгенс, тогда уж точно моя голова раскололась бы пополам!
Неудачная демонстрация
Однажды выдающийся астроном Камиль Фламмарион вызвал печника, чтобы исправить отопление. В кабинете ученого мастер совершенно забыл о деле и застыл как вкопанный перед глобусом. Наконец, после долгого созерцания он спросил, правда ли, что Земля вращается на железной оси, как у глобуса? Фламмарион стал объяснять, что планета несется в космическом пространстве, вращаясь вокруг воображаемой оси, которая на глобусе заменена железной. Поскольку печник никак не мог взять всего этого в толк, увлекшийся ученый снял глобус с оси и прибегнул к наглядной демонстрации – подбросил шар в воздух, одновременно придав ему вращение. По-видимому, толчок был слишком сильным – глобус, который Фламмарион не сумел поймать, упал на пол и раскололся.
– Вот видите, мсье, – назидательно заметил мастеровой. – Все-таки у Земли должна быть железная ось.
Вот так одна спонтанная и непродуманная демонстрация ученого, закончившаяся неудачей, может укрепить в народном сознании антинаучный предрассудок.
Голова учено – гордость и позор Франции
Гениальный французский исследователь Антуан Лоран Лавуазье, которого можно по праву считать основателем неорганической химии, привык ни в чем себе не отказывать. Ведь он родился в семье прокурора Парижского парламента и рос в достатке. Несмотря на старания отца наставить способного юношу на путь истинный – подъем по карьерной юридической лестнице, – ищущий Антуан не на шутку увлекся естественнонаучными изысканиями и решил посвятить себя науке. Однако жизнь истинного ученого, сопряженная с множеством лишений, была не очень-то по вкусу молодому человеку, привыкшему жить со вкусом. И вот однажды Лавуазье подвернулся счастливый случай (как впоследствии оказалось – роковой): он вступил в генеральный откуп. Откупщик – это тот же сборщик налогов, только частный, покупающий у государства право на эту деятельность. Выгодное предприятие дало возможность ученому не только благополучно устроить свою личную жизнь (Лавуазье женился и приобрел имение), но и значительную часть дохода от него направить на многочисленные научные опыты. Как народ в предреволюционной Франции «любил» откупщиков говорить не приходится, только после революции, в 1794 году конвенту был представлен рапорт, в котором Лавуазье вместе с другими членами «Компании откупов» были предъявлены весьма туманные, но серьезные обвинения. Через четыре дня Лавуазье бы приговорен к смерти. Другой химик Луазейль написал в трибунал просьбу об отсрочке казни, ссылаясь на выдающиеся заслуги ученого. Ответ революционеров-террористов был краток: «Республика не нуждается в химиках». На следующий день, 8 мая, нож гильотины оборвал жизнь 50-летнего Антуана Лавуазье. «Всего мгновение потребовалось им, чтобы срубить эту голову, а и во сто лет не будет такой другой», – сказал о его смерти математик Лангранж. Через два года Лавуазье был посмертно реабилитирован.
Потребовалось еще более века, чтобы за головы таких ученых стали давать огромные премии, а не рубили их сгоряча.
Остроумие – бог Вольтера
Французский просветитель, философ и писатель Вольтер недолюбливал докучливых почитателей и новоиспеченных писателей, жаждущих оценки своих творений у знаменитого метра. Хотя были и исключения. Так один ученый, желая видеть Вольтера, приехал к писателю и долго ждал его в гостиной. Но Вольтер так и не появился. Перед отъездом гость написал хозяину: «Я Вас считал богом и теперь окончательно убедился в своей правоте, так как увидеть Вас невозможно». Вольтеру так понравилась эта острота, что он догнал её автора, чтобы пожать ему руку. А один молодой драматург, добившийся всеми правдами и неправдами приема у великого француза, попросил Вольтера прослушать свою новую пьесу. Прочитав ему свое произведение, он с нетерпением ждал мнения именитого писателя. После некоторого раздумья Вольтер дал свой совет начинающему драматургу: «Такие вещи вы можете писать, но гораздо позднее, когда станете пожилым и знаменитым. А до этого вам надо написать что-нибудь получше».
Сон Паскаля
Блез Паскаль был чрезвычайно любознательным и способным ребенком, обладающим тонкой душевной организацией. Отец всячески поощрял детскую любознательность Паскаля в познании материального мира, мира чисел и пространственных отношений, но совершенно не удовлетворял эмоциональный голод его чувствительной души. В результате Паскаль: в 16 лет доказывает теорему, названную его именем; в 18 лет изобретает счетную машину – предшественницу арифмометра; в 24 года, проводя опыты с атмосферным давлением, устанавливает единицу атмосферного давления.
Но вот в возрасте 25 лет в жизни Паскаля наступает резкий поворот. Он оставляет все занятия математикой и физикой, начинает жадно читать философские и богословские книги, и за оставшиеся 14 лет своей непродолжительной жизни сам сочиняет ряд философских и теософских трактатов. Этому перелому предшествовал следующий сон. За спиной Блеза стоят два ангела. Один ангел со спокойным и бесстрастным лицом, другой – с грустной улыбкой, излучающей печаль и любовь. Блез спрашивает второго ангела: «Почему твоя улыбка так печальна?» Ответ ангела был краток и глубок: «Мне печально оттого, что много познав, ты так мало понял».
Впоследствии через все философские труды Паскаля красной нитью проходит идея о единстве двух начал в человеке – рационального и чувственного, где высшее чувство есть любовь. Вторая важнейшая мысль, следующая из расшифровки своего сна, заключалась в том, что рациональное и чувственное начала являются равноценными. Рацио, разум позволяет познать мир неодушевленных объектов, а чувство – мир одушевленный, и чтобы познать другого человека, нужно быть с ним в одном и том же эмоциональном и экзистенциальном поле, то есть почувствовать, вчувствоваться в то, чем живет этот человек. К слову сказать, идея о воплощении актером познания своего персонажа на сцене пришло в голову другому гению – Станиславскому.
По ту сторону разума
Однажды французский философ Декарт, который не только абсолютизировал свой разум, но и верил, что мысли непременно реализуются, посетил театр, где игралась драма. Увлеченный сюжетом, философ отвлекся от своих мыслей, расчувствовался и… исчез.
Хитроумный Дидро
Как-то к известному французскому драматургу, писателю, философу и просветителю XVIII века Дени Дидро явился молодой человек, который попросил прочитать свое сочинение. Рукопись оказалась злой сатирой на Дидро.
Закончив читать, Дидро обратился к посетителю:
– Милостивый государь, я с вами не знаком и теряюсь в догадках, какое зло я мог вам причинить. Чем объясняются ваши нападки?
– Мне очень нужны деньги, – сказал юноша в надежде, что Дидро заплатит ему, чтобы отвязаться.
– Понятно, – спокойно ответил Дидро. – Вы не первый, кто добывает себе пропитание шантажом. Всегда найдутся желающие заплатить за молчание. Однако вы можете извлечь гораздо больше пользы из вашего пасквиля, если отнесете его герцогу Орлеанскому. Он терпеть не может меня и заплатит намного больше за эту тетрадку, чем я сам.
Шантажист забрал свою рукопись и отнес ее герцогу, который, как и предсказывал Дидро, щедро ему заплатил. После этого шантажист даже пришел поблагодарить философа.
На первый взгляд поступок Дидро кажется странным, если не сказать абсурдным. Однако при более глубоком рассмотрении, безусловно, писатель был заинтересован в том, чтобы пасквиль опубликовали от имени герцога Орлеанского, а не от имени никому неизвестного автора. Ведь в глазах общественности первый зарекомендовал себя как злостный противник Дидро и, следовательно, не смог бы переубедить ту часть публики, которая скорее была благосклонна к Дидро нежели к герцогу.
Слово чести превыше строгого доказательства
Французский ученый Жан Лерон Даламбер имел благородное происхождение. Однажды после долгих и безуспешных попыток втолковать доказательство математической теоремы одному из своих знатных учеников, не отличающемуся особым интеллектом, Даламбер в отчаянии воскликнул:
– Даю благородное слово, эта теорема верна!
Реакция непонятливого ученика была мгновенной:
– Сударь, этого совершенно достаточно! Вы человек чести, и я человек чести, и ваше заверение – лучшее из доказательств.
Великодушный жест императора
Наполеон Бонапарт был большим ценителем изобретения итальянского физика, химика и физиолога Александр Вольта —«вольтова столба» (источника постоянного электрического тока). Император Французов небезосновательно считал, что за этим изобретением – большое будущее (и в этом предположении оказался абсолютно прав!). В 1801 году изобретатель получил от Наполеона титул графа и сенатора. А однажды Наполеон, увидев в библиотеке академии лавровый венок с надписью: «Великому Вольтеру», стер последние буквы таким образом, что получилось: «Великому Вольте». А чтобы не обидеть душу покойного философа, сопроводил свое действие следующими словами: «Вольта – это, значит, пол-Вольтера».
Оригинальное решение полководца
Как-то во время проверки караулов Наполеон Бонапарт обнаружил часового, спящего на своем посту. По законам военного времени и по военному уставу солдат должен был предстать перед трибуналом, а затем его должны были расстрелять, поскольку не могло быть пощады часовому, который, заснув на посту, подверг опасности жизни своих товарищей. Великий полководец не разбудил спящего солдата, поднял его ружье, вскинул его себе на плечо, а потом занял пост заснувшего часового. Когда через некоторое время прибыла смена караула, изумленный сержант увидел, что часовой спит, а на посту стоит император. Так Наполеон не только эффективно усовестил солдата (который навряд ли больше допустит такого расслабления на посту), при этом сохранив ему жизнь, но и блестяще пропиарился в глазах простых солдат как великодушный и заботливый военачальник.
Бывают случаи, когда великодушием можно добиться большего, чем формальным соблюдением закона и правил, и умный лидер не преминет умело воспользоваться этим случаем.
Историческая аллюзия
Шарль Морис де Талейран был при Наполеоне Бонапарте министром иностранных дел. Благодаря хитросплетениям талантливому политику удавалось выполнять сложные, деликатные дипломатические миссии. Этот человек умел так говорить, что, даже зная, что он обманывает, ему поневоле верили. Именно Талейрану принадлежит крылатая фраза: «Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли». Когда этот виртуоз дипломатии умер, кто-то из дипломатов спросил: «Интересно, с какой целью он это сделал?»
Свою стремительную карьеру Талейран начал, будучи епископом. В 1789 году он стал на сторону революционных сил, но при этом не забыл о своем принципе: «Прежде всего – не быть бедным». Когда королевский двор предложил ему крупную взятку с предложением перейти на свою сторону, он отказался. «В кассе общественного мнения я найду много больше того, что вы мне сейчас предлагаете, – пояснил дальновидный министр. – Деньги же, получаемые от королевского двора, в будущем приведут к гибели».
Судьба Талейрана мне весьма напоминает судьбу одной всем известной персоны современности, если карьеру епископа заменить на карьеру крупного постсоветского предпринимателя, а королевский двор – на коллаборационистский олигархат. Хотя натура нынешнего «героя» – лишь бледная тень великого дипломата.
Хитрость сатирика
Однажды великий французский сатирик Франсуа Рабле очутился в денежном затруднении и ему нечем было заплатить за проезд из Лиона в Париж. Но не в натуре Рабле было унывать и ждать у моря погоды. Он насыпал в три бумажных пакетика сахарного песку, надписал на них: «Яд для короля», «Яд для королевы», «Яд для дофина». Затем положил их на видном месте.
Служанка гостиницы, убирая комнату, прочла надписи и побежала к хозяину. Тот вызвал стражу. Рабле схватили и под конвоем отправили в Париж. Представ перед прокурором, он поторопился признаться в своей проделке и на глазах у блюстителя закона проглотил «яд».
И вся та научная жизнь – борьба
Всем известна легендарная история с яблоком, упавшем на голову Исаака Ньютона и возникшим после этого в голове ученого закона всемирного тяготения. Но мало кому известно, что между гениальным озарением ученого и обнародованием его результата лежал промежуток в 20 лет! Причиной тому была вовсе не возможная амнезия, последующая в результате удара головы увесистым яблоком, а обидчивость и подозрительность ученого, возникшие не на пустом месте. Однажды Ньютон уже был научен горьким опытом борьбы за признание первенства открытия в научном мире. Предметом этой борьбы, развернувшейся между Ньютоном и Лейбницем, стали интегральные и дифференциальные исчисления. Как известно, более напористый Лейбниц, пользующийся защитой многочисленных покровителей, одержал вверх.
После этого Ньютон не спешит публиковать свои работы. С желчным раздражением пишет он о реалиях жизни ученых: «…Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на защиту своего открытия».
Набожный тиран и безбожный диктатор
Беспощадный тиран и первый царь всея Руси Иван Грозный был до фанатизма набожным человеком. Впрочем, это не мешало ему жестоко казнить сотнями неугодных ему людей и подвергать репрессиям целые города и области. Так, опираясь на своих верноподданных опричников, он лично учинил новгородский погром, поводом для которого послужило лишь предположение болезненно подозрительного царя о том, что излишне свободолюбивые новгородцы желают перейти к Литве. Такая же участь ждала и ненадежных псковичей, если бы не вмешательство юродивого Николы Салоса. Блаженный встретил царя смелыми проклятиями, заклинанием, руганью и угрозами, называл его кровопийцей, пожирателем христианской плоти, клялся, что царь будет поражён громом, если он или кто-нибудь из его войска коснется с преступной целью хотя бы волоса на голове последнего из детей этого города. Гневная речь блаженного, которого горожане почитали за оракула, возымела действие на суеверного Грозного несравненно большее, чем обвинение его в богопротивных деяниях первосвященником Филиппом (митрополит Филипп был собственноручно задушен первым помощником царя в делах расправы над неугодными Малютой Скуратовым). Иван Грозный содрогнулся от слов Николы и просил его молиться об избавлении и прощении своих жестоких замыслов, сам же, так и не учинив расправы над псковичами, ушел восвояси. За этот подвиг церковь причислила Николу Салоса к лику святых.
Три века спустя русская церковь обсуждала и вопрос канонизации Ивана Грозного, но эта идея встретила категорическое осуждение большинством священноначалия. Впрочем, у нынешней русской церкви появился шанс канонизировать настоящего российского диктатора под предлогом объединения бывших земель Российской Империи, который, как и некогда Иван Грозный, наказывает мирное население некоторых областей, подвергая их бессмысленному и беспощадному обстрелу из тяжелой артиллерии. Искренность религиозной веры теперешнего диктатора России крайне сомнительна. Так что нет никакой надежды на нового Николу Салоса.