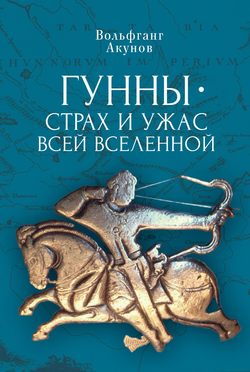Читать книгу Гунны – страх и ужас всей Вселенной - В. В. Акунов, Вольфганг Акунов - Страница 7
I. Часть Первая.
Репетиция конца света
4. По молитвам Василиссы
ОглавлениеВ годы Второй мировой войны опьяненные своими первоначальными успехами подданные гитлеровского «Тысячелетнего рейха» стали свидетелями того, как рухнул германский Восточный фронт. Фронт, простиравшийся от Финляндии до Черного моря. Невзирая на все ухищрения изощренной и, надо признать, весьма эффективной (фактически, до самого конца войны) геббельсовской пропаганды, этот фронт не мог не рухнуть. В 1942–1943 гг. он начал рушиться, чтобы окончательно развалиться в 1944 г., под мощными ударами советской Красной Армии. Но, даже если представить себе – хоть история и не знает сослагательного наклонения! – что немцы смогли бы удержать тогда Восточный фронт, он все равно неминуемо рухнул бы пятью или шестью годами позже. Рухнул бы даже без активных наступательных действий советских войск. Просто в силу своей чрезмерной для немцев протяженности, неблагоприятных для них условий местности («в России нет дорог, есть только направления») и климатических условий («генерал Грязь» и «генерал Мороз»). Как говорится, «что русскому здорово, то немцу смерть!»…
А между тем – при всей условности, возможно, некорректности или даже недопустимости подобного сравнения с точки зрения реальной истории! – царь готов Германарих как-то ухитрился, со своими несравненно слабейшими (во всех отношениях) силами, чем силы германского вермахта и армий стран – союзниц гитлеровского «Тысячелетнего рейха», на протяжении почти столетия удерживать именно этот «Восточный фронт», простиравшийся «от Финляндии до Черного моря» (как пелось в известной немецкой солдатской песне тех времен)! Разумеется, удерживаемый властителем позднеантичных готов «фронт», рухнувший, в конце концов, под гуннским натиском, был не сплошным, как фронт, удерживаемый германскими войсками Гитлера (менее трех лет) через 1600 лет после падения державы готского царя. «Фронт», удерживаемый в IV в. Германарихом, опиравшимся на покоренные им народности, представлял собой скорее отдельные опорные пункты, островки готского владычества в море (или, если угодно, болоте) разноязыких иноплеменников (тоже, кстати говоря, не слишком многочисленных). Тем более, что покоренные им племена, похоже, то и дело восставали (как, к примеру, росомоны; с упомянутой выше гипотезой некоторых историков и филологов, что росомоны были не племенем, а свитой готского царя, мы здесь полемизировать не будем). Локализация покоренных Германарихом, согласно Иордану, северных народов приводит нас в области, расположенные в 2000 и более км от основной области расселения готов на территории нынешней Южной Украины.
Размеры подвластной готскому царю территории оказываются слишком обширными, чтобы не заставить многих историков (например, того же академика Рыбакова) усомниться в их достоверности. Тем не менее, ничто не мешает нам признать, что готы предприняли попытку покорить и удержать ее. В пользу нашей версии говорят следующие факты.
Подконтрольная готам Германариха область Нижней Оки простиралась вплоть до Волги (именуемой в древности, до прихода кочевых тюрков-болгар, по которым ее переименовали, «великой рекой Ра»). А затем – от излучины Волги вверх по течению Камы и далее за притоки Камы – реки Чусовую и Белую – до золотоносных Уральских (в древности – Рифейских, или Рипейских) гор. Благодаря своим месторождениям драгоценных металлов (прежде всего – залежам серебра) и высоко ценившихся в Древнем и Античном мире самоцветов (яшмы, малахита, изумрудов и др.) данные земли с незапамятных времен привлекали торговцев, совершавших ради наживы столь дальние путешествия. Не менее ценными предметами вывоза из этих отдаленных от античной Ойкумены-Экумены областей были продукты бортничества (пчеловодства) – мед и воск, а также пушнина. Весьма вероятно, что высылаемые готами военные экспедиции были направлены на захват в готские руки этой торговли и использования ее для собственного обогащения. Данная цель вполне могла быть готами достигнута. Судя по сохранившимся памятникам черняховской культуры, готы – сильнейший, по общему мнению римлян, эллинов и варваров, из германских племенных союзов – обладали всеми военными и интеллектуальными возможностями для распространения своей власти на столь обширные территории и удержания их в зависимости от себя. При этом, разумеется, не стоит – повторим это еще раз! – подходить в державе Германариха с современными мерками. Скорее следует говорить о готском протекторате – в частности, в Прикамье. После того, как повелитель готов поставил в зависимость от себя народы Севера, он покорил германское племя герулов (эру-лов, элуров) в низовьях Танаиса.
Когда же Германарих, наконец, состарился и одряхлел, достигнув, может быть, и не 110-летнего возраста, но, тем не менее, лишившись прежней силы и решимости, пробудился вдруг спящий степной исполин. И гунны, много лет (более-менее) мирно кочевавшие со своими стадами на другом берегу Танаиса, внезапно обрушились на державу 100-летнего (по меньшей мере) старца.
Никаких «систем раннего оповещения» о надвигающейся угрозе в те давние времена не было, конечно, и в помине. Были только распространявшиеся, в разных случаях, с разной скоростью, слухи. Или, выражаясь языком античных поэтов – молва, «быстрокрылая Осса». В интересующем нас случае вторжения гуннов конные носители страха и ужаса оказались быстрей «быстрокрылой молвы». Быстрей слухов об их появлении. Как бы быстро эти слухи не распространялись. Молниеносно передаваясь из уст одного торговца в уста другого. Причина же этой быстроты была весьма проста – гуннов гнал вперед испытываемый ими лютый голод.
Зима 374–375 гг. п. Р.Х. выдалась на редкость суровой. Степь промерзла и не оттаивала до середины весны, пораженная т.н. «джутом» – зимней гололедицей, не позволявшей стадам скота и конским табунам кочевников доставать из-под смерзшейся ледяной корки подножный корм. Приводя к массовому падежу скота от бескормицы, к гибели молодняка от голода. Кочевники поддерживали в себе жизнь, питаясь падалью, поедая трупы павших от «джута» животных.
Эта не просто важная, но и, несомненно, главная причина гуннского нашествия была впервые приведена восточно-римским историком Зосимом (Зосимой) в его написанной по-гречески «Новой Истории» («Неа История») в шести книгах. «История» Зосима начинается эпохой римского императора Октавиана Августа и заканчивается взятием «Вечного Города» Рима на Тибре вестготами Алариха в 410 г. п. Р.Х.. Зосим объясняет, вполне в «староримском», «языческом» духе, падение великой Римской «мировой» империи, главным образом, тем, что она отвратилась от почитания прежних богов.
Зосим, живший в Новом (Втором) Риме – Константинополе, занимая высокий пост комита (комеса) и адвоката фиска в налоговом управлении Восточной Римской империи, написал свой труд, выйдя в отставку. Его сочинение, хотя и компилятивное по характеру, выгодно отличается от большинства других исторических компиляций знанием дела, меткостью суждений, подчинением материала одной философской идее – стремлению вскрыть причины упадка Римской «мировой» державы. Кстати говоря, интересен сам факт того, что Зосим – отставной налоговик, т.е. государственный чиновник, всю свою сознательную жизнь служивший верой-правдой римскому государству, давно уже слывшему официально христианским, считал одной из причин упадка этого государства именно распространение христианства. Поэтому он резко критиковал императоров-христианизаторов Константина I и Феодосия I Великих. Особенно последнего – в частности, за поселение им готов, в качестве военных союзников-«федератов», на имперских землях. Как, впрочем, и за данное августом Феодосием готам дозволение служить в римской армии. То, что видный представитель правящей элиты христианской Римской империи мог свободно об этом писать, доказывает, сколь сильны были в этой империи еще в середине V в. п. Р.Х. позиции врагов новой веры. Причем даже в высших слоях позднеримского правящего класса. Что же касается нашествия гуннов как такового, то Зосим объясняет его не Божьей карой грешным римлянам, но вполне естественными, земными причинами. А именно – поразившим степи голодом, поставившим кочевников в безвыходное положение, на грань вымирания. Еще и ныне голодающие кочевые племена в странах «Третьего мира» снимаются с кочевий и идут в места, где могут найти хотя бы воду. А в период засухи даже оседлые крестьяне северо-восточной Бразилии под угрозой голодной смерти перекочевывают в другие, не столь засушливые, места. Еще в XIX в. им приходилось вести кровопролитную борьбу за землю и за воду с местными жителями, к которым природа и климат оказались щедрее, чем к ним. О современных же нашествиях голодных мигрантов с «Юга» в более благополучные в материальном плане страны «Севера» мы и говорить не будем – тут и так все ясно…
В общем, гуннам не оставалось иного выбора. Промедление было действительно смерти подобно. Как сказано в «Гетике» Иордана (правда, не о гуннах, а об обманутых, в очередной раз, римлянами и поставленных на грань голодной смерти алчными римскими провиантскими чиновниками готах, оказавшихся в аналогичной ситуации): «Эти храбрецы предпочли лучше погибнуть в сражении, чем от голода». Именно отсутствием времени на «раскачку» объясняются внезапность совершенного гуннами нападения. Как и решительный характер предпринятых ими наступательных действий. Ибо отступать им было действительно некуда. За спиной они оставляли покрытую ледяной коркой «джута», промерзлую степь, не дававшую корма их стадам и табунам. Тем охотнее гунны спешили покинуть ее ледяные просторы.
Согласно Зосиму, варвары напали на живших по другую сторону Истра «скифов». Совершенно внезапно как бы из ниоткуда появилось совершенно не известное дотоле племя, именуемое гуннами. Неизвестно, происходит ли это имя от какого-либо скифского царского рода, или же идентично этому «обезьяноподобному» и особенно воинственному народу, о котором еще Геродот говорит, что он обитает южнее Танаиса.
Возможно, эти гунны уже тогда пришли из Азии в Европу и с тех пор спокойно пребывали по ту сторону Меотийских болот. Теперь же, говорят, вследствие наносов реки Танаиса, образовался перешеек, ведущий, через те болотистые местности (нынешний Керченский полуостров – В.А.), сделав тем самым для гуннов возможным переход в Европу.
Как бы то ни было, но гунны совершили переход из Азии в Европу с лошадьми, женщинами и детьми, со всем своим движимым имуществом, и напали на живших по Истру «скифов» (так Зосим именует остготов – В.А.). Однако гунны не дали врагам привычного для тех полевого сражения. Кочевники, по утверждению Зосима, не были привычны и способны к пешему бою, ибо никогда их нога не ступала на твердую землю. Оставаясь на спинах своих лошадей, на которых они даже спали, гунны совершали на врагов искусные конные нападения. Они с неизменной ловкостью избегали наносимых «скифами» ответных ударов. При этом гунны издали, со своих фланговых позиций осыпали врагов воистину тучами стрел, учинив неслыханно кровавую бойню. Если верить Зосиму, гунны повторили это несколько раз и настолько измотали «скифов», что уцелевшие бросили населенные ими прежде земли, уступив их гуннам… Тут нельзя не вспомнить приведенный выше пассаж из «Гетики» Иордана о том, как «гунны покорили аланов, которые не уступали им в военном искусстве, но были выше по своей культуре; они измучили их в сражениях»!…
Как писал в книге «Хунну» Л.Н. Гумилев: «Соседи гуннов – аланы – имели, как юэчжи и парфяне, сарматскую тактику боя. Это были всадники в чешуйчатой или кольчужной броне, с длинными копьями на цепочках, прикрепленных к конской шее, так что в удар вкладывалась вся сила движения коня. По данному вождем сигналу отряд таких всадников бросался в атаку и легко сокрушал пехоту, вооруженную слабыми античными луками. Преимущества нового конного строя обеспечили сарматам победу над скифами, но… гунны вождя Баламира (так Гумилев именует Баламбера, о котором у нас еще пойдет речь далее – В.А.) в свою очередь одержали дважды полную победу над ними. Сарматской тактике удара гунны противопоставили тактику совершенного изнурения противника. Они не принимали рукопашной схватки, но и не покидали поле боя, осыпая противника стрелами или ловя его издали арканами. При этом они не прекращали войны ни на минуту, разнося смерть на широкое пространство. Тяжеловооруженный всадник, естественно, уставал быстрее легковооруженного и, не имея возможности достать его копьем (а уж тем более – мечом – В.А.), попадал в петлю аркана».
То, что Зосим (да и не он один) именовал германцев-остроготов, так сказать, по старой памяти, не готами, а «скифами», уважаемых читателей уже, наверное, не удивляет. В этом сказывался консервативный характер мышления античных историков. Они учились проводить различия между варварами, как бы сливавшимися перед их «просвещенным» взором в некую безликую серую массу, лишь тогда, когда от умения отличать одних варваров от других, начинала зависеть их собственная жизнь. Достаточно вспомнить, что еще в XI в., да и впоследствии, восточно-римские («греческие», «византийские») историки, по традиции, именовали «скифами» тюркских кочевников-печенегов, «тавроскифами» – русских, «кельтами» – западноевропейских крестоносцев и т.д. (а себя, по старой памяти, «ромеями» – т.е., по-гречески, «римлянами»). Впрочем, в этом уподоблении германцев «ромейскими» авторами скифам не было ничего унизительного для последних. Ведь обитавшие на юге нынешних России и Украины скифы, несмотря на традиционно приписываемую им «цивилизованными» греками склонность к пьянству (главным образом, из-за привычки пить вино неразбавленным – хотя этот грешок водился и за самими «просвещенными» эллинами), считались еще у греков эпохи классической древности очень неглупыми людьми. А один из скифов – Анахарсис (по А.М. Иванову – Анахварти) – даже философом, мудрецом, критиковавшим всевозможные недостатки жизни, поведения и государственного устройства греков. Не зря в Афинах и других полисах (городах-государствах) Древней Греции полиция, следившая за соблюдением закона и порядка, набиралась именно из скифов.
Да и вообще расхожее (но от того не менее ложное) представление о скифах и скифском, как о чем-то грубом, варварском и некультурном – результат поверхностных оценок. А точнее – предрассудков. Скифское искусство, скифская утварь, скифские оружие и украшения в знаменитом «зверином» стиле, товары для оживленной греко-скифской торговли, богатые находки в скифских погребениях, курганах, убедительно свидетельствуют об одном. Оригинальное скифское искусство принадлежало к числу самых утонченных и высоких в древней Европе. А если брать в расчет также искусство саков и других «восточных» скифов – то и Азии. Ничем не уступая, скажем, древнегреческому микенскому искусству (да и не только ему). Самым наглядным подтверждением тому служат «скифское золото» и другие богатейшие находки российских и советских археологов, производивших раскопки преимущественно на территории древней европейской Скифии. В Северном Причерноморье, той самой «Руси изначальной», чьи плодородные черноземные земли были житницей древних греков. Получавших оттуда большую часть потребляемого ими хлеба (и рыбы).
Именно через эти благодатные земли, через эту область древней греко-скифской культуры, так долго ведшие (относительно) мирную жизнь гуннские скотоводы, превращенные голодом в лютых кентавров, двинулись на Запад, увлекая за собой по пути все новые орды. Под гуннским натиском остготы частью подчинились гуннам, частью отступили в горную местность южнее реки Гипаниса (современной Кубани) и в горы Тавриды (нынешнего Крыма). Там археологи, этнографы и филологи находили следы пребывания готских мигрантов (вошедших в историю под названием готов-тетракситов или крымских готов) еще много столетий спустя. Именно на основании столь долгого пребывания готов в Крыму считавший себя их преемником «безбожный гот», по выражению митрополита Сергия Страгородского, Адольф Гитлер намеревался присоединить Крым, заселенный германцами, к своему «Третьему рейху». Назвав его не как-нибудь, а «рейхсгау (имперская область) Готенланд (буквально: Готская земля)». Но не все готы покорились гуннам или бежали от них. Часть остготов, отказавшись искать спасения от степных «кентавров» в бегстве, даже после смерти Германариха, продолжала оказывать гуннам упорное вооруженное сопротивление. Эти готы дрались с гуннами под предводительством воеводы по имени Винитарий (или Витимир), избранного царем, согласно Аммиану Марцеллину, в 375 г. Витимир, сражался, по Аммиану, и с аланами, и получил прозвище «Винитарий», буквально – «Победитель венедов (венетов, т.е. славян)». Это прозвище, упоминаемое уже Кассиодором, преемник Германариха получил, по мнению австрийского историка Гервига Вольфрама, за свою победу над венедами. Витимир, хотя и принадлежал к роду Амалов, но не был сыном Германариха. Если, конечно, верить родословной Амалов, приведенный Иорданом. Но ведь иной родословной у нас не имеется. В «Гетике» Иордана, прославляющего доблесть Винитария, имя «Витимир» отсутствует,
Как бы то ни было, вооруженные столкновения готов с гуннами носили непривычный по своей ожесточенности и крайней беспощадности характер. Непривычный даже для «повитых под шлемами и вскормленных с конца копья» готов, считавшихся самым воинственным из всех народов германского корня. Ведь у готов даже женщины сражались наравне с мужчинами, как амазонки. Согласно римскому историку Флавию Вописку, в триумфальном шествии римского императора Аврелиана: «Вели и десять женщин, которые сражались в мужской одежде среди готов и были взяты в плен, тогда как много других женщин (готских воительниц – В.А.) было убито…» (Жизнеописание августов, XXVI). Но гунны вели себя совершенно иначе, чем прежние противники готов, к манере поведения которых лихие германцы успели привыкнуть. Так, гунны, например, на первых порах вообще не брали пленных. А ведь за военнопленных, особенно знатных, можно было получить выкуп. Пленных можно было обратить в своих рабов. Или продать их в рабство «на сторону». Хотя бы тем же римлянам и грекам. Гунны не щадили даже женщин и детей, ведя борьбу на уничтожение. Борьбу, беспощадный характер которой пугал готов тем более, что откровенно геноцидальные методы гуннов не поддавались, с готской точки зрения, разумному объяснению.
Откуда было готам знать, что гунны бились с ними на вечно голодный желудок? Ведя не просто борьбу за добычу, новые угодья, пастбища, но смертный и бескомпромиссный бой «по Дарвину». Борьбу за выживание. Ведь гуннам было совершенно безразлично, пасть ли в бою от вражеских мечей, копий и стрел, или без боя издохнуть от голода. При том, что голодная смерть гораздо мучительней быстрой смерти на поле боя, почетной для всякого честного воина! Вооруженная борьба – не на жизнь, а на смерть! – давала гуннам, по крайней мере, шанс на выживание и на завоевание земель, которые опытный глаз кочевника сразу же оценил как не только пригодные для жизни, но и поистине благодатные.
В дни военной страды той далекой эпохи цари и вожди пребывали всегда в гуще схватки. «Впереди, на лихом коне». В самом опасном месте кровавой сечи. Да и могло ли быть иначе? Современное немецкое слово «фюрст» («князь», «государь». «монарх»), происходит от древнегерманского «фуристо», т.е. «первый (в воинском строю»). И означает, соответственно, «передовой боец»! Как, кстати, и латинское слово «принцепс» (от которого происходит слово «принц») – один из титулов римских императоров. Ведь «принцепсами», или «принципами», изначально назывались воины первой шеренги древнеримского легиона, передовые бойцы. А слово «герцог», аналогичное латинскому «дукс» -«вождь», предводитель (войска)» – происходит от древнегерманского «герицого», что означает: «выступающий впереди (во главе) войска». Опять-таки – передовой боец!..
Отдавать приказы и доводить их до исполнителей можно было лишь в пределах видимости. Если царь был впереди, в первых рядах, все шло хорошо. Если он пропадал из виду – значит, его необходимо было спешно выручать из окружения. Если же царь обращался в бегство, лучше всего было тоже «вдарить плеща» – бежать с поля боя. Желательно, несколько быстрее, чем царь.
Спасаться бегством было не в духе Амала Винитария. Он предпочел вступить с гуннами в бой. И гунны, также, видимо, поставив все на карту, выставили против него своего лучшего бойца и предводителя. Именно в данной связи мы впервые узнаем имя одного из царей загадочного азиатского народа – Баламбер (у Гумилева: Баламир). Имя воинственное, громкое, звучное, как барабанный бой.
Наступательное вооружение Баламбера явно превосходило таковое отважившегося сразиться с ним готского царя. Хотя последний, возможно превосходил гуннского повелителя вооружением защитным. Мощный дальнобойный лук давал гунну большое преимущество. Выпущенные из него стрелы летели гораздо дальше, чем копья и дротики готов. Стрела царя Баламбера поразила Винитария в голову. Возможно – даже в глаз, (как норманнская стрела, сразившая англосаксонского короля Гарольда Годвинсона в битве при Гастингсе в 1066 г.). Готский царь, упав с коня, скончался на месте.
Бегство в степь от гуннской конницы означало бы верную смерть. Поэтому остготы, а вместе с ними, некоторые племена вестготов, которым явно грозила участь стать очередной жертвой гуннских кентавров, обратили свои стопы в направлении Гема, в римскую провинцию Фракию. Чтобы добраться до Фракии, готам пришлось бы перейти Данубий-Истр. Нарушив тем самым договор о мире и общей границе с римлянами. Договор, заключенный несколькими десятилетиями ранее и соблюдавшийся до тех пор обеими сторонами. Римляне, после некоторых колебаний, согласились впустить готов в пределы империи. Вероятнее всего, они догадывались, что главную угрозу для них представляют не готские беженцы, а их преследователи – гунны, уже маячившие, так сказать, за готскими спинами. Понимая, что им, римлянам, самим придется очень скоро отражать гуннское нашествие. И что тогда будет на счету каждый гот, способный носить оружие и поднять его в защиту Рима.
Гунны и впрямь не заставили себя долго ждать. Они завладели готскими землями. Эта обширная территория между Тавридой, сегодняшним Крымом, и бывшей римской провинцией Дакией, нынешней Трансильванией (частью Румынии), славящаяся своим плодородием, была способна прокормить сотни тысяч гонимых голодом кочевников. Но эти кочевники уже вкусили человеческой, вражеской крови. Захваченная у готов, не виданная дотоле гуннами в родных кочевьях, богатая добыча, пробудила в них жажду наживы. Гунны познали радости наездов на беззащитные, неукрепленные селения. Радости грабежей и поджогов. Гунны вошли во вкус, неустанно насилуя схваченных женщин и девушек, увозя их с собой, бросая или убивая их по пути, пресытившись их прелестями. Они ощутили себя повелителями мира. Они догадывались, что дальше их ждут все большая добыча, все новые города, все новые женщины. И золото, еще больше золота, жажда которого (так ужасавшая Иеронима), в них теперь пробудилась в полную силу. Вожак «кентавров» Баламбер, недолго думая, взял в жены внучку Германариха. Она была далеко не первой его женой (и, скажем в скобках, далеко не последней). Но Вадамерка была не просто гуннкой или полонянкой. Она была готской царевной из царского рода Амалов. А грубый с виду степняк Баламбер был, как говорит русская пословица, «сер-сер, да ум у него не черт съел». Он живо сообразил, что все эти бьющиеся насмерть с гуннами или бегущие от гуннов чужеземные народы схожи в одном. В приверженности своему царю и царскому роду. И что поэтому ему, повелителю гуннов, очень важно и полезно будет породниться с этими царями. Чтобы быть причисленным к их роду. Поэтому он взял знатную готскую девушку в жены. И, со скоростью степного наездника, сразу же сделал ей ребенка. Породил с ней сына, получившего готское имя Гунимунд. Имя «говорящее», «гласное», свидетельствующее о том, что отец его носителя – гунн.
В изложении Иордана, вся эта история выглядит несколько иначе. Хотя, пожалуй, даже любопытнее и интереснее. Вестготы, еще до нападения гуннов на остготов, «следуя какому-то своему намерению», отделились от них и проживали в «западных областях», в «Гесперийских странах». В то время как остготы, после смерти Германариха подчиненные власти гуннов, «остались в той же (прежней – В.А.) стране (Скифии-Причерноморье – В.А.)». Однако Амал Винитарий «удержал все знаки своего господствования» и, освобождаясь из-под власти гуннов, двинул войско в пределы антов (отождествляемых многими авторами со славянами или, по крайней мере, с праславянами – В.А.). Но в первом сражении был антами побежден. В дальнейшем Винитарий (происхождение которого «Гетика» возводит, через его отца Валараванса, к родному брату Германариха – Вульт(в)ульфу, приходившемуся таким образом дедом Винитарию), «действуя решительнее, для устрашения», распял царя антов Божа (или Буса, упоминаемого в древнерусском «Слове о полку Игореве» – В.А.) с сыновьями и с 70 старейшинами. Царь гуннов Баламбер, не стерпев этого (видимо, анты к описываемому времени были полностью подчинены гуннскому владыке или, во всяком случае, зависели от племенного союза, возглавляемого гуннами), призвав на помощь Гезимунда (внука Германариха), сына великого Гунимунда (сына Германариха), повел войска на Винитария. Иными словами, гуннский царь выступил при поддержке одних готов против других готов. Баламбер дал войску Винитария три сражения, в которых Винитарий бился не только с гуннами и, надо думать, аланами, но и со своими ближайшими готскими родственниками. В первых двух сражениях победил Винитарий. Но в третьей битве Баламбер, «подкравшись к реке Эрак» (?), собственноручно пущенной стрелой смертельно ранил Винитария в голову. И, взяв себе в жены племянницу убитого им Винитария – Вадамерку, стал властвовать над полностью покоренным теперь «видимыми бесами» племенем готов.
Правда, из версии событий, изложенной в «Гетике», не ясно, почему сына Германариха тоже звали Гунимундом. Ведь Германарих-то был не гунном, а готом, и гуннских жен у него, насколько нам известно, не было. Да и не успел бы он, даже при самых благоприятных обстоятельствах, зачать с гуннкой сына и вырастить его. К тому же известен другой Гунимунд – царь германцев-гепидов, разгромленный германцами-лангобардами царя Альбоина, также не имевший, вроде бы, гуннских корней. Впрочем, довольно об этом «белом пятне истории»…
Гунны продолжали свои грабительские рейды, предаваясь, в свое удовольствие, конным скачкам (иногда с препятствиями), стрельбе из лука (иногда по неподвижным, а чаще – по движущимся мишеням) и прочим «радостям Марса, Вакха и Венеры», как выражались в таких случаях римские язычники. На очереди оказались Сирия и Палестина, с их древними городами – очагами античной культуры – и богатыми купцами. Но, ограбив до нитки эти богатейшие римские провинции, гунны в них не осели. Теперь вместе с ними участвовало в «конных рейдах по вражеским тылам» – «стремя в стремя» так сказать!(о том, имелись ли у гуннов стремена, до сих пор ведутся оживленные дискуссии в среде историков и археологов) – немало воинов из готских родов. Предпочитавших совершать набеги под началом Гунимунда (как-никак, наполовину гота, а, значит, не столько гунна, сколько «своего»!), а не влачить тяжкое бремя рабства или лежать и гнить в сырой земле.
Теперь, вырвавшись на оперативный простор, гунны, сжавшиеся на спинах своих длинногривых малорослых «бурушек-косматушек», словно готовые к прыжку хищные звери, носились по римской Европе, словно по родным степям. Кровавый путь «демонского отродья» отмечали при свете дня – клубы черного дыма, а во тьме ночи – багровые отсветы пламени от градов и весей, сожженных «степными кентаврами», гнавшими за перегруженными награбленным добром обозами, словно скотину, толпы беспомощных пленников. Избитых и израненных, отчаявшихся ждать подмоги или выручки от – якобы! – «всегда победоносных» римских войск. Больше всего гуннам, беспощадно добивавшим упавших от усталости, измученных невольников, приглянулась провинция Паннония – равнина севернее Истра. Приглянувшаяся впоследствии, в аналогичных обстоятельствах, и другим воинственным кочевникам – венграм-мадьярам, (возводившим, кстати говоря, свое происхождение к гуннам). Тамошний ландшафт несколько походил на ландшафт между Евксинским понтом и рекою Танаисом.
Очень скоро «видимые бесы» обратили бег своих степных коней на казавшуюся им более слабой, доступной и богатой из тогдашних двух Римских империй – Восточную. Названную итальянскими гуманистами в эпоху Возрождения «Византийской» (по исконному названию Константинополя – Византий), но никогда на протяжении всего своего существования, прерванного лишь в 1453 г. турками-османами, официально так не называвшуюся. «Конные дьяволы» вторглись в восточно-римскую Фракию (нынешнюю южную Болгарию), с направлением главного удара на Геллеспонт (ныне – пролив Дарданеллы). Их главной целью был захват «царственного града» Константинополя, Царьграда, Второго Рима, Нового Рима, на Босфоре, в паре с Дарданеллами, соединяющем Черное море с Эгейским.
Первого гуннского царя, начавшего войну с Восточным Римом, но не стяжавшего победных лавров в условиях гористых театра военных действий, звали Улдин (Ульдин, Ульдис). А второго – Ругила (Руа, Руас, Роас, Руга, Рух, Роиль). На тот момент ворвавшиеся из степей в цивилизованную Ойкумену «видимые бесы» представлялись хронистам Восточного Рима уже не такими неведомыми и непонятными, как в 400 г. Христианской эры. С гуннами теперь вели переговоры о размере дани, которую они требовали от Константинополя-Царьграда. Производили с ними обмен пленными и заложниками. Договаривались о возможностях военного и политического сотрудничества. Ругила был сильней, умней и дальновиднее Ульдина. Последний согласился служить за золото Второму Риму, разбил мятежного восточно-римского военачальника (готского происхождения) Гайну, соратника последнего воссоединителя Римской мировой державы (перед смертью снова поделившего ее надвое между сыновьями) императора Феодосия I Великого, и отослал отрубленную и засоленную голову неудачливого гота Гайны императору римского Востока Аркадию в Константинополь. Затем Ульдин перешел со своими «кентаврами» на службу Первому, Ветхому, Риму на Тибре и разгромил в 406 г., на пару с западно-римским полководцем вандальского, т.е. германского, происхождения Флавием Стилихоном, языческие гото-вандало-ал(л) еман(н)ские полчища Радагайса, вторгшиеся в Италию и шедшие на Первый Рим. В-общем, сослужил римлянам неплохую службу, как многие «полезные варвары» до и после него. Таков был достаточно бесхитростный Ульдин. Руа же оказался не столь прост.
В 430 г. Ругила заключил с Флавием Аэцием, как полномочным представителем Западной Римской империи, договор о дружбе и военной помощи (направленный, в том числе, и против Восточной Римской империи). По условиям этого договора западные римляне уступили гуннам пришедшуюся тем по вкусу провинцию Паннонию Приму (Первую). Следует заметить, что Аэций еще в 425 г., по приказу западно-римского императора-узурпатора Иоанна, нанял у Ругилы отряд гуннских «кентавров» для борьбы с высадившимися в Италии с враждебными намерениями войсками восточно-римского императора Феодосия II Флавия (о котором еще пойдет речь далее). А еще в 409 г. гуннские конники на службе западно-римского императора Гонория, сына Феодосия I Великого, так серьезно потрепали вестготское войско Атаульфа в битве под Пизой, что Гонорий нанял целых 10 000 (!) гуннских конников для противодействия другому романизированному готскому завоевателю, опустошавшему Италию – свояку Атаульфа, Алариху из того же знатного вестготского рода Балтов, или Балтиев. Побуждаемому к агрессии против Западного Рима, как это ни печально констатировать, восточно-римским, константинопольским двором. Это не помешало удостоенному высокого римского военного чина Алариху (в чьем войске, кроме готов, служили также аланы и гунны, сражавшиеся, т. о., против своих-же соплеменников – аланов и гуннов, служивших верой-правдою в западно-римской армии Гонория) овладеть через год «царственным городом» на Тибре. Но не потому, что готы, аланы и гунны, служившие под римскими орлами и драконами – драконоголовыми боевыми значками, перенятыми римлянами от сарматов – императора Запада, плохо дрались с готами, аланами и гуннами Алариха, пришедшими в Италию с римского Востока. А потому, что, по наиболее распространенной версии, римские рабы (или агенты константинопольского двора) впустили воинов Алариха в «Вечный Город», тайно открыв им ночью ворота.
Как бы то ни было, гуннский царь Ругила по достоинству оценил значение Паннонии, уступленной ему западными римлянами, как идеального плацдарма для наступательных действий в юго-восточном, юго-западном и западном направлениях. Но там, где он начал боевые действия – на богатом римском Юго-Востоке с притягивавшей гуннского царя, как магнит, роскошной императорской столицей Константинополем, военная фортуна не улыбнулась и ему.
Начав войну против нескольких племен и народностей, обитавших на Истре и пребывавших под римской защитой, Ругила направил послом к восточным римлянам своего представителя по имени Эсла (вариант: Исла). Этот Эсла обычно успешно улаживал споры между римлянами и гуннами. Теперь же ему было поручено передать римлянам угрозу Ругилы, что тот не будет придерживаться условий заключенного мирного договора, если «ромеи» не выдадут ему перебежавших к ним беглецов. Тогда обеспокоенные римляне решили направить к Ругиле посольство.
Дело было в 425 или 426 г. п. Р.Х. Римляне уже тогда вовсю использовали вполне современную «дипломатию умиротворения». Жаль, что мы так мало знаем сегодня об Эсле. Вероятно, этот незаурядный человек имел особый подход к грозному гуннскому владыке. Видимо, он сумел настолько войти к нему в доверие, что даже имел от Ругилы полномочия передавать римлянам его предостережения, указания и угрозы. Иитересный был, наверно, человек, недюжинного ума и завидной ловкости…
Но даже самые изощренные дипломаты порой попадают в ситуации, в которых не имеют ни малейших шансов на успех. Миссия Эслы оказалась, очевидно, не такой успешной, как ожидалось. Римляне выдали гуннам не всех перебежчиков. Причем процесс выдачи даже этих немногих затянулся. Да и кто будет охотно выдавать врагу тех, кому предоставил убежище? Особенно, хорошо зная участь возвращенных перебежчиков в любой стране мира. Аналогичная ситуация с перебежчиками, кстати, сложилась в свое время у предков гуннов Ругилы в отношениях с Китаем. Короче говоря, Ругила выступил в поход на Новый Рим, не слушая советов рассудительного Эслы. Поскольку Эсла не сумел помочь на этот раз Второму Риму, пришлось вмешаться самому Богу-Отцу.
Упомянутый выше восточно-римский император-автократор (т.е. самодержец) Феодосий II Младший был прозван за красивый почерк «Каллиграфом» и причислен впоследствии к лику святых. Сын первого восточно-римского императора Аркадия и внук последнего правителя объединенной Римской империи Феодосия I Великого, «Каллиграф» был образованным, культурным, просвещенным человеком, на дух не выносившим язычников. Он даже повелел сжечь в 426 г. языческое святилище Зевса в Олимпии, торчавшее там надгробным памятником Олимпийским играм (запрещенным еще дедом Феодосия в 391 г. вследствие сугубо языческого характера этих игр, напоминавших вдобавок эллинам о временах греческой свободы и независимости – в т.ч. от римской власти). Но «Каллиграф» явно не относился к числу сильных личностей на константинопольском престоле. Сначала за слабого василевса правил его префект претория, т.е. премьер-министр, Анфимий (распорядившийся, ввиду обострившейся внешней угрозы, обнести Второй Рим новыми, мощными стенами, частично сохранившимися, под названием «стен Феодосия», до сих пор), затем – сестра автократора, Пульхерия, и, наконец, его супруга – красавица Элия Евдок(с)ия, дочь римского полководца германского (а именно – франкского) происхождения Флавия Бавтона. Эта Евдокия, женщина острого ума, полностью отдавала себе отчет в том, что у ее благоверного Феодосия крайне мало шансов на победу над Ругилой. Поэтому императрица (по-латыни), или василисса (говоря по-гречески) поверглась в сокрушении к стопам Всевышнего, истово воссылая к Нему слезные мольбы о спасении вверенной ей (и ее венценосному супругу) христианской империи. И молитва василиссы не осталась неуслышанной.
Когда Ругила, повелитель «скифских» полчищ, перейдя, во главе многочисленного войска жаждущих крови и добычи яростных кочевников, Данубий-Истр, стал грабить и опустошать римскую Фракию, возникла непосредственная угроза метрополии восточной половины Римской «мировой» империи – Константинополю. Судя по всему, царь «видимых бесов» намеревался с налета захватить и разграбить «царственный город» на Босфоре. Но, прежде чем свирепый варвар смог осуществить свое намерение, христианский Бог обрушил на не верующих в Него гуннов с неба гром и молнию, сразившие Ругилу и уничтожившие гуннское войско. Гуннская угроза была отведена от Рима на Босфоре не силой земного оружия, но Божией грозой.
Так, во всяком случае, утверждают восточно-римские авторы «Церковной истории» Сократ Схоластик, Созомен и Феодорит Кирский. Разумеется, не обязательно воспринимать их слова буквально. Но, с учетом немалой склонности гуннов к суевериям и вере во всяческие небесные знамения (характерной, кстати говоря, и для многих других кочевых народов – вплоть до монголо-татар Чингисхана), вполне можно допустить, скажем, следующее. Сильная гроза и абсолютно не исключенный удар молнии в шатер Ругилы, либо какое-то иное дурное предзнаменование, напугавшее гуннов, побудило их отступить или даже рассеяться в паническом бегстве. Иные историки утверждают, что гуннское войско было уничтожено внезапно поразившей степняков чумой (как выражались тогда – «моровым поветрием» или «моровой язвой»). Как бы то ни было, погиб ли царь гуннов Ругила-Роас «от поражения молнией» или от других причин, но он переселился в мир иной в 434 г., так и не взяв Второго Рима на Босфоре. Вскоре после смерти Роаса исчезли со страниц летописей и какие-либо упоминания о братьях гуннского царя. Как об Октаре (погибшем, согласно некоторым источникам, в 436 г. во время похода на германцев-бургундов), так и о Мундзуке (Мундиухе). Однако же племянник очень вовремя пришибленного громом (?) Роаса-Ругилы, сын гуннского князя Мундзука, не только остался в живых, но в скором времени заставил говорить о себе и в очередной раз содрогнуться всю тогдашнюю Ойкумену. Племянника звали Аттила.