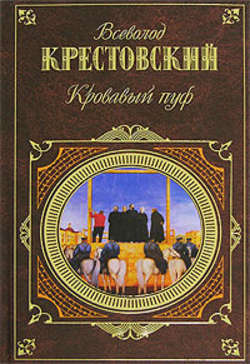Читать книгу Панургово стадо - Всеволод Крестовский - Страница 20
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
XX
Из-за «шпиона»
ОглавлениеАндрей Павлович Устинов никак не ожидал тех последствий, которые произошли из его шпионства, импровизированного Подвиляньским. Молва о тайной миссии учителя математики очень быстро разнеслась по всему Славнобубенску, что, впрочем, и немудрено, так как она весьма ловко была пущена в среду гимназистов, которым пояснено, будто Устинов потому-то и шикнул Шишкину, что сам он шпион и что он-то, собственно, и погубил Шишкина своим шиканьем. Гимназисты разнесли молву по своим семействам, а те по своим знакомым, и, глядь, суток через двое весь Славнобубенск был уже убежден, что в среде его ходит, подглядывает и подслушивает весьма опасный агент тайной полиции – учитель Устинов. Очень многие стали чуждаться Андрея Павловича. Входит он, например, в сборную учительскую комнату, некоторые из сослуживцев многозначительно переглядываются между собою и прекращают разговоры. Поклоны их стали гораздо суше; иные избегали протягивать ему руку. Проходя из класса по гимназическому коридору, он встретил гурьбу учеников, которая, пропустив его мимо себя, вдруг единодушно зашишикала, и среди этого шума раздалось несколько голосов: «шпион! шпион! Устинов шпион!» Тот обернулся, обвел гурьбу изумленным взглядом и, улыбнувшись, прошел мимо.
В кухмистерской, на Московской улице, точно так же при входе его весьма многие из присутствующих, знавших его в лицо, прерывали некоторые из своих разговоров, переглядывались и перешептывались между собою и окидывали его иногда каким-то осторожным, неприязненным взором. При встречах на улице очень многие из знакомых делали вид, будто не замечают его, и на поклон отвечали словно бы нехотя, вскользь, торопливо и с видимым смущением.
Вскоре и сам он заметил, что положение его становится каким-то глупым, неловким, неестественно-натянутым, и это стало то бесить, то сильно огорчать его. Но более всего горькою и обидною была потеря доверия и привязанности учеников. Взаимные отношения их, помимо его воли, как-то сами собою переменились; в них явилась холодность, неприязнь и даже школьнически-своеобразное презрение к нему, выражавшееся каким-нибудь безмолвным взглядом, свистом или возгласом «шпион», брошенным ему за спиною, и положительным отсутствием весело-доверчивых разговоров и расспросов, как бывало прежде.
Устинов сознавал, что все это было слишком мелко и чересчур уже глупо для того, чтоб обратить на подобные проявления серьезное внимание, а между тем новое положение втайне начинало уже очень больно и горько хватать и грызть его за сердце.
Кажется, во всем городе Славнобубенске только и осталось три-четыре человека, отношения которых ни на йоту не изменились к Андрею Павловичу, и это были: Хвалынцев, майор Лубянский да Татьяна Николаевна со своею старою теткою. Все остальное разом отшатнулось от учителя.
Раз как-то зашел он к майору. Анна Петровна, встретив его весьма сухим поклоном, тотчас же удалилась из комнаты. Зато майор обрадовался от чистого сердца.
– Ну, голубчик мой! Наконец-то! – протянул он ему обе руки. – Пойдем в мою келью, потолкуем-ка!.. Хоть душу отведешь с человеком!
Устинов глянул на старика и заметил, что он видимо изменился за последнее время: сивая щетинка на бороде уже несколько дней не брита, чего прежде никогда не случалось, лицо слегка осунулось и похирело, в глазах порою на мгновение мелькало легкою тенью нечто похожее на глухую затаенную кручину. При взгляде на Петра Петровича Устинову стало еще грустнее.
– Ну, что, как живете-можете? – начал он, лишь бы отогнать немного свое тягостное чувство.
– Да что, голубчик, скверно старикам стало жить на свете, скверно! – с глубоким, сокрушенным вздохом покачал головой Лубянский. – Прежде людьми пренебрегали за какое качество дурное, за порок какой там, что ли, а ныне за одну только старость пренебрегать начали. Иль я уж и в самом деле из ума выжил, или что, и сам не понимаю; а только вдруг, на шестом десятке, под сюркуп полицейский попал! Чуть что не каждый день вдруг квартальный стал шататься да житье-бытье мое поверять! «Вы, говорит, за неблагонамеренность под призор отданы, и я должен за поведением вашим наблюдать!» Легко ли это, я вас спрашиваю!.. Издеваются они надо мной, что ли? Да кто же дал им ныне это право такое над честным солдатом издеваться?.. До чего дожили, прости, Господи! Уж я этому квартальному, чтобы не часто шатался, грешный человек, дал по секрету трешницу. Школу отняли, самого оплевали… А слыхали вы, батенька, что со школой-то сталося? Слыхали? Вы не бываете там больше?
– Мне Подвиляньский прислал письмо, с извещением, что я могу прекратить мои дальнейшие занятия там, – сказал Устинов.
– Я так и знал! Так и знал я это! – махнул старик. – А с отцом-то Сидором что сделали? Не слыхали-с?
– Признаюсь, не слыхал еще.
– Ну, уж это чистое невежество! – развел майор руками. – Приходит он это в школу, а навстречу ему господин Полояров: «Вы, говорит, зачем сюда?» – «Как зачем! Я закон Божий читаю». – «Теперь, говорит, я вместо вас закон Божий читаю, а вы, говорит, ступайте прихожан своих эксплуатируйте (так и сказал! Это самое слово!). Все вы, говорит, за зловредность направления отсюда уволены!» Это что ж такая за наглость-то наконец, я вас спрашиваю! До чего же это дойдет у них?!. Отец Сидор хочет владыке жаловаться, – да и в самом деле, ведь уж тут просто житья нет никакого! Нагнал это туда новый-то распорядитель учителей хороших: все эти Полояровы, да Анцыфровы, да Лидиньки разные… поди-ка, чай, хорошему научат!.. Уж они мне, батюшка, – вот они все где сидят-то мне! – указал старик на свое горло. – Ведь уж я терпелив, ну да и мое терпение лопнет скоро!
– Полояров-то бывает у вас? – спросил Устинов.
– Уж не говорите лучше! – с негодованием отплюнулся Петр Петрович, – не знаю, как избавиться! И что это такое с Нюточкой сделалось, просто не понимаю! Не далее как год назад ведь это прелесть что за девочка была – сами, чай, помните! – а ныне (старик с боязливою осторожностью покосился на дверь и значительно понизил голос), ныне – Бог ее знает! какая-то нервная, раздражительная стала. Строптивость у нее какая-то вдруг… Что ни скажешь, ни сделаешь – все это не так, все это не по ней… одного только этого… его-то – только его и слушает. Начнешь говорить ей, – сейчас в раздражение: «вы, говорит, меня стесняете, лишаете меня свободы!» Ты ей резоны представляешь, а она сейчас: – «произвол! насилие!.. Это, говорит, деспотизм родительской власти»… Господи боже мой! Андрей Павлыч! (голос старика дрогнул от волнения) сами вы знаете – ну, стесняю ли я чем ее? Ну, могу ли я стеснять? Я… я души в ней не чаю, а она… деспот… деспотизм. Да что ж это такое, ей-Богу!..
Старик примолк и огорченно поник головою.
– Теперь хоть это: хорошо ли это с ее стороны? – продолжал он через минуту. – Отца осрамили, отцу учить запретили, под надзор полиции отдали, школу отняли, а она в этой школе продолжает учить как ни в чем не бывало. С этими-то… с этими-то вместе учит, в одной компании… с врагами!.. Ведь они враги-с делу-то! Ну, прилично ли это? Отчего же Татьяна Николаевна сразу перестала, сама перестала, чуть только проведала про всю эту компанию?.. И я же еще стесняю ее! Я деспотствую!.. Эх, голубчик мой, горько мне все это! горько!.. И откуда на нас вся эта напасть? – продолжал старик, ходючи по комнате и закурив свою коротенькую трубочку. – Отчего же прежде у нас на Руси ничего такого не было? Иль уж и в самом деле все мы прежде до такой степени были глупы, и слепы, и подлы, что на нас теперь и плюнуть не стоит порядочному человеку, или что – я уже и не понимаю. Думаешь-думаешь так-то вот себе ночью (нынче ночами-то что-то плохо спится мне). Только нет, думаешь себе, отчего же подлы? Отчего же глупы да пошлы? ведь и между нами были же и умные, и честные, и образованные люди – да вот хоть взять теперь нам старика Алексея Петровича Ермолова или, например, покойник Воронцов Михайло Семенович, – ведь это все какие люди-то! справедливые, твердые, самостоятельность-то какая! Ну, значит, были же и между нами доблестные граждане; умели же и мы любить свое отечество и жили честно – не все же глупцы, да воры, да взяточники! За что же теперь-то все мы огулом охаяны да оплеваны? Ведь это обидно! Ведь и сами же они будут стариками – значит, и их заплюют? Да отчего же мы-то на своих отцов не плевали, отчего же мы любили и чтили заслуги их?.. Отчего ж это так вдруг все перевернулось у нас? Откуда это, я вас спрашиваю? И вот все это, голубчик мой, мучают меня все эти неотвязные мысли проклятые, и никакого я себе ответа найти не могу!.. Эхе-хе! тяжело стало старикам на свете! – грустно заключил он, выколачивая в черепок золу из своей носогрейки.
Потолковал он и еще кое-что на ту же самую тему, а потом, чтобы разбить несколько свои невеселые мысли, предложил учителю партийку в шашки. Сыграли они одну, и другую, и третью, а там старая кухарка Максимовна принесла им на подносе два стакана чаю, да сливок молочник, да лоток с ломтями белого хлеба. Был седьмой час в начале.
– А где же барышня-то? Что ее не видать? – спросил старик у кухарки.
– Барышни нетути. Аны еще давеча, как Андрей Павлыч пришли тольки, так ушли из дому.
– Куда же это? Не сказала?
– Ничего не сказывали; а только вышли одемшись и пошли.
– Ну, хорошо… Ладно; ступай себе!
– Вот, батюшка мой, – обратился майор к Устинову, когда кухарка вышла за дверь, – это вот тоже новости последнего времени. Прежде, бывало, идет куда, так непременно хоть скажется, а нынче – вздумала себе – хвать! оделась и шмыг за ворота! Случись что в доме, храни Бог, так куда и послать-то за ней, не знаешь. И я же вот еще свободы ее при этом лишаю!
Устинов посидел еще с полчаса и простился.
Вскоре после него вернулась домой Анна Петровна. На хмуром личике ее написано было молодое нетерпение поспешной решимости. Снимая перед зеркалом свою гарибальдийку и приглаживая короткие волосы, она даже ножкой досадливо топала. Видно было, что ей поскорее хочется решить что-то на да или нет и что на этот последний лад она кем-то настроена.
– Где была, Нюточка? – ласково и тихо обратился к ней Лубянский.
– Где была, там уж нету! – отвечала она с усмешкой. – А ты вот что, папахен… Мне с тобой надо поговорить серьезно и… решительно. Угодно тебе меня выслушать?
– Говори, дружочек… – еще тише промолвил старик, у которого вдруг упало сердце от этого тона речи. Он смутно предчувствовал что-то недоброе.
– Извольте-с. Я буду говорить, – начала она, с какой-то особенною решимостью ставши пред отцом и скрестив на груди руки. – Скажи мне, пожалуйста, папахен, для чего ты принимаешь к себе в дом шпионов?
– Шпионов?.. Каких это шпионов? – поднял на нее глаза Лубянский.
Из этого вопроса он уже понял, о чем пойдет дело.
– Как каких? Как будто Полояров не при тебе говорил?
– Э, девочка! Мало ли что говорит Полояров…
– Но это все говорят!.. Весь город знает.
– Ну, мало ли что!.. Собака лает, ветер носит – слышала, чай, пословицу? У нас ведь чего не болтают!
– Но это не болтовня, это правда! Намедни у самого Пшецыньского спрашивали, так он только как-то странно улыбнулся на это и стал уверять, что вздор и выдумки. Одно уж это уверение достаточно подтверждает факт.
– Ну, Нюта, полно пустяки болтать!.. Ни в жизнь я таким вздорам не поверю и даже слушать-то про них не хочу.
– Ха-ха-ха!.. Это мило! Это мне нравится! – нервно потирая руки, зашагала она по комнате. – Ну, так я же тебе говорю, что я не желаю, не хочу – слышишь ли, папахен? – не хочу, чтоб у нас в доме бывал этот шпионишка! После этого к нам ни один порядочный человек и носу не покажет. Мне уж и то говорят все!..
– Кто говорит-то? какой-нибудь Полояров…
– Во-первых, – перебила девушка с ярко проступившею на щеках краской досады, – во-первых, Полояров вовсе не «какой-нибудь», а порядочный человек, которого я уважаю, и потому покорнейше прошу о нем так не говорить!
– Да ты сама-то, Нюта, как говоришь со мной, с отцом-то своим? Что ж, тебе Полояров ближе отца стал, что ли?
– Это вопрос совсем посторонний; и замечаний мне тоже не надо, а я тебя спрашиваю в последний раз: угодно тебе быть знакомым со шпионами?
– Я Андрея Павлыча за шпиона не почитаю и почитать не буду, – решительно и твердо ответил он на это, – и знакомства с ним от каких-нибудь нелепых сплетен не прерву. Вот тебе, Нюта, мое слово!
– Покорнейше благодарю! – иронически поклонилась она. – Я и не знала, что тебе этот барин дороже дочери и собственного доброго имени.
– Матушка! – покачал головой майор, – не Анцыфровым каким-нибудь дарить меня добрым именем, я его сам себе добыл; и не им его вырывать от меня! А о себе ты и не говори… Нюта, Нюточка! да неужто же ты не видишь, голубка моя, как люблю я тебя! – с глубокою нежностью протянул он к ней руки.
– Скажите, пожалуйста! Да в чем это любовь-то ваша? – с пренебрежением выдвинула она свои губки. – Велика заслуга – любовь! Каждое животное, собака – и та любит щенят своих: просто, животно-эгоистическое чувство и больше ничего! Это очень естественно!
Старик в каком-то ужасе поднялся с места.
– Нюта, Нюта! – горько покачал он головою. – И это ты!.. это ты говоришь такие вещи!.. Да кто это вселил в тебя мысли-то такие?.. Боже мой! Родительское чувство… отца вдруг с собакой… со псом приравняла!.. Да что ж это, ей-Богу!.. Нюта, это не ты говоришь… это чудится мне только!.. Нюта! родная моя!.. Поди ко мне.
– Оставь, пожалуйста, нежности, папахен! – мимоходом махнула она рукой. – Я тебе повторяю, если хочешь жить со мной в мире, то чтобы в доме у нас не было больше Устинова, а если он еще раз придет, то я наделаю ему таких дерзостей, каких он еще ни от кого не кушал.
– Ну, уж нет! Этого не будет! – опять-таки решительным тоном возразил Петр Петрович. – Гостя, каков бы он ни был, в моем доме оскорблять не позволю, потому что он гость мой.
– Ха-ха-ха! Это у тебя все твои эти кавказские, восточные правила! – насмешливо проговорила она; – да если этот гость шпионишка, подлец, мерзавец?
– Сударыня! да постыдись ты, Христа ради! – укорливо всплеснул старик руками, – ведь ты благородная девушка! Ну, что ты девичьи уста свои оскверняешь такими гнусными словами! Откуда все это? И что это за тон-то у тебя нынче? Где ж твоя скромность, голубка ты моя?!
– Мне это наконец надоело! – топнула она ножкой, снова скрещивая руки и становясь перед отцом, – я хочу знать решительно: будут ли у нас бывать шпионы или не будут?
– Шпионов не бывало и бывать не будет, – категорически ответил старик, поднявшись с места, – а Андрей Павлыч будет! И пока я жив, я никому не позволю оскорбить его в моем доме, и никто этого не осмелится!
– А, когда так, – так хорошо же! – взвизгнула Анна Петровна, заливаясь гневными слезами. – Это деспотизм… это насилие… это самодурство, наконец!.. Этого я выносить не стану!.. я не в силах больше!.. Терпение мое лопнуло, так и я не хочу, не хочу, не хочу больше! – возвышала она голос. – Слышите ли, не хочу, говорю я вам!.. После этого между нами все кончено! Прощайте, Петр Петрович!
И стремительно вырвавшись из комнаты, она мимоходом захватила гарибальдийку да бедуин, перекинутый через спинку стула, и бросилась вон из дому.
– Нюта! Нюточка! голубчик!.. Куда ты!.. вернись! вернись, Христа ради! – вдруг переполошившись, схватился старик вдогонку за дочерью. Словно ошалелый, выбежал он за калитку и, как был в одном халате, без шапки побежал по улице.
Нюточка спешно обернулась на его голос и, видя, что он ее, пожалуй, догонит, сама торопливо пустилась бежать от него, махая встречному извозчику, и, поравнявшись с его дрожками, с разбегу прыгнула в них.
– Пошел!.. Пошел живее! Поворачивай! – чуть не задыхаясь, толкала она своего возницу – и тот, в надежде на хорошую выручку, со всеусердием стал хлестать свою лошадь.
В эту минуту молодая девушка вся была в какой-то исступленно-нервной экзальтации. Ее душил прилив злостной досады избалованного, капризного ребенка; слезы ручьями катились по щекам; лихорадочная дрожь колотила все тело. Она сама не помнила и не понимала хорошенько, что с нею и что она делает.