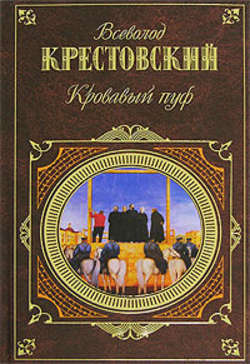Читать книгу Панургово стадо - Всеволод Крестовский - Страница 9
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
IX
Cegla wielkiego budowania [38]
ОглавлениеК девяти часам вечера большинство почтеннейшей публики уже разъехалось из клуба – кто в театр, кто на боковую, кто к разным своим подругам с левой стороны. Остались только те, которые давно уже выступили бойцами на зеленом поле.
Болеслав Казимирович Пшецыньский вышел вместе с лихим полицмейстером Гнутом.
– Махнем-ка, полковник, в театр! – предложил отчаянный экс-гусар. – Нынче Шмитгов в водевильчике, то есть – я вам скажу – прелесть, что такое!.. Ножки, ножки эти – канальство!
– Н-нет, знаете… голова что-то болит, – поморщась, солидным тоном отклонился полковник. – Я лучше прокатиться немножко поеду.
И они расстались.
Полковник вскочил в свои крытые дрожки и приказал кучеру ехать совсем не в ту сторону, куда, в сущности, сам намеревался отправиться. Околесив две-три улицы, он указал наконец вознице своему настоящий путь и вскоре подъехал к высокому забору, за которым в глубине двора ютился в палисаднике каменный одноэтажный домик, рядом с небольшим католическим костелом, построенным во вкусе тех quasi-греческих зданий, которыми было столь богато начало нашего столетия. Дворник растворил ворота, и полковничьи дрожки подкатили к крылечку небольшого домика. Ставни были плотно закрыты, но Болеслав Казимирович смело, привычною рукою, дернул за ручку звонка. Отворить ему дверь вышла со свечой в руке молодая, смазливая женщина, из породы тех, которых очень характерно называют «вкусными» и «сдобными».
– Пан ксендз дома? – спросил Пшецыньский, игриво и ласково кивнув ей головою.
– Дома, дома! уж давно ждет пана полковника, – радушно ответила сдобная женщина, с удовольствием встретив гостя приветливой улыбкой.
Полковник сбросил шинель и вступил в покои священника.
Приемная комната ксендза-пробоща более чем скромно была меблирована простою дубовою мебелью, без мягких сидений, без малейшего намека на какой бы то ни было комфорт. Единственным украшением ее было простое, даже бедное Распятие над окошком.
Навстречу Пшецыньскому вышел неслышною, дробною походочкою, потупив в землю глаза, плотно-кругленький мужчина лет сорока, в длинной черной сутане. Широкое лицо его светилось безмятежно довольной улыбкой. Видно было, что человек этот живет покойно, ест вкусно, пьет умеренно, но хорошо, спит сладко и все житейские отправления свои совершает в надлежащем порядке. «Всегда доволен сам собой, своим обедом и… женой», – сказали бы мы, если б католические ксендзы не были обречены на безбрачие.
– Пану Болеславу! – поклонился он кротко, но вполне приятельски, – и гость вместе с хозяином, взяв друг друга обеими руками под локти, облобызалися дважды.
– Ну, пойдем до кабинета: там теплее и покойнее… потолкуем… Я давно уж с нетерпением ждал пана, – радушно говорил ксендз, предупредительно пропуская Пшецыньского в смежную комнату. – Сядай, муй коханы, сядай на ту фотелю… ближе к камину!.. Ну, то так ладне!.. Чем же мне подчивать пана?
– Ну, уж ничего не могу – прямо с обеда! – отказался Пшецыньский.
– Э, нет, у нас так не водится! – расставил ксендз свои руки. – Не пий з блазнем, не пий з французом, не пий з родзоным ойцем, з коханкой не пий, а з ксендзем выпий – таков мой закон! Я дам пану добрую цыгару, а Зося подаст нам клубничного варенья и бутылочку венгржины, у меня ведь – сам знаешь, коханку, – заветные! От Фукера из Варшавы выписываю, – отказаться не можно!
Взгляд у пана ксендза был мягонький, тихенький, но немного как будто кошачий и в душу заползающий, и голос тоже был тихий, мягкий, немножко тягучий и отчасти сладкий. Говорил он словно бы гладил вас по шерстке бархатною кошачьею лапкою, так что приятное щекотанье на душе от его слов ощущалось. И вот пошел он распорядиться насчет дружеского угощенья, а полковник снял и поставил в угол свою саблю, с подергиваньем поправился насчет шаровар, в силу старой кавалерийской привычки, расстегнул сюртук и в самой покойной позе погрузился в глубокое, мягкое кресло перед пылающим камином.
Этот уютный кабинет, или так называемый у ксендзов «лабораториум», был любимою комнатою ксендза-пробоща Ладыслава Кунцевича. Мягкий ковер застилал крашеный пол, а зеленые рисованные гардины, кидая на все колорит мягкого полусвета, прикрывали большие окна, на которых помещались розы, олеандры, левкои и магнолии. Широкий письменный стол, освещаемый висячею лампою под молочным колпаком, был покрыт бумагами, книгами и множеством таких безделушек, которые можно встретить разве на столе очень красивой женщины или записного великосветского денди; но в этих безделушках ничто не оскорбляло вкуса и благопристойности, ничто не нарушало строгого порядка и своеобразной симметрии. Перед широкой оттоманкой расстилалась на полу роскошно выделанная медвежья шкура. По одной стене были протянуты полки с рядами книг, между которыми виднелись сочинения Севуа, известные высшею строгостью религиозных требований, несколько почтенных фолиантов и толстых томиков, переплетенных в желтовато-белую телячью шкуру, от которых веяло почтенной древностью. По другой стене висело большое Распятие из черного дерева, с фигурою Христа, очень изящно выточенною из слоновой кости, и несколько гравюр: там были портреты св. Казимира, покровителя Литвы, знаменитой довудцы графини Эмилии Плятер, графа Понятовского, в уланской шапке, геройски тонущего в Эльстере, Яна Собеского, освободителя Вены, молодцевато опершегося на свою «карабелю», св. иезуита Иосафата Кунцевича, софамильника пана Ладыслава, который почитал себя даже происходящим из одного с ним рода, и наконец прекрасный портрет Адама Мицкевича. На камине между фарфоровыми вазочками стояли две гипсовые фигурки, из которых одна изображала Джузеппе Гарибальди, а другая – Тадеуша Костюшку в чамарке и конфедератке. В глубине комнаты возвышался молитвенный аналой с высоким подколенником, для того, чтобы необременительно было стоять на коленях во время молитвы. На аналое помещались: бревиарий, два вазончика с букетами искусственных цветов, изящное мраморное изображение Мадонны и над нею металлическое маленькое Распятие. Несколько других картинок изображали все аллегорические да исторические сценки из истории Литвы и Польши, вроде любовных объятий Немана с Вилией, страдания каких-то католических святых и две богородицы: Остробрамскую и Ченстоховскую. Но замечательнее всего по художественной части в этой комнате являлись два портрета, вделанные, под стеклом, в золоченые рамки и висевшие прямо перед рабочим столом хозяина. На одном портрете очень рельефно вырисовывались энергические черты покойного императора Николая; другой изображал государя императора Александра II.
Вкусная Зося, все с той же игриво-приветливой улыбкой, принесла на подносе хрустальную вазочку с вареньем и темную бутылку, на поверхности которой являлись почтенные следы стародавнего пребывания в Фукеровских подвалах.
– Добрым людям добрую венгржину не подобает пить из простых стаканов, – докторально заметил пан ксендз, – а потому мы достанем две фамильные дедувки: еще Ржечь Посполиту помнят!
И он не без самодовольной гордости добыл из маленького шкафчика две серебряные стопки изящной старопольской работы.
– То еще моему деду, пану Богушу Кунцевичу, сам яснеосвецоны пан ксионже Адам Казимерж Чарторыйский на охоте в Пулавах презентовал на памёнтек, бо пан дед Богуш (тенчас еще млоды чловек) добрже забил недзьведзя с едней карабелей! – с особенным уважением пояснил пан ксендз, поднося к пану Болеславу свои стопки, чтобы тот полюбовался на их отменную чеканку.
Пан ксендз, с приемами истого знатока и любителя, серьезно освидетельствовал поданную бутылку; неторопливо и аккуратно откупорил ее, обтер и обчистил салфеткой горлышко, с улыбкой истинного наслаждения, тихо прижмурив глаза, глубоко потянул в себя носом ее ароматный букет, затем стал тихо лить вино, любуясь на его чистую, золотистую струю, и, словно бы прислушиваясь к музыкальному шелесту и бульканью льющейся влаги, отхлебнул от края и подал стопку своему гостю. Потом с точно таким же наслаждением он наполнил другую для самого себя и, придвинув возможно ближе свое кресло, уселся как раз против Пшецыньского, затем, тихо дотронувшись обеими ладонями до его коленей и пытливо засматривая в его глаза, спросил каким-то нежно-ласковым, как бы расслабленным и в то же время таинственно-серьезным тоном:
– Ну, и цо ж, мой коханы?
– Ну, и ниц! – пожал плечами полковник.
– Як-то ниц?!.. Ведь стреляли?
– В Снежках стреляли, а в Пчелихе нет, и в Коршанах нет… Да это что! Этих глупых баранов даже и пулей не озлобишь! Крепки они очень, мой ксенже канонику!..
И Пшецыньский подробно и обстоятельно, час за часом, шаг за шагом, передал своему собеседнику всю историю пчелихинских и снежковских восстаний и укрощений. Ксендз слушал серьезно и внимательно, время от времени отхлебывая маленькими глотками из своей стопки. По временам выражение лица его принимало многозначительно-довольный вид, и он одобрительно поддакивал Пшецыньскому кивками. Когда же полковник окончил свой отчет, ксендз-пробощ Кунцевич вздохнул как-то особенно легко, выразительно-крепко пожал руку гостю и с многодовольной улыбкой сказал ему:
– Терпение, терпение, муй коханы брацишку!.. Я доволен паном: пан действовал хорошо! Ойчизна неподлеглая, вольная, не забудет послуги паньскей!.. Каждое такое действие, как было в Снежках, это новый кирпич в фундамент велькего будованя!
И ксендз, воодушевленный заветною мыслью, встал с места и зашагал по комнате, отчасти взволнованною, но вечно неслышимою, беззвучною походкою.
– Терпение, говорю я, – продолжал он, потирая руки, – терпение, терпение!.. Это ничего, что это быдло кричало: «мы царские и кровь наша царская!» – важно то, что в них стреляли, что они видели убитых братьев, что они крови понюхали, – вот что важно! Такие моменты не должны проходить даром, – человеческая память не должна их забывать! И ты, муй коханы панку, придержался тут доброй политики: дело сделал, совет подал, а сам в стороне. Этих псов ведь только науськать надо, а уж грызть они пойдут сами! Кто таков в их глазах посланец? Правительство! Сегодня они кричат: «мы царские!» – завтра перестанут, лишь бы на нашу бедную долю доставалось побольше таких добрых посланцев! Нужды нет, что это быдло не будет с нами: нам его и не нужно; оно будет само по себе и само за себя; лишь бы поднялось одновременно с нами – и тогда дело наше выиграно! Мы разом дадим шах и мат! Они для нас дрова, которые мы сжигаем. Но… будем казаться пока братьями… Это нужно! Вот я покажу пану одну штуку! – продолжал ксендз, отперев свое бюро, в котором подавил незаметную пружину, раскрывшую потайной ящичек. – Вот я не далее как на днях еще, в полнейшее подтверждение наших собственных мыслей и планов, получил от бискупа с забранего края маленькую цидулу… я ведь писал туда. Тут и маппа [39] приложена. Эту маппу составил один из наивысших филяров велькего будованя, пан грабя Скаржиньский. Пан, конечне, слыхал про пана грабего и знает, цо то есть за дроги человек!.. Вот что пишет бискуп:
«Недоразумения между хлопами и панами, вследствие царства тьмы и дьявола, должны усложняться, и уже сильно усложнились по всему забранему краю. Паны, как добрые обыватели, остаются в стороне, а дело идет через посессоров, экономов, арендаторов и в особенности через пакцяжей [40]. При первых недоразумениях, и нам и им (разумею добрых панов), подобно Понтию Пилату, надлежит умывать руки и (политично для холопских глаз) стараться ввести в дело войско и власть наезда. Эмиссары делают свое дело и по корчмам пускают слухи, что московский царь, чрез своих катов и гицелей-желнержей, душит и панов, и хлопов вместе; что паны рады бы дать хлопам и волю, и землю, да Москва мешает: москали не хотят воли. Озлобление на ржонд московский, по сведениям нашим, сильно растет между хлопами, – Бог и свентый Казимерж помогают свентей справе. Пан грабя систематично наметил на маппе, от пункта до пункта, где, как и когда должны происходить воинские экскурции. Он строго и обдуманно расчел, что если в пункте А произошло столкновение между хлопами и быдлом наяздовым, то до каких географических пределов может и должен распространиться в народе слух и молва об этом столкновении. Тогда последовательно избирается новый пункт В, и так далее. Такие округи помечены на маппе особыми кружками, а направление молвы и слухов приблизительно определено в виде радиусов, расходящихся от известного центра особыми красными лучами и линиями. Эту маппу я рекомендую преимущественно пану, для зависящих соображений, а если можно, то и для распоряжений. Для успеха нашего дела было бы весьма желательно, чтобы подобные явления повторялись чаще и систематичнее во всей коренной России, а особенно на Волге, где край, по нашим сведениям, преимущественно склонен к волнениям. Первой задачей, при совершившемся разрешении крестьянского чили хлопского вопроса, которое разрешение, в принципе, является для нас, как для людей шляхетных, все-таки фактом весьма печальным, – должно быть с нашей стороны старание поселить в народе недоверие к правительству и затем возбудить ненависть и вражду к нему. Остальное сделают Бог, время и неусыпные труды добрых патриотов наших, по преимуществу же труды и усилия свентего костела и нашей свентей вяры. Надобно из самаго зла извлекать для себя возможную пользу: потщимся и силу дьявольскую эксплуатировать в пользу костела! Минута благоприятствует, и посему не теряйте времени, да не застанет вас всех во тьме слепыми и спящими великий Судия и Решитель судеб, как тать в ночи приходящий, но да предстанете пред Него бодрствующими, с горящими светильниками веры в руках и опоясанныя поясом любви к ойчизне. Борьба наша есть борьба царствия света с царством тьмы дьявола; а Христос сказал: «созижду церковь Мою на камне крепком, и врата адовы не одолеют ее». Ergo: победа за нами! Шлю вам мое пастырское благословение и, любя вас во Христе, пребываю – смиреннейший раб рабов – к вам всегда благосклонным. «Benedicat vos Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen» [41].
Подписи не было.
По прочтении письма и гость и хозяин сосредоточенно погрузились в некоторую задумчивость.
Вдруг за печкой сверчок цвирикнул.
Пшецыньский в тот же миг насторожил уши и, сделав ксендзу рукою жест, который в точности выражал предупредительное междометие «тсс!» – прислушиваясь осторожно чутко, закусил себе нижнюю губу, внимательно осмотрелся вокруг и особенно покосился на окна и двери. Но сверчок цвирикнул вторично – и полковник успокоился.
– Через кого получено? – поднял наконец он голову, с облегчительным вздохом, когда Кунцевич подлил из бутылки в обе стопы.
– Конечно, частным путем. Новый эмиссар приехал перед вашим отъездом в Снежки, – таинственно сообщил хозяин, – он и привез мне это.
– Кто такой? – столь же таинственно полюбопытствовал Пшецыньский.
– Некто Францишек Пожондовский, молодой, но надежный человек; из Казанского университета… был на Литве, оттуда прямо и приехал… послан к нам, в нашу сторону.
– По-русски хорошо говорит?
– Як сам москаль! Человек годящийся.
– Ну, то добрже!.. А еще не начал?
– Юж! – махнув рукою, тихо засмеялся ксендз-пробощ. – И теперь вот, я думаю, где-нибудь по кабакам шатается! На другой же день, как приехал, так и отправился в веси. Лондонских прокламаций понавез с собою – ловкий человек, ловкий!
– А ведь я к пану за советом! – после небольшого молчания начал Пшецыньский, закурив новую сигару. – Ксендз каноник знает, что сегодня у Покрова служилась панихида по убитым в Снежках?
Кунцевич в ответ кивнул головою, как о деле досконально ему известном.
– Я посылал туда адъютанта, да и кроме того, мне донесли о всех почти, кто там находился, – продолжал Пшецыньский. – Только не знаю, как лучше сделать теперь: донести ли сейчас или как-нибудь помягче стушевать это происшествие?
Ксендз отхлебнул из стопки и, многозначительно уставив глаза в землю, с раздумчивым видом пошевелил и поцмокал губами.
– Мм… Донести! Я так полагаю, что непременно надо донести, и чем скорее, тем лучше, – порешил он. – Не забывай, коханы пршияцелю, – назидательно промолвил он, – что мы люди подлегальные, а потому нам всегда следует прятаться под легальность.
– Но ведь потом, вероятно, арестовать придется? – возразил Болеслав Казимирович.
– Ну, и цо ж! Ну, и арестовать!.. Надо только донести с разбором и арестовать с разбором. Людей одиноких, безродных, из тех, которые покрасней да позадорливей, мы не тронем, – развивал ксендз свою теорию, – те нам и самим еще впредь пригодятся. А тех, у которых есть родня, знакомства, семейства и, главное, которые менее энергичны в деле, – тех позабираем и отправим до казематов. Таким способом мы двух зайцев убьем! Хе, хе, хе! – тихо посмеивался избоченившийся ксендз-пробощ, ласково хлопнув полковника по колену и плутовато подмигивая ему глазом. – Все-таки двух зайцев разом! – продолжал он. – Все, чтó пригодно, то останется, а о тех, которые будут забраны, и в семьях, и в обществе пойдут толки, сожаления, сетования да ропот… Недовольство станет возрастаться, все-таки лишняя капля горечи в чашу, а Панургово стадо не ослабеет, если несколько баранов будут зарезаны!.. Надо только, чтобы бараны были так себе, не важные, из не особенно тонкорунных. Это нам, душечко, все на добро да на пользу! Не надо нигде упускать своих нитей!
Полковник благодарно обнял и звучным поцелуем от души облобызал своего глубокотонкого и политичноумного советника. Недаром оба они называли себя цеглой велькего будованя [42].
Приятели роспили заветную бутылку; ксёндз вдосталь полакомился вареньем, и Пшецыньский стал прощаться. Опять они взялись под локти и взаимно облобызались дважды.
– Ах, да!.. Чуть было не забыл! – остановил Кунцевич своего гостя, провожая его в прихожую. – Если пан увидит завтра утром пани Констанцию, то пусть скажет, что я заеду к ним часов около трех; надо внушить ей, пускай-ко постарается хоть слегка завербовать в стадо этого фон-Саксена… Он, слышно, податлив на женские речи… Может, даст Бог, и из этого барона выйдет славный баран! – с обычным своим тихим и мягким смехом завершил Кунцевич, в последний раз откланиваясь Пшецыньскому.
Они расстались, но оба в тот вечер не закончили еще свою деятельность на приятельском разговоре. И тот и другой долго еще сидели за рабочими столами в своих кабинетах. Один писал донесение по своему особому начальству, другой – к превелебному пану бискупу с забранего края.
39
План, ландкарта.
40
Pakciarz – еврей, арендующий панских коров.
41
Да благословит вас отец, сын и дух святой. Аминь (лат.).
42
Cegla – кирпич. Wielkie budovanie – великое строение, – стародавний, специальный термин для обозначения конспиратной деятельности польской справы. Возник он первоначально от «белых».