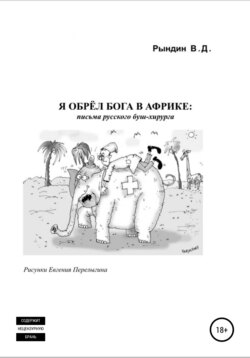Читать книгу Я обрёл бога в Африке: письма русского буш-хирурга - Вячеслав Дмитриевич Рындин - Страница 14
Письма русского буш Хирурга
8. Суламифь
ОглавлениеПосле окончания московского медицинского училища я в течение двух лет не имел права обучаться на дневном отделении института. Поступление на вечернее отделение биологического факультета МГУ не избавило меня от службы в армии – меня призвали и с дипломом фельдшера и направили в учебный медико-санитарный батальон в городишке Добеле под Ригой (Латвия).
После завершения годового курса обучения на санитарного инструктора нас разослали для прохождения практики по различным гарнизонам Прибалтийского военного округа. Мне повезло – я попал в сказочный древний Таллин в конце мая. Стояла чудесная погода и белые ночи.
Меня определили фельдшером в кадрированную дивизию Панфилова, Клочковский полк, в роту Александра Матросова. Нормальное состояние этой воинской части в мирное время было «сонное» – она должна была быть в постоянной готовности к «развёртыванию». Эту готовность поддерживали не более сотни солдат и сержантов срочной службы, несколько десятков разного ранга «сверхсрочников» и кадровых офицеров. Иногда часть «развёртывали» для учебных целей за счёт призыва «запасников» – солдат и офицеров. Вот в один из таких периодов жизни части я в неё и попал.
Единственной достопримечательностью дивизии, полка и роты, на мой взгляд, была идеально заправленная солдатская койка, над которой висел портрет Александра Матросова – солдата, бросившегося грудью на амбразуру пулемётного дзота, по словам советских историков, со словами: «За Родину! За Сталина!»
Я же был глубоко убеждён в том, что Саша мог броситься на пулемёт только со словами: «Ну, бляди!!!»
Призванных на несколько месяцев «запасников» одевали ужасно: «б/у х/б» (бывшие в употреблении хлопчатобумажные) гимнастёрки и безразмерные брюки-галифе, окрашенные в неописуемые цвета. Одетому в эту унижающую достоинство любого homo sapiens форму солдату/офицеру Советской Армии голову украшал потерявший форму убор цвета половой тряпки – пилотка. На ноги полагались кирзовые сапоги, восстановленные по какой-то хитрой российской технологии из сапог б/у.
Так же отвратительно и кормили «запасников»: каша под названием «кирза»[9], горох, жирная свинина. От этой пищи вспученные солдатские животы получали облегчение только при маршировании по плацу – каждый твёрдый удар кирзового сапога по плацу сопровождался порционным освобождение кишечника, которое в русском народе называется «попёрдыванием».
Как можно было назвать строй таких чучелообразно одетых и попёрдывающих солдат? Не иначе, как «пердячее воинство»… Но русский сердобольный народ прозвал их более ласково – «партизаны».
Дисциплина в «пердячем войске» была воистину партизанская – после отбоя половина личного состава прославленной дивизии имени героя Великой Отечественной войны и защитника Москвы генерала Панфилова рассасывалась по Таллину, а перед командой «Подьём!» отдохнувшие за ночь люди возвращались обратно в казармы. Поскольку Таллин в то время не знал темноты, жители города могли наблюдать белыми ночами «отливы» и «приливы» омерзительного цвета массы в районе упомянутой дивизии.
После жесткого режима учебного подразделения города Добеле я наслаждался свободой «партизанской» жизни в древнем Таллине. Однако ходить одному белыми весенними ночами по Вышгороду или аллеям Кадриорга было просто невыносимо, требовалась девушка. Найти даму в Таллине было очень непросто – город был переполнен романтически настроенными молодыми офицерами армии и флота, курсантами военно-морских училищ, на худой конец, матросами срочной службы – с элегантной формой всех перечисленных представителей личного состава ВС (Вооружённых сил) не могла конкурировать даже новая х/б гимнастерка и начищенные до блеска кирзовые сапоги сексуально озабоченного сержанта медицинской службы танковых войск.
Суламифь появилась на моём горизонте совершенно в неожиданном месте – в медицинском пункте дивизии. И хотя небольшого роста брюнетка с пухлыми губами и огромными чёрными глазами, полными тысячелетней тоски, в ответ на мой вопрос «Вы – Суламифь?» произнесла: «Нет, я – не Суламифь, я – Иоэлит. Я здесь работаю зубным техником», – я понял, что место царя Соломона мне в белые ночи обеспечено.
Для завоевания сердца Иоэлит-Суламифи, помимо исковерканных цитат из повести Александра Куприна, мне пришлось пустить в ход все мизерные запасы слов на идиш, которыми меня научили мои сослуживцы по учебному медсанбату – евреи из Москвы, Риги и Резекне. Я тогда был ещё темноват волосом, глаза мои были ещё достаточно карими, а на моём худом ещё лице нос казался достаточно большим, чтобы я мог без труда сказать: «Да, я – еврей… ну, не чистый, к сожалению…»
Иоэлит жила со своими родителями в небольшом деревянном домике, построенном, вероятно, ещё во времена буржуазной Эстонии. Домик находился в центре сада с множеством плодовых деревьев, деревянный забор сада примыкал к кирпичной стене, ограждающей расположение Панфиловской дивизии. Такое везение ко мне ещё не приходило за время службы в армии.
Вечером того же дня мы отправились с Иоэлит в старый город. Моего скромного денежного довольствия хватило только для приглашения её на чашку кофе.
Уже на следующий день Еля показала мне скрытую в кустах сирени дырку в кирпичной стене, которая вела прямо из части к её жилищу.
– Слушай, Еля, да ведь это же твой виноградник! А говоришь, что ты не Суламифь.
– Пойдём в дом, я попрошу родителей напоить тебя чаем. Потом посмотрим, какой ты Соломон, – устало улыбнулась девушка.
«Чай» в гостеприимном еврейском доме, где девушка на выданье, для молодого неженатого «еврея», пусть даже в солдатской форме, – это пир души и тела!
Мне было очень уютно и хорошо в старом скрипучем доме, за столом, на который два толстеньких человечка под постоянное причитающее добродушное кудахтанье выставляли из холодильника, чулана, бесчисленных шкафов и полочек какие-то немыслимые домашней выделки и необычайной вкусности вещи. Я моментами чувствовал себя засранцем – обманщиком, но у меня хватало сознания понимать, что весь этот пир затеян вовсе не ради меня, он просто был ни чем иным, как проявлением любви двух стариков к единственной дочери.
Мама величала меня «доктор», чем вогнала меня в смущение и вынудила поправить её:
– Да я просто фельдшер… несостоявшийся студент мединститута.
– Ну что же, что «фельдшер»? Сегодня вы – фельдшер, завтра – доктор! – ободряющее произнесла мама.
Где-то в 10 часов вечера Еля пошла меня провожать. Мы с ней застряли в саду почти до самой команды «Подъём!»
9
Ки́рза – материал на основе многослойной хлопчатобумажной ткани, обработанной плёнкообразующими веществами. Используется как заменитель кожи. Поверхность кирзы подвергают тиснению для имитации фактуры свиной кожи.
Отсюда пошла и «кирзовая каша» – Объясняется это крайней непопулярностью перловой каши среди солдат и офицеров, которую за несъедобность прозвали "кирзой".