Пути русской философии в свете кризиса европейской метафизики
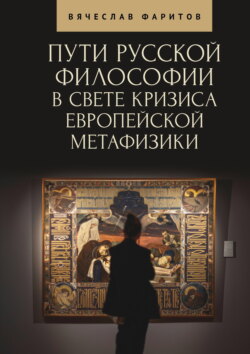
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Вячеслав Фаритов. Пути русской философии в свете кризиса европейской метафизики
Предисловие
Введение. В.С. Соловьев и Ф. Ницше в свете кризиса европейской метафизики
Глава 1. Кризис европейской метафизики: Ницше и русская религиозная философия
1.1. Кризис европейской метафизики и русская религиозная философия
1.2. Пути русской религиозной философии в свете кризиса европейской метафизики
1.2.1. По ту сторону категорий европейской онтологии: сверхбытие
1.2.2. Учение о конкретности Бога: Троичность
1.2.3. Благая весть и жизнь будущего века
1.3. Генезис идеи кризиса европейской метафизики и культуры в учении молодого Ницше
1.3.1. В поисках метафизики: античность сквозь призму философии Шопенгауэра и музыки Вагнера
1.3.2. Человек античный и человек современный
1.3.3. Проблема христианства
1.4. Преодоление платонизма в учении Ф. Ницше: становление постметафизической философии
1.5. (Пост)метафизические смыслы истории: Арнольд Тойнби
Глава 2. Псевдоморфоза русской философской мысли
2.1. Псевдоморфоза русского религиозного сознания: Г. Флоровский и О. Шпенглер
2.2. От Гегеля к Булгакову: на перепутье мысли
2.3. Лики русского гегельянства: С.Л. Франк между Гегелем и Ницше
2.4. Символы абсолютной полноты бытия: метафизическая и постметафизическая модели
2.4.1. Философия жизни в учениях Ф. Ницше и Н.О. Лосского
2.4.2. История души Ницше в свете философской рефлексии Лосского
2.4.3. История культуры и человечества в философии Ницше и Лосского
2.5. От Гегеля к Канту: философские поиски И. Ильина в свете кризиса европейской метафизики
2.5.1. Кантианские мотивы в «Аксиомах религиозного опыта»: проблема границы человека и Бога
2.5.2. Трансгрессивные феномены религиозного опыта: от Канта к Ницше
2.5.3. Послесловие: путь духовного обновления русского кантианца Николая Аполлоновича Аблеухова
2.6. Апофатическая философия Б.П. Вышеславцева: эстетика, религия и психология
2.6.1. Вышеславцев и Кант: апофатическая эстетика
2.6.2. Вышеславцев и Ницше: отрицание ложной абсолютизации и ложной сублимации
2.6.3. Вышеславцев и Юнг: апофатическая психология
Глава 3. Богословский поворот в русской философии
3.1. Философский потенциал восточного богословия: от античности к современности
3.1.1. Преодоление платонизма
3.1.2. Преодоление кантианства
3.1.3. Преодоление ницшеанства
3.2. Ницше и современное православное богословие
3.2.1. Ницше и православие в свете кризиса европейской метафизики
3.2.2. Апофатическая философия Ницше как ответ на кризис европейской метафизики
3.3. На пути к метафизике православного богословия
3.4. Пневматологические учения Н.А. Бердяева и С.Н. Булгакова: экстаз и кенозис
3.4.1. Дух в учении Н.А. Бердяева: экстатическая пневматология
3.4.2. Дух в учении С.Н. Булгакова: концентрическая пневматология
3.4.3. Пневматология как философия будущего
3.5. Кризис западного богословия: идея «смерти бога» в учениях Х. Яннараса и Т. Альтицера
3.5.1. Кризис западного богословия в перспективе православия: Христос Яннарас
3.5.2. Теология мертвого Бога: Томас Альтицер
3.6. Исихазм и кризис европейской метафизики
3.7. Семиотика религиозного опыта
Глава 4. Пути преодоления
4.1. Грехопадение философии: Гуссерль contra Шестов
4.2. Ответ Ницше: от воли к власти к воле к смыслу (Е. Трубецкой contra Ницше)
4.3. Постметафизическая метафизика Л.П. Карсавина
4.3.1. Тень гегельянства: диалектика всеединства
4.3.2. От Гегеля к Ницше: постметафизические тенденции в философии Карсавина
4.3.3. Постметафизическая персонология: от трансценденции к трансгрессии
4.3.4. Русский путь: (пост)метафизика христианства
4.4. Русская религиозная философия в свете кризиса европейской метафизики: Л.П. Карсавин и Ф. Ницше
4.5. Стратегия растождествления: античный и христианский логос в учении С.Н. Трубецкого
Глава 5. В поисках идентичности
5.1. Учение о закате Европы в русской религиозной философии
5.1.1. Россия и Европа в учении Ивана Киреевского
5.1.2. Трансформация взглядов на Россию и Европу в учении Константина Леонтьева
5.2. Кризис западной философии и русский путь: И.В. Киреевский и Т. Альтицер (сравнительный анализ)
5.2.1. Идея кризиса европейской философии в учении И.В. Киреевского
5.2.2. Кризис европейской метафизики в постметафизической теологии Т. Альтицера
5.2.3. Россия и Европа: И.В. Киреевский и Т. Альтицер
5.3. Н.Я. Данилевский: постметафизические мотивы славянофильства
5.3.1. Границы и трансгрессия: у истоков новой философской парадигмы
5.3.2. Данилевский и Ницше
5.3.3. Творчество и трансгрессия
5.4. Воля к власти в этногенезе: ницшеанские мотивы евразийской антропологии
5.4.1. Пассионарность и воля к власти: Л. Гумилев и Ф. Ницше
5.4.2. Философия истории Ницше и Гумилева
5.4.3. «Мораль господ» и «люди длинной воли»: Ницше и Николай Трубецкой
5.5. Цивилизационная идентичность России как философская проблема
5.5.1. Кризис западничества: В. Вейдле
5.5.2. Постмодернистский консерватизм: А. Дугин
Глава 6. А.Ф. Лосев как зеркало русской философии
6.1. Идея «смерти Бога» в учении А.Ф. Лосева
6.2. Модели Ренессанса: реконструкция и деконструкция
6.2.1. Модель Ренессанса в учении Ницше
6.2.2. Модель Ренессанса в учении Лосева
6.2.3. Пути преодоления кризиса европейской метафизики: от советской философии к богословию православной церкви
6.3. Семиотика мифа: А.Ф. Лосев и Ф. Ницше
6.3.1. Миф и наука в учении Ф. Ницше и А.Ф. Лосева
6.3.2. Миф и метафизика в учении Ф. Ницше и А.Ф. Лосева
6.3.3. Миф и проблема времени
6.3.4. Семиотическая структура мифа
6.4. Слово в романе и слово в мифе: М.М. Бахтин и А.Ф. Лосев
6.5. Пути преодоление платонизма: европейская и русская модель
6.5.1. Преодление платонизма в учении Ф. Ницше: европейская постметафизическая модель
6.5.2. Преодоление платонизма в учении А.Ф. Лосева: русская православная модель
6.6. Стратегия растождествления: античность как негатив христианской культуры в учении А.Ф. Лосева
Заключение. Умозрение в звуках
1. Умозрение в красках и умозрение в звуках: проблема перспективизма
2. Аполлоническое и дионисийское начало в современной музыке: Вторая симфония А. Шнитке
Библиография
Список литературы и источников
Сочинения Ф. Ницше на русском языке
Сочинения Ф. Ницше на немецком языке
Публикации автора по теме
Отрывок из книги
Идея кризиса (или даже конца) западной философии составляет одну из центральных проблем философских размышлений XIX–XX столетия. Инициированная Гегелем, данная тема получила широкое распространение в учениях представителей самых различных направлений философской мысли. Кризис западной философии является одним из наиболее значимых моментов самосознания не только европейской, но и русской мысли. При этом следует учитывать как точки пересечения, так и существенные различия в разработке этой темы в русской и западной философии. В России одним из первых к идее кризиса западной философии обратился И.В. Киреевский. Впоследствии эта тема получила свое воплощение в программных работах Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова. В Европе об исчерпанности потенциала философской мысли впервые наиболее отчетливо заговорил Ф. Ницше. Вслед за ним эта тема разрабатывалась О. Шпенглером, неопозитивистами и постструктуралистами.
Европейская метафизика формируется в Средние века на основе усвоения метафизических разработок греческой философии и в связи с необходимостью осмысления догматов западного христианства. К этому времени потенциал античной культуры уже был исчерпан. Европейская метафизика рождается в точке слома и гибели античности. Созревший к началу XX столетия кризис европейской философии имеет своим содержанием исчерпанность потенциала метафизики. Этот кризис отчетливо заявил о себе уже в учении И. Канта и получил свое выражение в философии Г.В.Ф. Гегеля и Ф. Ницше. Метафизические учения XX века во многом были лишь попытками возобновить угасающий пламень философской мысли. И попытки эти были обречены на неудачу. Такие мыслители, как К. Ясперс и М. Хайдеггер вполне понимали свое положение в истории западной метафизики. Они – «гномы» или «смотрители галерей».[1] Торжество позитивизма и постструктурализма знаменует окончательный разрыв с метафизическими традициями. И конец европейской философии. Это осознается достаточно ясно самими европейцами: «Умерла ли философия вчера, после Гегеля, Маркса, Ницше или Хайдеггера – так что ей еще только предстоит направиться к смыслу своей смерти, – или же она всегда только тем и жила, что чувствовала свое приближение к смерти…».[2]
.....
В богословии конкретность Бога достигается в разработке догмата о Троице. В трактовке данного догмата заключен корень православного богословия (наряду с трактовкой догмата о боговоплощении). В Троице Бог мыслится как одновременно единый и различный в трех Лицах (ипостасях). Троичность Божества есть неслиянное слияние. Именно в этом пункте коренится фундаментальное отличие онтологии восточного богословия от древней и новой (европейской) метафизики. Преподобный Иоанн Дамаскин дает следующее разъяснение догмата: «три Лица Святой Троицы соединены без слияния и различаются и исчисляются без разделения, и число не производит в Них ни разделения, ни разлучения, ни отчуждения, ни рассечения, ибо мы признаем Отца и Сына и Святого Духа единым Богом».[53] Троичность не сводится к абстракции числа, в которой дано либо не ведающее различия единство, либо исключающее единство различие. В Троице сверхсущественным, т. е. превосходящим абстрактную простоту метафизической субстанции образом единство включает различие, а различие – единство. Ни один из этих моментов не получает онтологического приоритета по отношению к другому. В этом пункте богословие достигает своего высшего предела, поскольку начинает превосходить возможности как оперирующего абстрактными категориями рассудка, так и ориентированного на единичное чувственного восприятия. На такую высоту не дерзал взойти Кант, скромно остановившийся перед антиномиями чистого разума и оставшийся в границах возможного познания. Гегель, предпринявший попытку подняться от рассудочной метафизики к конкретному единству Бога, достиг в итоге лишь люциферического обожествления философского разума, высказав «абсолютную претензию мыслить мысли Бога».[54]
Дионисий Ареопагит поясняет превосходящее возможности рассудка и чувственного восприятия содержание догмата с помощью метафоры света светильников. Вот этот один из наиболее значимых фрагментов «Ареопагитик»: «как свет каждого из светильников, находящихся в одной комнате, полностью проникает в свет других и остается особенным, сохраняя по отношению к другим свои отличия: он объединяется с ним, отличаясь, и отличается, объединяясь. И когда в комнате много светильников, мы видим, что свет их всех сливается в одно нерасчленимое свечение, и я думаю, никто не в силах в пронизанном общим светом воздухе отличить свет одного из светильников от света другого и увидеть один из них, не видя другого, поскольку все они неслиянно растворены друг в друге. Если же кто-нибудь вынесет какой-то один из светильников из дома, выйдет наружу и весь его свет, ни один из других светов с собой не увлекая и другим своего не оставляя. А ведь имело место, как я сказал, полнейшее соединение каждого из них с каждым другим, без какого-либо смешения и слияния каких бы то ни было составляющих их частей, причем свет был источаем материальным огнем в по-настоящему материальном теле, воздухе».[55] Именно в Троице раскрывается сверхсущественная природа божественного единства, превосходящего оппозиции идеального и телесного (материального): «Поэтому мы говорим, что сверхсущественное единство превосходит не только единство в телесной среде, но даже единство душ и самих умов».[56] Сверхсущественное единство потому и является сверхсущественным, что момент высшего единения – непостижимым для абстрактно мыслящего рассудка образом – превосходя все оппозиции, одновременно сохраняет различия Лиц: «в самом единстве каждая из начальных ипостасей сохраняет… свое собственное бытие, не смешиваясь и не сливаясь с другими».[57]
.....