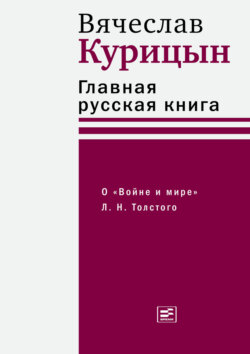Читать книгу Главная русская книга. О «Войне и мире» Л. Н. Толстого - Вячеслав Курицын - Страница 4
Читаем первые шесть глав
Было понятно, автор сделал непонятно. 1-1-I
(а)
ОглавлениеБольшое пустое пространство, два человека садятся на диван и ведут довольно напряженный разговор на двух языках, несколько раз меняясь ролями. Так начинается «Война и мир» – дуэтом-дуэлью в безлюдной гостиной.
Фрейлина Анна Павловна Шерер созвала на вечер знатную публику, важный и чиновный князь Василий Курагин явился первым. В гостиной могли быть слуги, но их не видно. Просьбу князя подать чай Анна Павловна забалтывает. В черновиках в конце эпизода возникал лакей и объявлял, что сейчас зайдут такой-то и такая-то, но в печатный текст лакей не проник, автор оставил сцену на двоих.
– Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte.
Это первые слова книги: «Ну, князь, Генуя и Лукка – не более чем поместья фамилии Бонапарте».
Разговор происходит в июле 1805 года, когда события в Генуе и Лукке были на слуху. Первую Наполеон только что присоединил к Франции, вторую отдал во владение сестре своей Эльзе.
Анна Павловна и князь не просто светские болтуны – они инсайдеры и лоббисты, понимают, о чем говорят. Возникающие в тексте вслед за Бонапартом Гарденберг, Гаугвиц и Новосильцев с какой-то депешей для них не ноунеймы, а от извивов международного положения зависят мир и война.
Для современного читателя эти фамилии и дальнейшие рассуждения о позиции Австрии – информационный шум. Кто такой Новосильцев, что он написал в упомянутой депеше, куда ее адресовал – непонятно. Далее Шерер выражает уверенность, что Бог и русский царь спасут Европу, – отлично, основная мысль ясна, а подробности будто и неважны.
Современный читатель, конечно, может выяснить что к чему в комментариях, для этого даже не нужно иметь дома научное издание, многое можно найти просто в интернете. Но мало кто так поступает.
Первые главы книги «Война и мир», называвшейся тогда «Тысяча восемьсот пятый год», появились в московском журнале «Русский вестник» в начале 1865-го. Насколько лучше нас читатель из 1865-го был осведомлен о событиях 1805-го? Можно предположить, что не слишком. Да, еще живы современники, 60 лет – это не 200, но тоже много, учитывая, что в XIX столетии было гораздо меньше источников информации. Широкого читателя, хорошо понимающего контекст этого разговора, не существовало никогда.
В тексте, опубликованном «Русским вестником», Толстой сам выступал в качестве исторического комментатора. Там первые главы были раза в полтора длиннее, чем сейчас.
«Содержание депеши от Новосильцева… было следующее» – а дальше и содержание депеши раскрывалось, и внятно разъяснялась историческая ситуация. Казалось бы, совершенно естественно – дать знать читателю, о чем вообще речь. Или зрителю: британский сериал «Война и мир» (2016) начинается с титра и закадрового текста о том, что Наполеон вторгся в Австрию, против него создана коалиция, в которую вошла и Россия; в американском фильме «Война и мир» (1956) эту информацию закадровый голос оглашает сразу после списка актеров. Логично. Нечто подобное было и у Толстого в журнальной публикации. А в рукописях – даже и просто то же самое: один из черновиков начинался фразой «В начале 1805 года первая европейская коалиция против Буонапарте была уже составлена».
Но эта фраза не доехала даже до «Русского вестника», а в первом же книжном издании романа, в 1869 году, исчезли и объяснения про депешу. Было понятно – стало непонятно.
Вряд ли способствуют ясности и два языка. Диалог в первой главе, как все помнят, идет на французском с русскими вставками. «Je suis votre верный раб», – блещет князь Василий двуязычной аллитерацией.
Далеко не все дворяне во второй половине XIX века прекрасно владели «дворянским наречием», французским языком; не всякий россиянин владеет им и сегодня. Внизу страницы размещен перевод, в котором на месте русских вставок многоточия, которые добавляют путаницы. «Je suis votre» («Я ваш…») переведено, а вместо «верного раба» – точки, поскольку он уже написан по-русски выше, и если вы не помните ту фразу, что выше, наизусть, то из перевода вам нужно снова прыгнуть наверх, в текст, потом снова в перевод.
Причем, даже вовсе не зная языка, можно заметить, что перевод довольно часто не соответствует переводимому.
Фраза «Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte» в вашем домашнем издании переведена не как «Генуя и Лукка не более чем поместья фамилии Бонапарте», а как «Генуя и Лукка – поместья фамилии Бонапарте». Перевод явно короче оригинала. В публикации «Русского вестника» и в первом книжном издании 1869 года он был полнее, в том же 1869-м во втором книжном издании усекся.
В результате всего этого первая половина первой главы – непонятный во многом читателю разговор, зона тумана.
Разговор этот разбит ремарками, позиционирующими героев. Князь Василий говорит с «тихими, покровительственными интонациями», о здоровье Анны Павловны (она приболела) осведомляется «тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка», сообщает, что не сможет задержаться на весь вечер, ибо обещал заехать на праздник к английскому посланнику, издевательски шутит, что, захоти того А. П. Шерер, английский посланник свой праздник безусловно бы отменил…
Обращаясь к князю Василию за инсайдерским комментарием, Анна Павловна злоупотребила риторической фигурой: дескать, расскажите немедленно все, что знаете, иначе вы мне не верный раб, как любите повторять, и теперь князь Василий несколько страниц лениво самоутверждается. «“Я государственный человек. Я дело делаю, а ты болтушка”, – казалось, говорили все его приемы», – стояло в черновике, но в окончательный текст не попало, ловкий автор передал то же самое ощущение без имитации внутренней речи. И когда читатель окончательно убедился, что перед ним не просто очень важная, а очень-очень важная персона, князь Василий берет быка за рога, переходит к личному интересу:
– Скажите, – прибавил он, как будто только что вспомнив что-то и особенно-небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главной целью его посещения, – правда, что l’impératrice-mère желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену? C’est un pauvre sire, ce baron, à ce qu’il paraît.
«Барон этот ничтожное существо, как кажется» – переводится последнее предложение, и это жуткая дерзость – высказаться так об избраннике l’impératrice-mère, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Князь желал бы видеть секретарем в Вене своего сына, узнает читатель в тайне от Анны Павловны.
М-ль Шерер ставит князя на место. Просто повторяет, что таково решение императрицы, но почти закрывает при этом глаза, чтобы князь понял глубину своей наглости. Князь «равнодушно замолк», но Анне Павловне, которая таким образом перехватила инициативу, этого мало. Она хочет князя за наглость «щелкануть», что и делает весьма, на иной вкус, неделикатно.
Сообщает князю, что ей не нравится его младший сын Анатоль. Парирует его жалобу на отсутствие шишки родительской любви строгим «Перестаньте шутить», добавляет, что при дворе Анатолем тоже недовольны. На попытки замолчать проблему выразительно смотрит и вынуждает оппонента продолжить тему, а чуть позже даже щелканет фразой: «И зачем родятся дети у таких людей, как вы?».
Звучит очень конфликтно; на экране или сцене эти слова интерпретаторы не воспроизводят. Им не нужен конфликт так быстро и между этими героями. В московском спектакле «Война и мир. Начало романа» авторы инсценировки постарались сохранить максимум диалогов из книги, но именно эту фразу выкинули[1]. В британском сериале Шерер и вовсе говорит князю Василию про Элен и Анатоля в гостиной – «прекрасные создания». Но у Толстого другой разговор, жесткий стык.
Очень важное лицо унижено, признаёт поражение – вплоть до того, что называет сыновей «des imbéciles» (своих детей!), унижает их в каламбурной форме: «Ипполит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатоль – беспокойный». Расклад изменился, Анна Павловна теперь выше. Теперь она, с высоты положения, может снисходительно утешить князя и заодно заработать очки в светской игре.
Она заводит разговор, отчего бы не женить Анатоля на богатой и знатной Марье Болконской. Князь, разумеется, заинтересован такой идеей, говорит, что Анатоль обходится ему в 40 000 в год, просит Анну Павловну устроить дело.
«Je suis votre вернейший раб à tout jamais» (навсегда), – говорит он и добавляет, что так пишет его староста в донесениях, то есть сам себя по своей воле сравнивает со старостой, легко плюхается с вершин княжеского достоинства.
А Анна Павловна утверждается в роли кукловода. Расставляет фигуры. Именно из уст Шерер мы впервые слышим о детях князя Василия (Элен, Анатоль, Ипполит), о князе Андрее и его жене Лизе, о Марье Болконской и старом князе Болконском, о Кутузове, Наполеоне и Александре I. При этом о Марье сказано «несчастна как камни»: «malheureuse, comme les pierres» – наверное, будет пародийной натяжкой увидеть тут имя «Пьер», но тем не менее формально оно прозвучало. Анна Павловна выставила на доску всех главных героев – кроме Ростовых.
Итак, князь Василий достаточно «щелканут» и достаточно утешен, нужна уравновешивающая концовка, элемент гармонии в движении качелей. Качели эти появляются в тексте едва ли не буквально.
И он с теми свободными и фамильярными грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинскою рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону.
Это предпоследний абзац; в последнем Анна Павловна обещает нынче же поговорить с женой князя Андрея, включить процессы. Завершает главу полушуткой, что начнет этой операцией карьеру старой девицы (в «Русском вестнике» стояло абсурдное для нас «старой девки»). Действительно ли только сейчас вступает сорокалетняя Анна Павловна (черты ее названы отжившими; звучит крайне архаично) на поприще сводни или же эта саморепрезентация есть род светской иронии, так или иначе появляется уместная в финале первой главы тема начала нового дела.
1
Нет, разумеется, ни возможности, ни смысла анализировать множество экранных и сценических версий эпопеи, но в первой части своей книги я буду периодически обращаться к некоторым масштабным опытам: американскому (1956), советскому (1967) и английскому (2016) фильмам, и к спектаклю театра Петра Фоменко «Война и мир. Начало романа» (2001). Цель этих экскурсов – не оценить кинематографическую или театральную интерпретацию, а акцентировать через сопоставления ту или иную особенность «Войны и мира». Такую же функцию играют обращения к черновикам и журнальным публикациям фрагментов романа.
Цитаты из произведений классиков, будь то Пушкин или Писарев, даются в книге без библиографических ссылок, так же, как и цитаты из писем литераторов позапрошлого столетия (в моем тексте всегда указаны в этих случаях дата и адресат). Ссылки на источники цитат из работ исследователей – в примечаниях в конце книги. Все цитаты из «Войны и мира» приводятся по 90-томному собранию сочинений.
Здесь же, я думаю, и место выразить огромную благодарность редактору Андрею Курилкину и исследователю Толстого Андрею Зорину: их советы и замечания помогли радикально улучшить качество моего скромного труда.