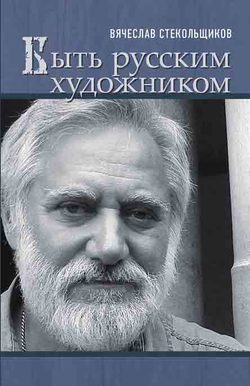Читать книгу Быть русским художником - Вячеслав Стекольщиков - Страница 4
Часть I
Философия любви
Эту осень я ждал[3]
ОглавлениеЯ и прежде испытывал особые чувства при первых признаках осени. С одной стороны, было жаль уходящего лета, а с другой – приближалась пора какого-то особого творческого волнения, которое проявляется у меня только с наступлением осени. И не то, чтобы хотелось схватить этюдник и побыстрее отправиться писать, отыскивая наиболее эффектные осенние мотивы, скорее привлекала возможность погрузиться в состояние творческого раздумья и тишины, разлитых в самом осеннем воздухе. Это время года отличается от других не только ярко окрашенным цветом. Своим пышным увяданием осень всякий раз напоминает нам о неминуемом конце и вместе с тем показывает, как торжественно красив этот прощальный период жизни.
Кажется, что мы наблюдаем со стороны увядание природы, но и в жизни человека наступает своя осень, своя зрелость, увядание и неминуемый уход. Правда, природа, в отличие от человека, умирает величественно и молча. Природа равнодушна к человеческим страстям, к нашим призрачным ценностям. И кто тут прав – береза, которая сегодня выглядит так же, как при царе или советской власти, или человек, выстраивающий свои правила жизни, свою систему ценностей и свое представление о временном и вечном? Конечно, березе безразлично, что это последняя осень двадцатого столетия, но люди так много говорят о конце века, и даже тысячелетия, что невольно придаешь этой осени особое значение.
Вот и беги после этого на этюды, как ни в чем не бывало! Во-первых, на эту осень приходится осень моей жизни, а во-вторых, помимо желтых листьев, в России льется кровь, гибнет подводная лодка «Курск», горит Останкинская башня, испытывает унижение от нищенской жизни подавляющее большинство порядочных людей страны, не находя применения своим рукам, головам, таланту, в то время, как жируют лиходеи и жулики всех мастей.
Чем больше об этом думаешь, тем дальше хочется отодвинуть этюдник.
Почему меня все это волнует, а березе – все равно?
А может, она права? Может быть, людские страсти уводят от главного – от правильного понимания смысла жизни? Ведь в основе всех человеческих трагедий – ошибка в выборе ценностей.
Значит, природа права в своем равнодушии к нам…
Пока одно полушарие моего мозга ищет ответ на им же поставленный вопрос, другое руководит рациональными действиями по подготовке к работе.
Наверное, у каждого художника существует свой ритуал, который он боится нарушить. По существу этот ритуал и является началом творческого процесса.
Задолго до того, как кисть прикоснется к холсту, мне необходимо преодолеть дистанцию между отдельно существующими красками, кистями, холстом и собою. Чтобы грунтованный холст перестал быть просто материей, натянутой на подрамник, я непременно проклеиваю его хорошим рыбьим клеем и тонирую, придавая широкой щетинной кистью живую поверхность. С этого момента холст перестает быть плоскостью, а становится для меня пространством.
Особое место в этом ритуале занимает палитра. Выдавливая из тюбиков краски на отполированную годами ее поверхность, я испытываю тревожное удовольствие от красоты и многообразия этих красок и от предстоящего соприкосновения с ними. Есть среди них и любимые, которые я не всегда выдавливаю, но которые непременно должны лежать в этюднике.
Более всего я не люблю новые кисти, поэтому отбираю только хорошо обработанные. Со стороны такие кисти могут показаться изрядно потертыми.
Конечно, у каждого мастера есть свои секреты. Есть они и у меня. Но я не стану о них говорить вовсе не из опасения, что кто-то ими воспользуется, а от того, что они никому не могут принести пользы, кроме меня, ибо каждый художник их открывает для себя сам.
С возрастом я расстался с привычкой бродить с этюдником в надежде отыскать подходящее место.
Все мои места я приглядел заранее. Конечно, пейзаж постоянно меняется в зависимости от времени года, погоды и освещения, но за многие годы я так изучил Борисоглеб, что легко себе представляю, как выглядит то или иное место в разное время дня.
Эту осень я ждал. Так получилось, что последние двадцать лет каждое лето мы проводили в Борисоглебе, поэтому большая часть работ – это рассказ о лете. Правда, для искусства не имеет значения, какое время года изображено – важно, как это сделано. Но, перебирая работы в мастерской или делая экспозицию на выставке, вдруг обнаруживаешь преобладание зеленых работ. Тогда понимаешь, что, решив одну творческую задачу, необходимо ставить следующую.
Этим летом мне не хотелось писать пышную зелень. После утомительной московской зимы я наслаждался теплом и попросту отдыхал, ожидая начала осени. Впрочем, раз уж я заговорил об отдыхе, то замечу, что работа художника состоит не только в вождении кистью по холсту. Она происходит постоянно и значительной ее частью является созерцание. Думаю, что и писатель берется за перо или садится за печатную машинку лишь после того, как произведение сформулировалось, созрело внутри его. В этом смысле видимая часть работы художника – это не что иное, как рождение – появление на свет замысла.
Впрочем, если уж я решил поделиться с читателем своими размышлениями, хочу напомнить, что я не пытаюсь говорить от имени всех художников.
Дело в том, что обычно творческую кухню художника озвучивают искусствоведы. Мне доводилось слушать их рассказы на лекциях по истории искусства в студенческую пору, на обсуждениях выставок, читать многочисленные монографии о художниках, не раз приходилось читать и о себе. И всякий раз меня коробило от несовпадения того, что я слышу и что вижу. Восприятию живописи мешали как высокопарные высказывания, имитирующие эмоции, так и «патологоанатомические» попытки подвергнуть научному анализу творчество.
Я возмущался до тех пор, пока не понял, что искусствоведение – это самостоятельный вид деятельности – он существует как гриб на березе, он может быть полезен и даже кому-то нужен, но не березе.
Если художник не знает сам, что и как ему делать, то ему уже никто не поможет.
Поэтому с некоторых пор я рассматриваю всякий наукообразный текст об изобразительном искусстве как сурдоперевод для слепых. Потому что для зрячих вполне достаточно видеть картину, а слушать или читать о том, что не видишь – бессмысленно. И хоть в нашей среде бытует поговорка, согласно которой художник как собака: все понимает, но говорить не умеет, общение с самым немногословным автором понравившейся картины гораздо интереснее, чем с красноречивым посредником.
Листья еще не пожелтели, но приход осени для меня начинается с того момента, как обозначилась разница в цвете листвы деревьев и кустарника. Окрашенные летом в один зеленый цвет, они вдруг приобретают свой неповторимый оттенок. Это делает пейзаж утонченно живописным.
Все лето, гуляя с моей внучкой Ксюшей по Борисоглебу, я проделывал замысловатый маршрут, чтобы навестить места, которые припас на осень.
В мой ритуал входит отыскивание таких точек, которые никто, кроме меня, не находит.
Наконец наступает долгожданное осеннее затишье. Школа поглотила многочисленную борисоглебскую ребятню. Уехали в Москву и наши ребята: Антон, Оля и Ксения.
Я вышел за калитку и направился самым коротким путем к своему месту. Холст нужного формата непременно в левой руке, а довольно тяжелый этюдник – в правой. Антон давно уже предлагал мне приделать ремень на этюдник, что, несомненно, облегчило бы его транспортировку и освободило бы руку. Но я так не люблю и просто боюсь менять что-либо связанное с работой, что предпочитаю привычку удобствам. Помню, лет двадцать пять назад, когда у нас еще не было дома в Борисоглебе, мы писали с нашим другом Славой Забелиным в Ростове Великом. Тогда он говорил, что любит, всякий раз выезжая на этюды, покупать новый этюдник. Сейчас он с тоской вспоминает об этом, когда мы говорим о невероятных сегодняшних ценах на художественные принадлежности.
А я привык к своему старому этюднику. За сорок лет где только мы с ним не побывали: на целине, в Арктике, в Севастополе, в Германии, в Гвинее-Биссау, на Чукотке, на Камчатке и во многих других местах. Мне приятно ощущать его тяжесть, а несу я его в правой руке потому, что левша и берегу левую.
Монастырь расположен на самом высоком месте Борисоглеба. Я спускаюсь вдоль монастырской стены, скрывающейся за плотным рядом лип, зелень которых уже приобрела золотистую прозрачность. Подвижные сентябрьские облака, то громоздясь друг на друга, то разбегаясь – чтобы на мгновенье показать голубизну неба, образуют причудливые небесные картины.
Сегодня красивый день. Я тороплюсь. Мое место уже недалеко – оно прячется за огородами, спускающимися к болоту. Узкая тропинка, изрытая острыми козьими копытцами, виляет между кочками вдоль серебристых, покосившихся заборов разного калибра. Эти заборы уступами ограждают огороды, потому что их границы определяло болото. Такая асимметричность и неровность – характерная черта нашего пейзажа.
Самым трудным для меня в работе бывает начало. Кажется, все привычно – краски на палитре, кисти в руке и чистый холст. А вот живая картина перед глазами, образ, который ты собираешься создать, вселяет такое волнение, что на какое-то время – замираешь. Нечто подобное, возможно, испытывает человек перед прыжком в воду с большой высоты, а может, наоборот – перед прыжком вверх, в попытке преодолеть рекордную высоту. Не уверен, что это самое подходящее сравнение, но знаю, что лучше всего в это время находиться наедине.
Наконец, ты словно отталкиваешься и летишь… И неважно – вверх или вниз, волнение осталось позади – начинается полет, начинается работа… Теперь все зависит от Бога. И нет в это время ничего важнее и прекраснее того, что ты делаешь. Все внимание, все мысли и чувства сосредоточены на небольшом пространстве холста. И кажется, что ты преодолел тяготение Земли, что находишься в состоянии невесомости. Эта иллюзия не покидает тебя до конца работы. Самое удивительное, что мимо места, где я испытываю все эти волнения, равнодушно проходят люди и никого оно не останавливает и не привлекает красотой. А у тех, кто увидел художника, этот выбор вызывает недоумение: что он здесь нашел? Зато потом, когда они видят это место в моем изображении – находят эту красоту в картине.
Выходит, художник находит красоту в жизни и мучается от бессилия передать всю ее полноту, а зритель видит совершенство красоты в искусстве.
Что же привлекло меня в этом пейзаже? Наверное то, что я нашел для себя еще одну узловую точку, позволившую продолжить борисоглебскую летопись.
Вот уже больше двадцати лет я пишу Борисоглеб. Это не этюды и не просто пейзажи. Это картины-раздумье. В них через пейзаж я пытаюсь передать неповторимую красоту этой земли, а также неуловимую интонацию своего времени.
Легкий сентябрьский ветер еще не торопится срывать листву. Он затеял веселую игру с облаками и так увлекся этой игрой, что не оставил на небе ни одного неподвижного уголка. Постоянно меняющие свою форму облака, словно нити крупного жемчуга, рядами нависали друг над другом, образуя многоярусное небесное ожерелье, которое постоянно меняло оттенки и бесшумно передвигалось с севера на юг.
Движение неба определялось привычной неподвижностью монастыря. В его величественный силуэт вплетались живые кружева берез, лип, елей и кленов, делая этот силуэт не только ажурным, но и легко узнаваемым – борисоглебским. Вдоль монастыря и значительно ниже тянулись улицы с хаотично расселенными домами, фасады которых смотрели в его сторону. От меня были видны лишь темно-серые бревенчатые стены домов с открытыми дворами и сараями, выходившими в сады и огороды, которые спускались лоскутными одеялами вниз.
Настоявшиеся за лето запахи трав хорошо сохранялись во влажном воздухе низины.
Все неподвижные детали пейзажа объединяла и оживляла природа. Она и была его основным украшением и признаком наступившей осени. Живописная привлекательность этого лета заключалась в многообразии оттенков зеленого цвета. Начиная от нежной зелени травы у меня под ногами, до самых монастырских стен зеленый цвет менял свои оттенки с такой изысканностью, что я с трудом успевал за ними уследить.
Существенной деталью пейзажа были заборы. Более того, лабиринт заборов был его передним планом. Конечно, мне ничего не стоило отказаться от этого сомнительного украшения. Место было малолюдное и никто не уличил бы в отклонении от правды жизни. Но тут я должен признаться в своем особом отношении к заборам. Я люблю заборы.
Художники со мною, наверное, согласятся в том, что писать заборы очень трудно. Но и в эстетическом плане они привлекают меня своим ритмом, пластикой и светом. Умело используя эту деталь, можно выстраивать интересные композиционные конструкции. Кроме того, забор – это характерная деталь провинциального пейзажа.
Совершенно неожиданно я обнаружил, что почти во всех моих борисоглебских работах, в том или ином виде, присутствует забор… Прежде я не замечал этого и никогда не стремился специально его изображать – это происходило независимо от моего желания.
А может быть, заборы имеют какое-то особое значение в моей жизни и в моем творчестве?
В житейском плане забор символизирует границы собственности. Даже в советское время, когда ничтожность частной собственности ограничивалась зубной щеткой, забор был условной границей, защищавшей какую-то территорию. В Москве до войны и в послевоенное время, на которое пришлось мое детство, большинство дворов были огорожены. Жильцы домов, образующих замкнутое пространство, чувствовали себя защищенными, и мы, дети, находились под постоянным наблюдением родительских глаз. Чужой человек, появившийся во дворе, не мог остаться незамеченным. Были дворы без заборов, но их было мало и они пренебрежительно назывались проходными. Эти дворы пользовались дурной репутацией, в них было опасно появляться, там могли побить или ограбить.
Сегодня, когда я оказываюсь в своем бывшем Третьем Троицком переулке, где единственным воспоминанием о детстве остался дом Виктора Михайловича Васнецова, одиноко стоящий среди чужеродных бетонных многоэтажек, меня охватывает такая печаль, что я стараюсь поскорее покинуть это ставшее чужим пространство.
Время разрушило наши заборы и изменило привычные масштабы.
Заборы бывают разными. Самый длинный забор – китайская стена. Монастырская стена – это тоже забор. На многих моих картинах стены Борисоглебского монастыря – главное действующее лицо.
Но есть и плохие заборы и стены, которые разделяют народы, разлучают и изолируют людей. О них я не буду вспоминать и такие заборы мне не хочется рисовать.
Прежде, чем вернуться от размышлений о заборах к моему пейзажу, замечу, что существуют невидимые заборы и границы, но об этом несколько позже…
Ощущение невесомости, которое испытываешь в самом начале работы, незаметно переходит в другое состояние. Это состояние, когда перестаешь ощущать время. Оно то ли останавливается, то ли наоборот – стремительно летит.
Я не заметил, как пролетели четыре часа. Когда солнце скрыто облаками, дневное состояние почти не меняется до сумерек. И хотя эти условия почти идеальны для живописи – в мои планы не входило завершение работы за один день. Если позволит погода, то чтобы осуществить задуманное, мне понадобится дней семь. Похоже, я выбрал тихое место – никто не отвлекает, да и кому придет в голову без нужды бродить по узкой извилистой тропинке на окраине Борисоглеба. Разве что кто-то пройдет с лопатой в огород или старушка с козами, которые увидев меня, остановятся, приглядятся и, не поняв, что я здесь затеял, на всякий случай зададут стрекача.
Первые дни погода позволяла мне работать по многу часов. Но если я мог не торопясь разбираться с деревьями, заборами и домами, то постоянно меняющееся небо держало в напряжении и заставляло торопиться. Оно с самого начала было таким, как мне надо, и я боялся его упустить. Облачное небо никогда не повторяется – его необходимо писать за один раз. Лишь после того, как я справился с этой задачей, работа пошла в более спокойном темпе. Очевидно, умение менять ритм в работе предостерегает ее от монотонности.
Редко бывает, чтобы за время работы на улице никто не подошел. Нельзя сказать, что это мне нравится, но за многие годы я привык, и если это происходит не в тот момент, когда приступаешь к работе, то короткий перерыв может быть даже на пользу. Поэтому когда наша соседка тетя Женя, которая носит Ксюше козье молоко, меня обнаружила, проходя со своими козами, пришлось сделать перерыв. Это вовсе не помешало, а ее реакция на картину была неожиданной:
– Вы как будто гладью вышиваете, – прокомментировала она. Такое сравнение я слышал впервые. А самая смелая коза, попробовав на вкус этюдник, потеряла ко мне интерес.
Так не бывает, чтобы все было хорошо. Более того, хорошие условия работы художника на открытом воздухе, на природе – это скорее исключение из правил. Если погода безоблачная, солнечная – мешает солнце. Можно, конечно, спрятаться от него под специальным зонтом, но носить с собою огромный двухслойный зонт, который, помимо тяжести, норовит улететь, когда его раскроешь, не хочется. А вот зонт от дождя осенью необходим. Стоило мне об этом забыть, как неведомо откуда налетела безобидная тучка и посыпал мелкий дождь. Вначале, словно из пульверизатора, он опрыскивает палитру. Затем, если тебе этого недостаточно и ты пытаешься дописать какую-то деталь, он принимается за холст. Потыкав по инерции мокрой кистью по провисшему холсту, ты в отчаянии прерываешь работу. Только все собрал – дождь прекратился. Но едва ты справился с мокрой палитрой и дождался, когда подсохнет и подтянется холст – снова заработал пульверизатор. Похоже, эту игру с художником природа затевает с целью проверки его на преданность своему ремеслу.
В последний день работы мне пришлось все же совершить поступок, который не сможет остаться незамеченным. Дело в том, что несколькими годами раньше разбрелась по свету, а точнее сказать, по Ярославской округе, небольшая книжка, в которой были помещены репродукции картин о Борисоглебе, написанных мною, моей женой Финогеновой Младой Константиновной и нашим сыном Антоном. Так случилось, что мне пришлось написать к ней текст, в котором я счел нужным объяснить, почему назвал эту книгу – «Изумрудные купола». Многие годы купола Сергиевской надвратной церкви, а также и Сретенской, красили в зеленый цвет. Конечно, это была обычная зеленая краска, которая в свежем виде не была привлекательна, но со временем она преображалась и что-то делало ее цвет изысканно тонким – драгоценным. Всякий раз, когда мне доводилось писать купола, я наслаждался этим цветом, находя его изумрудным.
После реставрации Сергиевской церкви моим товарищем Александром Рыбниковым, в результате которой он вернул храму закомары (это когда стены завершаются у кровли не просто ровной линией, а арками) и позакомарную кровлю – купола стали серебряными. С точки зрения реставрации, это, конечно, хорошо, да и нельзя же было оставлять ржавыми купола рядом с новой оцинкованной кровлей – слишком резкий контраст. Но художнику не угодишь. Он и свежевыбеленную, отреставрированную стену не торопится писать – ждет, когда время ее состарит, сделает живописной.
Воспользовавшись тем, что рядом никого нет, и мне не грозит публичный скандал, я вместо серебряных куполов Сергиевской церкви написал изумрудные. Эта неточность со временем забудется, а для картины такое изменение к лучшему, ведь в живописи действуют свои законы.
Едва я закончил работу над этим пейзажем, как погода изменилась. Холодный порывистый ветер терзал облака, обрушивался на землю, демонстрируя дурной характер осени. Казалось, уже никогда не будет тепло. Но где-то вверху, за темными тучами, за белыми облаками, в невидимой синеве неба светило солнце.
Оно отыскивало разрывы в многослойных низких облаках и успевало осветить лишь небольшие уголки земли. Но то, что попадало под луч этого небесного прожектора, обретало божественную красоту.
В такие дни становилось очевидным, что осень это не только меланхолия бесшумно опадающих желтых листьев, но и бурное движение, игра света и смятение чувств.
Прикрываясь от холодного ветра поднятым воротником, я направился навестить еще одно заветное место. Пройдя по самой оживленной улице, которая пересекает весь Борисоглеб, до большого моста через Устье, я увидел справа, на месте бывшей свалки, тщательно выровненную насыпь. Многие годы с помощью этой свалки борисоглебцы избавлялись от старого заболоченного рукава реки и теперь было решено обустроить на этом месте рынок. Что-то подтолкнуло меня пройти по новой площадке. Может быть то, что скоро здесь будет многолюдно, появится забор, а может быть, и павильоны, и мне не захочется сюда приходить. Я шел по насыпи, глядя по сторонам, не находя для себя ничего привлекательного, и в тот момент, когда собрался возвращаться, солнце внезапно вырвало из довольно хаотичного пейзажа чем-то привлекший меня уголок. Яркий свет, пробившийся сквозь облака, скользил по крыше каменного двухэтажного дома старой постройки и, освещая контражуром высокую липу возле дома, тополя и березы, останавливался на вымытой коротким дождем яркой зелени огорода. Высокие упругие листья кормовой свеклы просвечивали насквозь.
Я понимал, что это кратковременный эффект и что писать против яркого света трудно. Но я и не собирался подобно фотоаппарату фиксировать этот эффект. Меня захватила новая тема.
Нельзя было терять ни минуты. Как правило, в такие моменты не оказывается под рукой этюдника. Пришлось спешно возвращаться домой. По дороге я старался настроить себя на совершенно другой подход к работе, другой темп. Вместе с тем, я не люблю хлесткую и внешне темпераментную живопись. Как правило, такая живопись поверхностна. По-моему, все напряжение и темперамент должны быть внутри.
Конечно, когда я вернулся с холстом, солнца на этом месте уже не было. Но автоматически расставив этюдник и начав компоновать, я почему-то был уверен, что нужное мне освещение будет повторяться. И, действительно, солнце пробивалось сквозь тучи так часто, как мне хотелось. Это позволило в первый день уловить главное, что привлекло меня в этом пейзаже.
Насколько замерз, я почувствовал только тогда, когда окоченевшими пальцами принялся собирать свое хозяйство. Годами отработанная процедура складывания этюдника обычно происходила с быстротой и четкостью смены караула у Мавзолея. Схожесть придавали металлические щелчки при складывании штыкообразных ног этюдника. Пальцы, словно чужие, не подчинялись команде головы. Ноги тоже вели себя странно – половину пути к дому я прошел будто на протезах. Но желал я в этот момент только одного – чтобы завтра повторилась эта неприветливая погода.
Конечно, можно было бы продолжить работу от себя в мастерской, полагаясь на зрительную память и опыт, тем более, что я все уже поставил на свои места: скомпоновал, успел взять цветовые отношения, как говорят живописцы – раскрыл холст. Но никакая зрительная память или фантазия художника не сравнятся с цветовой фантазией природы. Реакция художника на жизнь незаменима.
Впрочем, это касается только реалистического искусства. По моему мнению, приверженность реализму – это не что иное, как признание приоритета красоты реального мира над миром фантазий. Иными словами, реалистическое искусство свидетельствует о том, что фантазия Бога выше любой фантазии художника.
Похоже, утру следующего дня радовался только я. Северный ветер и не думал утихать. На этот раз я оделся потеплее. Чтобы ветер не опрокинул этюдник, я широко расставил три его ноги и надежно закрепил парус холста. Мне казалось, что вязаная шапка, почти скрывавшая лицо, и поднятый воротник не только защищали от ветра, но и делали меня неузнаваемым и защищали от проходивших вдалеке людей. Со многими борисоглебцами я знаком и если бы пришлось только здороваться, это бы постоянно отвлекало. К счастью, плохая погода и большое расстояние, а может быть, и мой неприступный вид препятствовали общению.
Кому-то эти подробности покажутся несущественными, но я хочу, чтобы зритель знал, что художник, работающий на улице, – это самое несчастное создание. Помимо природных помех, каждый считает возможным утолить свое любопытство – подойти и посмотреть. Большинство же считает нужным вступить в диалог, а некоторым кажется, что их совет необходим.
С чем бы я сравнил работу художника? Пожалуй, с молитвой. Творчество – это разговор с Богом. Чаще всего этот творческий процесс скрыт от посторонних глаз, потому что происходит в мастерской, реже – на улице, но суть от этого не меняется. И, конечно, даже молчаливое присутствие кого-то у тебя за спиной мешает.
Это бывает трудно понять взрослым и уж совершенно невозможно детям. Для них художник на улице – легкая добыча. Уже издали я слышу, что очередная стайка школьников обнаружила меня и, обгоняя друг друга, с шумом приближается. Окружив плотным кольцом, мальчишки первым делом наперебой выясняют, что я рисую и зачем мне это надо. Поначалу меня раздражает само их появление, глупые вопросы и хочется всех прогнать. Но они же дети, – думаю я минуту спустя. Кто с ними еще поговорит об искусстве, если не я, да и что они будут думать о художниках, если я их прогоню. Мне это вовсе небезразлично.
Поэтому сначала я удовлетворяю их любопытство, затем перехватываю инициативу. Меня интересует, что они в школе рисуют, какими красками и кому из них это нравится, а затем самое главное – каких художников они знают и кто из них был в Москве, в Третьяковской галерее. Чаще всего подходят ученики пятых и шестых классов.
Оказывается, что в Москве были все, а вот в Третьяковской галерее почти никто не был, и художников не знают. Кто-то с трудом вспоминает, что видел какого-то художника по телевизору. После короткой лекции о русском искусстве неожиданно заговорил самый молчаливый из компании.
– Я знаю одного художника, – заявляет он, – этот художник когда-то давно жил в Борисоглебе и рисовал его. У нас дома есть про него книжка, которая называется «Зеленые купола», а фамилия этого художника Стекольников.
Это было для меня так неожиданно, что я некоторое время думал, надо ли признаваться, но решил, что эффектнее концовку нашей беседы не придумать. Поэтому, оставив возможность почитателю моего творчества исправить ошибку, спросил, может быть, книга называется «Изумрудные купола»? И когда мальчик подтвердил, я признался в авторстве: сказал, что книжка моя, а фамилия моя Стекольщиков. Это вызвало бурную реакцию ребят.
Нет, что ни говорите, а художнику необходимо признание. Да и после таких общений, кажется, у меня появляется популярность.
На смену мальчишкам подходили девочки. Они обязательно здоровались и спрашивали разрешения посмотреть. Но не только вежливость отличала девочек от мальчиков. Многолетний опыт общения с детьми дает мне возможность делать некоторые обобщения. Если у мальчишек при встрече с художником явно читается на лицах любопытство, то у девочек – восторженное выражение. Мальчиков больше всего интересуют детали, их привлекает точность, и они находят ошибки в отсутствии каких-то второстепенных предметов, которыми я за ненадобностью пренебрег.
– А антенну будете рисовать? – непременно спросит кто-нибудь из ребят, глядя на изображение дома.
Девочки более всего реагируют на цвет. Их приводит в восхищение многообразие цветовых оттенков, они интересуются, где и как меня учили смешивать краски.
Конечно же, мальчиков приводит в восхищение конструкция этюдника, им хочется знать, для чего мне много кистей, что я делаю тонким изогнутым ножичком – мастихином, и что за жидкость в масленке. Если их приводит в удивление количество красок, то девочек – разнообразие цветов.
Мне кажется, что природа одарила мальчиков в большей степени чувством рисунка, а девочек – чувством живописи. Боюсь, со мною не согласятся художники мужского пола, ведь их – большинство. Но прошу учесть, что я говорю не о художниках, а о детях.
Если можно как-то защититься от солнца, дождя и ветра, то от детей никуда не спрячешься. Судя по тому, что лавина детей нарастала, моя популярность грозила перейти в знаменитость. А если серьезно, то я торопился довести работу до конца и поскорее покинуть это беспокойное место. За все время, кроме детей, ко мне никто не подходил, если не считать одного человека.
В тот момент, когда я наслаждался редким одиночеством, очевидно, в школе еще не кончились занятия, с дороги на насыпь свернул «Жигуленок» и медленно направился в мою сторону. Подъехав близко ко мне, машина остановилась. Пожалуй, тут не обойтись без журналистского шаблона: из нее вышло лицо кавказской национальности и направилось ко мне. Я бы не употребил этого шаблона, если бы смог определить, кто это был – грузин, армянин, азербайджанец, чеченец или абхазец. Единственное, что я мог понять, это то, что он провинциал, потому что все кавказские горожане хоть и с акцентом, но свободно говорят по-русски.
Сначала он молча смотрел на то, что я здесь делаю и очевидно, ничего не поняв, заговорил со мною на незнакомом языке, в который вставлял исковерканные русские слова, свою очередь я тоже ничего не смог понять. Тогда он, заискивающе улыбаясь золотыми зубами, попытался сформулировать свой вопрос, употребляя только русские слова.
– Атэц, рынак дэлаешь?.. Мы здэс хатым… будэм тэбя уважат…
Очевидно, он принял меня за устроителя рынка и хотел наладить деловые отношения. А может, и отблагодарить, если я помогу ему застолбить место.
– Я не рынок, я – художник, – сказал я, показывая картину.
– Зачэм художнык, мы рынак хатым, – не понял он и, удивляясь моей несговорчивости, пожал плечами и пошел к машине. Оставив меня в облаке пыли, машина скрылась…
Едва осела пыль, и я проявился как на фотографии, меня охватило чувство тоски и одиночества. Я почувствовал себя стоящим на дне искусственного водоема, который может быть уже завтра будет затоплен водой.
Какое тут может быть творчество? Какой разговор с Богом? Метастазы рыночной экономики уже охватили землю, на которой я стоял. Будущий хозяин рынка так и сказал: художник не нужен, нужен рынок.
Кому нужны мои переживания, преодоления трудностей, творческие усилия, да и нужны ли картины, в которых я пытаюсь выразить свои хрупкие чувства?
Но ведь детям интересно то, что я делаю. Может быть, даже, им это интереснее рыночной торговли. И если не я, то кто откроет в их душах потайную дверцу в мир искусства, в мир высшего предназначения человека?
Эти вопросы не только отвлекли меня от живописи, но и привели в такое возбуждение, что могло быть заметно со стороны. Придя в себя от такой мысли, я почувствовал, что кто-то стоит у меня за спиной. Я оглянулся. В трех шагах от меня стоял мальчик. Это был необычный мальчик, не похожий на тех суетных мальчишек, что постоянно окружали меня. Я не слышал, как он появился, однако его присутствие внесло успокоение. Он ни о чем не спрашивал, не пытался подойти ближе, сохраняя определенную дистанцию. Мне не было слышно даже его дыхания и я подумал, что он также беззвучно исчез, но, обернувшись, нашел его на том же месте. На этот раз я успел его рассмотреть.
Худощавый, русоволосый мальчик лет одиннадцати был одет в простую несовременную одежду. За его спиной виднелась большая вязанка зеленой свеженакошенной травы, которую он удерживал двумя руками за конец веревки. От этого мальчик слегка наклонился вперед. Но, очевидно, ноша была не тяжела, потому что он не стремился положить ее на землю.
Чем-то этот мальчик был похож на отрока в картине Нестерова «Явление отроку Варфоломею». Только этот мальчик был в очках. Мы молча стояли рядом и нам было хорошо, как бывает с близким по духу человеком, с которым есть о чем помолчать. Это состояние не хотел нарушать даже внезапно стихший ветер. Наверное, в такие минуты родятся поэты и художники. Я боялся оглянуться, чтобы он не подумал, что мешает мне. Но в это время услышал возбужденные голоса.
– Вон художник! Айда к нему! – и кавалькада мальчишек на велосипедах рванула к нам. Их было человек пять. Взъерошенные, в пестрых куртках, с румянцем на лицах – они тотчас окружили меня со всех сторон и принялись наперебой обсуждать мою работу. Похоже, им был знаком этот мальчик с вязанкой.
– Кому травы набрал? Себе что ли? – спросил один из них, наслаждаясь своим шутливым вопросом.
– Нет, кроликам, – слегка заикаясь, тихо ответил мальчик. У ребят не было злобы, но видно было, что им хотелось как-то посмеяться над ним, чем-то зацепить.
Дети бывают беспричинно жестоки к тем, кто не входит в их стайку.
Казалось бы, все они одного возраста и ходят в одну школу, но для меня эти пятеро были просто детьми, а мальчик с вязанкою был отроком, потому что было в нем нечто такое, что есть в детях, отмеченных Богом.
А ребята выпендривались передо мной до тех пор, пока один из них не свалился с насыпи вместе с велосипедом. Это вызвало бурный восторг компании, а у меня была причина их разогнать.
Стало опять тихо… Непрерывающийся в течение трех дней ветер окончательно стих. Изменилось небо. Ушло то состояние, что меня привлекло, и я решил, что больше не приду на это место. Поработав еще час, я отложил кисти и, вспомнив о мальчике, обернулся. В сторону от меня медленно и бесшумно удалялась фигурка отрока с вязанкой травы…
Бабье лето ждали все. После ненастных холодных дней и никому не нужных осенних дождей хотелось тепла. Ощутив в очередной раз свою беззащитность в отсутствие солнца, все Живое радовалось его появлению. Красивее всех свою радость выражала природа. Словно подражая солнцу, она окрашивалась в его цвета. Оттого и зовется эта пора – золотая.
Есть в Борисоглебе такие места, попав в которые, ты сразу становишься предметом изучения их обитателей. Словно дворы моего детства, эти уютные уголки образуются в результате объединения нескольких домов. Только в отличие от города, каждый из этих домов имеет свой палисадник и огород. А уют этим местам придает не только мягкий травяной ковер, окаймленный палисадниками, но и колодец, к которому сходятся тропинки от окружающих его домов. А если рядом с колодцем стоит березка, то это место моя зрительная память хранит до тех пор, пока я не приду сюда с этюдником.
Конечно, мое появление не осталось незамеченным, но в отличие от бесцеремонного любопытства к художнику в многолюдных местах, здесь я был окружен таким трогательным вниманием, которое проявляют только к гостям.
Небо бывает голубым в любое время года, но осенняя голубизна отличается от летней, весенней и зимней. И если кто-то думает, что у художника среди десятка тюбиков с разнообразными голубыми и синими красками есть готовый для осеннего неба цвет, то это заблуждение. Никто из художников не скажет, какие краски и в каких пропорциях надо смешивать, чтобы передать неповторимую голубизну теплого сентябрьского неба. Только кисть мастера превращает краску в цвет и, наверное, в этом заключается магия живописи.
Если в пейзаже присутствует береза, то она непременно играет главную роль. От того, как будет написана эта береза, зависит успех пейзажа. Ее труднее всего писать. Посмотрите, как написана береза в той или иной картине и вы сможете определить не только мастерство, но и, что еще более важно, творческую глубину художника. Всякий раз, когда я приступаю к работе над пейзажем, в котором присутствует береза, я помню об этом и стремлюсь показать живописными средствами ее неуловимую пластику и особую интонацию цвета.
Много раз я писал березы, но никогда прежде у меня не было мысли делиться с кем-то своей творческой кухней. Почему-то казалось, что можно говорить об этом только с художниками, да и то лишь с близкими мне по искусству. Но на рубеже веков резко изменилась система ценностей. Этой осенью я испытываю такое чувство, словно нахожусь на вокзале, где огромное количество людей с вещами, расталкивая друг друга, стремятся занять места в поезде, который отправляется из двадцатого в двадцать первый век. Теснимый энергичной толпой, я с трудом добираюсь до вагона, но здесь мне дорогу преграждают проводники:
– Куда лезешь со своим хламом? Мы отправляемся в двадцать первый век! – говорят они.
– Но это же нужные мне вещи, мой багаж, – убеждаю я.
– Никому не нужен твой багаж в будущем веке, и тебе он там не понадобится, – категорически заявляют они.
Продолжая эту метафору, я думаю, бессмысленно обращаться к народу. Ведь в результате перемен в системе ценностей, обычно первой жертвой становится именно большинство – масса народа, потому что масса легче поддается внушению, чем личность. Поэтому народу и навязывают массовую культуру, цинично полагая, что большего он не заслуживает.
Я же, обращаясь к личностям, хочу сказать: давайте возьмем с собой в двадцать первый век то искусство, которое создает образы живой красоты Божественного мироздания, искусство православного мировосприятия.
В едва уловимых запахах осени, растворенных в теплом воздухе бабьего лета, столько умиротворения, что может возникнуть излишнее успокоение в работе. И здесь я спешу напомнить, что живопись на природе – это не отдых, не прогулка на воздухе, а напряженная работа. Кажется, в этом я убедил местных жителей.
– Это же какое терпенье надо иметь? – говорят они, проходя мимо меня к колодцу. Вот уже третий день я пишу на этом месте и даже на траве возле забора, где я стою с этюдником, образовался вытоптанный пятачок. Место хоть и тихое, но живое. К моему присутствию привыкли, и когда дети проявляют излишнее любопытство, откуда-то непременно раздается: «Не мешайте дяде работать».
А мне уже трудно помешать. Кажется, я поймал осенний свет и, постоянно возвращаясь к березе, пишу сосновый бор на дальнем плане, колодец на полосатой от длинных падающих теней лужайке и голубое небо с редкими вечерними облачками.
Погода позволяет мне писать по пять часов. Конечно, за это время солнце проделывает длинный путь, изменяя цвет неба, освещение деревьев, домов и направление теней. Но если бы я не сформулировал для себя творческую цель и не держал в зрительной памяти нужного состояния, а иными словами, если бы я мысленно не написал этого пейзажа, то свел бы работу к примитивному изображению какого-то момента – наподобие того, как фиксирует фотоаппарат.
Но в том и дело, что я создаю собирательный образ. Для меня время не одномерно, а многомерно – это объемное время. Кроме того, я выстраиваю пространство картины, в отличие от механического глаза, по законам пластики, а цветовое решение – по законам живописи. Но главное отличие, пожалуй, в том, что я изображаю не то, что вижу, а то, что чувствую. Я пишу ту картину, которая находится внутри меня – я делаю зримыми свои чувства и мысли.
Если вы думаете, что все это приходит в голову во время работы, то вы ошибаетесь. Когда я пишу – мои мысли подчинены чувствам, которые выбирают из памяти лишь то, что способствует творческому процессу. Это, могут быть какие-то мелодии, фрагменты поэзии, а чаще всего, – фрагменты живописи тех художников, с которыми я постоянно общаюсь, несмотря на то, что их давно нет на этом свете. Их живопись – тайна бессмертия.
Вечереет. Я не тороплюсь покидать свое место. Медленно чищу палитру и не могу оторвать глаз от красоты угасающего осеннего дня.
С крыши соседнего дома вспорхнула сорока. Ее изысканная красота и стремительный низкий полет, как след кометы, вносит короткое вмешательство в неподвижную тишину пейзажа.
На следующий день я пришел пораньше. В ожидании нужного мне освещения принялся за неуловимый рисунок березы. Если начать пристально следить за рисунком ствола, причудливо расходящимися во все стороны ветвями – теряется живопись, а если увлечешься живописью – легко утратить неповторимый характер березы. Значит, нужно найти гармонию между рисунком и живописью, как между чувствами и рассудком.
Только я приступил к поиску этой гармонии, вижу – из калитки вышла нестаренькая бабушка с внуком и, взяв его за руку, прямиком направилась ко мне… По ее нарядному платку и целеустремленности я понял, что ею движет не обычное любопытство. Видно, она долго наблюдала за мной и, убедившись в серьезности моего отношения к работе, решила не упускать случая.
Поздоровавшись и заставив поздороваться смущенного мальчика, которого по аналогии с моей внучкой я определил как третьеклассника, бабушка сразу перешла к делу.
– Вы, видать, художник, – сказала она. – А вот наш Витюшка тоже хорошо рисует. Он нарисовал волка из «Ну, погоди!». Кого ты там еще-то нарисовал? – дернула она внука за руку.
– Винни-Пуха и черепаху Ниндзя, – пробормотал Витек, разглядывая свой ботинок.
– Ну, вот, я и говорю – его даже учительница похвалила. Вы ему расскажите, как надо рисовать, чтобы стать художником. Он у нас толковый – сразу поймет.
Я как-то опешил и не знал, что ответить.
– Да пусть он около Вас постоит, – сказала бабушка. – Вы вон все равно который уже день тут стоите, глядишь, он и научится…
Мне было неудобно сразу отказать, и бабушка приняла мое замешательство за согласие.
– Ты вот смотри, как рисуют и не балуйся, – наказала она внуку и пошла к калитке.
Опомнившись, я предпочел уделить Витюшке минут пятнадцать, только чтобы он не стоял у меня за спиной до конца дня.
До сих пор я не считал нужным рассказывать о еще одной привычке, входящей в ритуал моей работы. Лет двадцать назад я бросил курить, но труднее всего было обходиться без сигарет во время работы. Кто-то мне посоветовал восполнить отсутствие сигарет леденцами. С тех пор, отправляясь на этюды, я беру с собой леденцы. Конечно, я о них забываю, когда пишу, но они непременно должны быть в кармане. Это ритуал.
Ну, что ж, перекур, так перекур…
Я достал конфеты и, видя Витюшкино смущение, развернул фантик и положил себе в рот одну из них, а остальные ссыпал ему в руку. Он последовал моему примеру, и беседа сразу обрела нужное направление.
Выяснив, что они рисуют в школе, и зная о его достижениях в области изобразительного искусства от бабушки, я посоветовал уделить больше внимания в его творчестве простым и знакомым ему вещам: бабочкам, божьим коровкам, ягодам, грибам, листьям… При этом я поднял с земли несколько разных по форме и цвету листиков и мы вместе стали их рассматривать. На второй конфете Витек разговорился и, перехватив инициативу, принялся отыскивать все новые и новые листья и показывать их мне. Когда леденцы кончились, я посоветовал нарисовать кленовый лист и отправил его к бабушке. Мальчонка мне понравился и если бы не работа, я не поторопился бы так быстро от него отделаться.
Когда Витюшка скрылся за калиткой, на моем лице появилась улыбка, которая была вызвана воспоминанием о похожем случае, связанном с одним из моих любимых художников Николаем Петровичем Крымовым и рассказанным одним из его учеников.
Было это до войны. Для моего поколения не нужно уточнять, какой войны, а для молодых людей, которые ведут отсчет от афганской, поясню: до Великой Отечественной войны 1941 года. В те давние годы Крымов преподавал в художественном училище имени 1905 года. Ученики любили своего преподавателя, многие из них стали известными художниками и академиками.
Помимо того, что Николай Петрович Крымов был прекрасным, самобытным художником, он разработал свою систему тональной живописи. Все это привлекало к нему молодых художников… Многие пейзажи Крымова были написаны в Тарусе, где он проводил каждое лето и куда за ним следовали студенты.
Однажды Николай Петрович отправился на этюды, и за ним увязался один из его учеников. Надо сказать, что это был один из любимых его учеников, который выразил желание поприсутствовать возле учителя, чтобы посмотреть, как маэстро пользуется на практике своей системой.
Крымов остановился и деликатно намекнул на то, что он любит работать в одиночестве. Тогда ученик сказал, что не помешает и будет тихо стоять за спиной.
Чувствуя, что преодолеть настойчивое желание ученика непросто, Крымов после некоторой паузы обратился к нему с неожиданным вопросом.
– Понимаете, Коля, Вы уже взрослый человек, поэтому я решаюсь Вас спросить. В Вашей жизни была дама?
Коля в знак согласия густо покраснел.
– Так вот, – продолжил Крымов, – представьте, что Вы пригласили к себе даму, а я попросил Вас разрешить мне поприсутствовать при этом. Я Вам не буду мешать – я тихо полежу под кроватью.
Коля покраснел еще больше.
– Вы должны понять, – подвел черту Крымов, – что живопись – это творческий акт, это дело интимное и постороннее присутствие неэтично.
Следующие два дня, которые мне нужны были для завершения работы, прошли с более частыми перерывами, вызванными общениями с обитателями этого уютного уголка.
Вначале, извиняясь, подошла хозяйка забора, возле которого я вытоптал траву. Она пришла в такой восторг, увидев мою работу, что я с трудом удерживал гримасу скромности. Затем с быстротою пейджера ее восторженная оценка распространилась на всех, кто еще не видел картины, и заинтригованные жители, преимущественно женского пола, подходили ко мне один за другим.
Успех был очевидным. Искренность комплиментов подтверждалась осторожным вопросом о приблизительной стоимости картины. Это было вызвано не столько желанием купить, сколько желанием узнать, сколько я могу заработать. Чтобы разговор о деньгах не разрушил пьедестала, на который вознесли меня сами почитатели, я с достоинством триумфатора отвечал, что пишу картины для выставок.
Известно, что бывают публичные политики, но, оказывается, что если часто рисовать на публике, можно стать публичным художником. Я находился в зените славы, и заслуженной наградой, подтверждавшей мою популярность, стала пол-литровая банка, наполовину заполненная яблочным вареньем, которую мне преподнес Витюшка.
Получив из рук коллеги эту награду, я возвращался домой как на крыльях.
Самое суровое испытание для художника – это испытание славой. Боюсь, я не выдержал бы этого испытания.
Когда я пишу работу, мое отношение к ней можно сравнить с отношением матери к ребенку. Только что появившаяся на свет работа мне дороже всего на свете. Нас соединяет с нею какая-то физиологическая связь. Я постоянно ее ощущаю и постоянно думаю о ней. Меня все время тянет подойти к ней, и, возможно, у меня в это время такое же, как у заботливой матери, тревожно влюбленное выражение лица. С той же ответственностью, что и перед ребенком, я думаю, какое дать имя или название своей работе. Эта пупковая связь продолжается до появления следующего новорожденного, а до тех пор меня не покидает призрачная уверенность, что это лучшее мое произведение.
Когда, наконец, я решаю, что работа закончена, то начинаю думать, во что ее одеть. И здесь возникают аналогичные проблемы: если позволяют средства, можно одеть свое произведение в дорогую нарядную раму, а если средств недостаточно, то приобретаешь недорогой багет и сооружаешь что-то поскромнее, а то и переделываешь из старого.
Затем наступает время выхода в свет и снова – родительские заботы… Куда пристроить? Лучше всего, если мое произведение попадет в музей, неплохо – в престижную галерею или в частную коллекцию. Ну, а если мои картины – мои блудные дети, побродив по свету, по всевозможным галереям и выставкам, возвращаются изрядно потрепанными домой – я радуюсь, как можно радоваться возвращению детей. В зрелом возрасте дети начинают самостоятельную жизнь. То же происходит и с картинами – они живут своею жизнью, сохраняя фамилию автора, но оставляя его в прошлом.
Долголетие жизни произведения определяет самый строгий судья – время. И здесь, по моему мнению, существуют свои периоды.
Первый период жизни самый короткий, когда работа по причине своей творческой хилости умирает раньше автора.