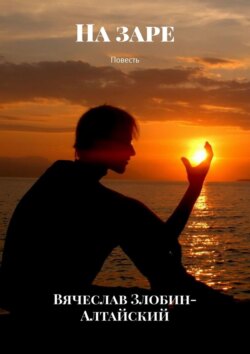Читать книгу На заре. Повесть - Вячеслав Злобин-Алтайский - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава первая
ОглавлениеСкажу сразу, мой читатель, что строчки эти излагаю не я, потому что не я герой, а он – Верещагин Сергей Алексеевич. Вот он герой, и не потому, что лучше и выдающееся всех, а потому, что не я. Впрочем, может, мы с ним чем-то и схожи по натурам своих душ и читаем жизнь сходно, но уж больно по-разному поступаем, то есть расходимся в делах своих. Он идет как бы своей дорогой, а я где-то рядом всегда, вроде суфлера его выступаю. Я, доложу вам, всё вижу, подсказываю ему с пристрастием даже иногда, а он всё делает часто не как я, по-своему. Просто хочется, чтоб мой читатель не думал, что это моя жизнь, потому что жизни у нас, при всей нашей похожести, разные. Я только болею за него душевно и переживаю в его правильных, на мой взгляд, или превратных делах. Кажется мне, что такое явление можно обозначить раздвоением сознания, как-то так. Он во всей этой истории делал свое, я же по жизни шагал не так, но шли-то, образно говоря, по линейке судьбы одной. Потому как думать можно одно, а всё равно поступать нам велит неведомая сила вопреки.
Сергей Алексеевич (или, возможно, я) – личность немножко с чудинкой, но независимая, и только его устремления и воля пробивали ему пути в этой как бы реальной истории длиною почти в жизнь.
Скажу теперь более определенно: у нас с ним в этом мистическом тандеме все персонажи, кои встречались на пути, тоже были или не были, но, надо заметить, их символы-то точно существовали. А что это значит – объясню. У меня (или у нас) в воображении есть персонажи совсем, может быть, и не реальные, но символичные до подлинности, а есть, и это точно, абсолютно подлинные и при этом символичные, можно сказать, даже эпохальные. А вот перед этими значимыми субъектами мы совсем ничего из себя не представляем, мало того – почти клопы. Но если мы становимся участниками исторических свершений, как в нашем повествовании, то, значит, тоже чем-то в них наследили, как покажут и полуфинал, и финал этой обычной, но дерзновенной повести. Так что тут мы – и вам советую, ничего не видим от автобиографичности, а лишь сверяем события нашей линейки судьбы с недавней большой историей страны…
Начнем с малого. Безмятежно катился восьмидесятый год. Я, то есть Верещагин С. А., дембельнулся из армии. Хорошее времечко, скажу я вам, было. Вспоминаю его, как улыбку. Да, я не оговорился. Я лично воспринимаю то время, как всеобщую улыбку, как радостный всполох не только на моем лице, но и на образах тех, с кем имел соприкосновения. Всё казалось вокруг радужно, семицветно. Одно лишь точно скребло и омрачало жизнь – горестные мои страдания. А какие могут вертеться в голове страдания у дембеля? В большинстве даже случаев дембельские судьбины схожи: их милые не дожидаются, и уходит в прошлое большая и важная первая любовь. Практика жизни влечет наших любимых замуж. При этом наше дело не местью убиваться, а устремляться дальше – торить будущее свое, а еще я взял – и так сплеча, от души смахнул всё это. Ведь на потом всё такое мешает существовать и при этом подтачивает перспективы свои.
Только бабушки так скромно, себе под носик и стеснительно, в советское время бормотали «с божьей помощью…» Но эта помощь коснулась и меня. Благосклонные силы добра устроили меня работать на должность. Она была невелика, но всё же инженерная. Как-никак, образование техническое освоил я до армейской службы, чтобы вскоре исполнить обязанность свою уже гражданскую, не менее почетную. А после исполнения воинского долга дороженька для меня была уже заказана, потому что добрые силы следили за мной пристрастно. А то, что долг Родине я отдавал долгих два года и об том не кручинился, это было для меня безусловным законом. Мало того, я принимал его в то время, принял бы и сейчас, если что. Хотя звучал он тогда вроде как пафосно – «отдать долг Родине и партии». Опустим из пафоса партию. А вот Родина – это звучит гордо, воспитаны мы так были. И хочется мне сказать: в этом слове и в том нашем воспитании закладывалось в подкорку нашего сознания что-то глубокое и важное. Более того, скажу: это суть, если хотите, цивилизационная – русской, советской, а возможно, и христианской души. А как иначе возможно, если сам апостол Павел преклонял колени свои перед Отцом Христа, «от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Нет, не бытие определяет сознание. Это тавтология атеистов, скажу вам в назидание, пусть даже это кого-то и опечалит.
Как-то так случилось, что вопрос создания семьи был решен мной по-солдатски быстро и однозначно. Если говорить об экстремальной суете жизни, то здесь решительность никогда не изменяла мне. Тут я тоже был тверд и непреклонен: месяц отношений, предложение, и через пару месяцев я покончил со своим холостяцким миросозерцанием…
С добрыми, благосклонными силами было тоже всё просто. В профкоме управления предприятия содействовала мне родственница – моя тетя. Она была там персоной, и к тому же влиятельной. Так что с работой, куда меня приняли после армии, всё было устроено основательно и по понятиям того времени обыденно – по блату. Сейчас, конечно, этим никого не удивишь, но в ту пору блат был не только привычным словом, а образом мышления. От слова этого трепетали. И не просто трепетали, а знали, что когда всё схвачено – ты во всем, как в спорте, чемпион. Тогда-то первая веха моей истории завязалась исключительно на работе. Я ждал дела, и оно, когда пришло, даже и окрыляло.
Первым моим наставником стал технолог цеха станции водоочистки Геннадий Евгеньевич Баляйкин. В его подчинении были шесть инженерно-технических работников и четверо рабочих.
На станции весь обслуживающий персонал (около ста человек, если не считать тысячный коллектив всего управления) называл Баляйкина «чебурашкой», что хоть и носило юмористический характер, но, по сути, отражало значение этого слова. Хочу сразу заметить: такие, как он, «чебурашки», тоже могут быть цельными натурами.
Баляйкин был маленьким и конституцию имел невыразительную. Щупленький, на тонких, как у комарика, ножках, с гусиной шеей, легкий на подъем, он всегда был в отглаженном черном костюме и при галстуке красного цвета с непременно крупным узлом. Почему красного? Может быть, пионерская юность засела прочно в тайники его души, может, склонность к возвышенной лексике подвигала его к красоте, а может, что менее вероятно, политическое значение цвета окрыляло его. Но то, что он сознавал себя птицей высокого полета, было, кажется, аксиомой.
О неугомонности его характера осведомлены были все. А вот о том, что он еще слыл натурой лирической, ведали немногие. Склонность к поэзии – богине Эрато, как и к любому творчеству, не препятствовала его не менее сильному пристрастию – дарам бога Бахуса. На стезе почитания этих богов он не раз попадал в вытрезвитель. Заведение в советской практике жесткое, и последствия его посещения, как правило, имели плачевные стимулы для карьеры. Но чудесным образом Геннадий Евгеньевич весьма искусно отмазывался от них.
Не могу обойти вниманием роль его неизменного и причудливого портфеля-дипломатика. Он был как бы знамением души своего хозяина, что ли. Расставание с этим аксессуаром, казалось, для него было немыслимо. А вот документация из этого портфеля имела свойство каким-то образом регулярно пропадать бесследно. И тогда начиналась напряженная борьба по реинкарнации этих утерянных интеллектуальных ценностей. Правда, сами-то они не торопились обратно переселяться туда. Процесс занимал не только рабочее время Баляйкина, которого ему всегда не хватало, но и время подчиненных. Дефицит его проистекал еще из другой характерной слабости нашего героя – многословия.
Прошло месяца четыре, как я приступил к трудовой повинности. Как-то раз мой начальник корабликом заплыл в мою бухту – диспетчерскую.
– Сергей Алексеевич! Вследствие моих агентурных данных я владею, не сочти за дерзость, твоей мистической и дерзновенной тайной! – торжественно начал он, и в глазах его блеснул некий демонический блеск. Вероятно, Баляйкин узнал обо мне нечто духоподъемное, что и привело его к подобному энтузиазму.
– Геннадий Евгеньевич, дерзновенная мистическая тайна – это, кажется, не про меня. Это, скорее, что-то вроде Лунной Селены. От преисподней душком тянет… – попытался отбиться я, изумляясь его определениям.
Мой наставник от ощущения удовольствия, которое его распирало, застучал каблуками начищенных до блеска башмаков по крашеному бетонному полу.
– Друг мой, на преисподнюю ты не тянешь, хотя и плутовски скрытный! Кто бы мог подумать?! Нет, я не умаляю твоих достоинств в нашей практической деятельности, более того, обуревают меня восторженные мысли о тебе! Да, серьезный, солидный парень, всё-то у тебя получается, всё правильно и разложено по полочкам – пунктуальный и порывистый…
– И всё же, Геннадий Евгеньевич! – почти взмолился я. – Не томите душу – в чем моя вина?
– Что ты, Сержик! Я только хотел сказать, что восхищен твоим творческим началом. Для меня не есть секрет, что в своем стремлении к совершенству ты становишься моим коллегой. И не только в деятельности нашего обыденного промысла, этого скучного, отягощающего жизнь обстоятельства, – тут он перевел дух и взмахнул рукой, очертив ей пределы помещения, напичканного множеством всевозможных датчиков и другого оборудования, – но и поэтическими устремлениями не обделен ты, как оказалось. Мечты, мечты, где ваша сладость? Ах, молодость, буйная молодость – золотая сорвиголова! Не прячь глаза, мой друг, удивительный мир литературы тебе не чужд. Литинститут по тебе скучает. Не так ли?
Я тогда, кажется, покраснел до пяток. Настолько я держал всё это втайне, что подобные откровения меня сильно смутили. Я понимал: то, что знает Баляйкин, знают все… Но моя тетушка, очевидно, не устояла перед его обаянием и, похоже, раскололась.
– Что вы, Геннадий Евгеньевич, – в растерянности пролепетал я. – Какой там, к чертям, литинститут: с поэзией я не в дружеских сношениях. За рассказы ухватываюсь, но как только начинаю – сразу силы тают не только в голове, но и в руке, а левой не обучен. Вместо рассказов в моем блокноте одни броские заголовки.
После некоторого замешательства я добавил:
– Литературная ограниченность – порох в пороховницах сырой. Всё, что я могу в эстетизме – смотреть красивые сны и умиляться…
– А ты мудрец, Сергей Алексеевич! – Баляйкин погрозил пальцем и раздвинул широко рот в улыбке. – Прибедняешься, а ведь сны-то – это предвестники большого дела. Это тот самый случай, когда они, эти сны, претворятся в плоды таланта твоего. Заголовочки-то твои прирастут, однако, скоро россыпью многотысячных строк. – Он вдруг остановился и, наверное, вспомнив что-то, добавил: – Мыслитель – наследник Толстого, Гоголя, наконец!..
Он вновь пришел в движение: за несколько секунд нарезал три круга по диспетчерской и бухнулся в кресло. Трясущимися руками достал пачку болгарских сигарет «Интер», вынул оттуда сигарету с желтым фильтром и, чиркнув зажигалкой, смачно и жадно задымил.
– А знаешь, Серж, меня ведь подвигло сегодня к этому разговору необычайное впечатление. За сутки я прочитал «Идиота» Достоевского! Тебе посчастливилось прикоснуться к этому шедевру?
Горящими глазами он испытующе посмотрел на меня.
– Как же, впервые слышу. По школьной программе Достоевский у нас был один – «Преступление и наказание». Апофеоз наших мучений. Тогда невозможно было понять то, что и взрослым непостижимо. Убил бабку-процентщицу и пятьсот страниц каялся и изнывал. По прошлым ощущениям помню свой вывод: а сам автор-то понял, что написал и так долго и утомительно путал?
– Пожалуй, нашей школе не дано распознать философию страданий, – печально заметил Баляйкин. – Но кто-то же дорастает до этого?! Можешь себе представить, мой милый друг, я проглотил роман и до сих пор не могу опомниться от того, что съел… Выводы, скажу я тебе, неутешительные…
В душе я усмехнулся: где уж там утешиться, если до сих пор руки тремор одолевает. Интересно, под какой напиток он смаковал откровения классика?
Мне вдруг показалось, что этот словоохотливый романтик перешел на полушепот. Он подошел к столу, положил на него пачку сигарет и как бы щедрым жестом душевно предложил:
– Изволь, дружище!.. В том-то вся и закавыка, что для нас гонят вершки: зарубил бабку, а дальше тюрьма не страшна – страшны муки совести, и за преступление те муки должны человека вывернуть наизнанку. Мораль, так сказать, и гуманизм нашей идеологии допускают подобные нравственные шалости. Всё вроде очевидно: человек – источник зла, а зло должно нести свой тяжкий крест. Но в романе не так всё просто: преступник с высшими силами ладить пытается… А «Идиот» книга если и не другого порядка, то уж откровение тут налицо.
Баляйкин соскочил с кресла, подбежал к двери, прикрыл ее, выбросил окурок в урну, вернулся к столу и выдернул из пачки очередную сигарету, заговорил еще тише:
– Шестой том собрания сочинений, пятьдесят восьмой год издания. А кто-то для массового прочтения этим пользуется? Нет, скажу я прямо, только литературоведы. А в чем заключается этот абсурд? Гениальный мыслитель вреден для советской идеологии… – едва слышно, шевеля одними губами, как рыба, прошептал он. – Как столь же вредна и опасна для них Церковь Христова! Где она у нас? Это несчастный пасынок на побегушках у государства… – Казалось, от Баляйкина остались почти неподвижные губы и испуганные глаза. – Ведь идея христианства по отношению к этой системе пагубна, потому что конкурентна и сильна своей цивилизационной сущностью.
– Геннадий Евгеньевич, но как-то все эти утверждения не вяжутся с нашей жизнью. Все мы атеисты и коммунисты, а тут один писатель и целая революция? Уж больно вздорно и нелепо всё это выглядит…
Я внимательно всматривался в глаза своего патрона, и возникшее чувство недоверия тут же отозвалось в душе. Ничтожный человечишко с сумбуром несет свое понимание романа и привязывает его к нерву общества. Есть в этом что-то от злого духа, и верить ему не хотелось. Но ведь он так откровенен и, казалось, говорит от души, а не от беснования?! И всё же какое-то мутное начало двигало им.
– Ну вот, слушай, инок советской культуры! Чем больше я вживаюсь в роман, тем навязчивее и устойчивее убеждение, что князь Мышкин – это второе пришествие Христа! Да-да, я не преувеличиваю значение этого, не человека, а духа! Он словно обрушился на людей с небес – такой светлоокий, такой болезный, и всему этому человеческому сумасшествию пытается помочь и исправить его. «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества», – говорит он. А людишки-то его и распинают морально, и измываются над ним: мол, «юродивый», «осел», «рыцарь бедный». Те, кто погряз в грехах, в неправедных установлениях общества, мстят ему за его нечеловеческую невинность, доброту и простоту. Но вся эта камарилья имеет в то же время неистребимую потребность, жажду в его внимании, сострадании. Если хочешь, душеприказчика им надобно и притом – каждому. Он – находка для них, которая, как Христос, умиротворяет и очищает их души, на мгновения приводит к успокоению душевному. Без душеприказчика, без светлого, духовного нет в этом мире счастья… Но всё не так просто. А нужно ли оно людям, счастье-то такое?! Что тут говорить об этих персонажах? Ведь сам Мышкин, возлюби он Веру Лебедеву, от глаз которой рай земной обрести можно и счастье семейное, не желает этой тихой, уютной радости. Ему нужно совсем другое, ради чего и помереть не страшно. Он не только мнит себя мессией, но и открывает в себе это назначение. Он знает, зачем пришел в эту жизнь – облагородить всех заблудших в соблазнах и темных лабиринтах жизни. Если хочешь, призвать их к возрождению духовному, торжеству земного рая. Скажу тебе более: для этого он любит всех… Он с женщинами объясняется в любви – и с Аглаей, и с Настасьей Филипповной – и готов их сразу вести под венец! Не для того, чтобы любить по-мужски, а чтобы любить по-христиански – душевными муками своими спасать! А при этом – кто они такие? Аглая – вертлявая и злобная девица. Зачем же иначе ему она? Вторая избранница – бесовская, падшая женщина, которая на каждом углу об этом объявляет, но преподносит себя как жертву. Он не любовью, а жалостью хочет исцелять их. Он встал вровень с богочеловеком – с Христом!
– Неужели можно такой любовью любить? И при этом страдать ради исправления и блага ее? – пытался я переварить услышанные суждения о высоких чувствах. – Я, кстати, тоже страдал, но чтобы после, например, измены жалеть – это извращению подобно. Хотя эти женщины не изменяли Мышкину, но чем же они достойны, если сами знают свое падение? И при этом требуют, чтоб все их почитали? Я понимаю, что любовь зла – и козла полюбить не диво, но не до безрассудства же? От большой любви потерять всякую логику возможно, – продолжал я ломать голову. – Это потеря концентрации. Ты видишь только одно и ничего вокруг, словно слепец безумный. Психика устремлена не в сторону света, а в какую-то иную, мистическую силу образа, когда веришь непоколебимо в некий луч единой судьбы. Всё в жизни становится второстепенно – есть только ты и любовь. Но как возможно, жалеючи-то, не любя, не будучи одержимым высокой страстью, жертвовать собой? Это значит страдать всю жизнь, то есть отдать себя на растерзание совместного бытия, ей на растерзание. Ведь она не любит, но в таком случае владеет тобой. И уж точно не оценит твою жертву ради нее же. Это ли не кошмар твоей жизни будет?! Ну не так разве? – пытался я отыскать в собеседнике одобрение своим умствованиям.
– Не в кошмаре, друг мой Серж, заключен смысл жертвенности – в страдании и очищении своей души. И та душа, ее душа воспримет это, получит стимул к новой жизни и преобразится! А дух Христов по христианской трактовке тем и мил, что страдание свое Он ставит выше всякого блага бытия. Бог терпел и нам велел.
Баляйкин продолжал нервно курить. Он завел сам себя и, казалось, был рад моему вовлечению. Подскакивал, когда говорил, и вновь наворачивал бесконечные круги по помещению. По своей привычке, может, невротической, подергивал головой и как бы для солидности покашливал, издавая при этом звуки вроде коротких автоматных очередей. После этого падал в кресло и смотрел на меня такими добрыми и просветленными глазами. А затем заводился с прежним упоением:
– Так вот, далее. А что с Рогожиным, например? Уверовав в свое высшее предназначение, Мышкин пытается усмирить звериные страсти того. А возможно, Мышкин, скорее всего, и сам не понимает до конца миссии своего высшего предназначения: просто он рожден таким – с чистой душой и добрыми помыслами. Крестами нагрудными меняется с этим дикарем – делится своим открытым сердцем тому во благо. Но для Рогожина нет Христа, в его комнате висит картина «Христос в гробу». Она для него икона, гласящая: «Бога нет, смерть всесильна, в основе мира – зло и случай». Именно так он ее и понимает – это философия его жизни. И нет примирения в нем. Он от ревностных страстей с ножом идет в отместку на того же душеспасителя, соперника своего. Да, всё-то рушится в итоге – все в страдании и погибели, и сам новоявленный Христос жертвой уходит в небытие. Не радость, не свет принес он в этот мир. Но Апокалипсис ведь уготован для таких ясных, как он! И вдруг возникает сомнение: а не Антихрист ли он?! Не Антихриста ли пришествие это было? Больно уж последствия плачевны. Ведь говорится: «Благими намерениями вымощена дорога в ад»… Но, думаю, что Достоевский верил, что «во второй раз явится Он не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Свет души Христа должен касаться чистых человеческих душ. Мышкин чувствует, что воскресение Христа – это жизнь. И жизнь – это благо! И потому надо жить в ожидании Его и в Вере!..
– Геннадий Евгеньевич, ну это уже перебор, – возразил я. – Хотя в этом романе, как я думаю, все сумасшедшие, но как вы-то всё это так поняли? Сами же понимаете всю подоплеку этой мифологии и так неистово такое воспеваете. Надо же до такого дойти, чтоб так гладко и по-поповски всё распознать и излагать! Меня не покидает ощущение, что всё это о Боге и дьяволе, о ничтожном, несуществующем мире. Чудно мне это слышать…
Я дерзнул перечить патрону и был уверен в своем убеждении. Однако глаза его внезапно потеряли блеск. Он, словно опомнившись, вновь кашлянул, как выстрелил.
– Я-то не разделяю эту мифологию, но очень даже интересуюсь. И скажу я тебе, Серж, это даже очень приятно. Высоко паришь, когда балуешься изысками христианского чтива… Только такое уж очень у нас не приветствуется. Надеюсь, что ты, мой друг, понимаешь последствия наших рассуждений.
– Да что вы, Геннадий Евгеньевич, – быстро отреагировал я, осознавая то, на что он намекнул. Недалеко по коридору сидела в кабинете секретарь партийной организации цеха, премилая, но бдительная Белла Семеновна Наумова. – Я обожаю мыслить на подобные темы. Хотя не разделяю такой, ну как бы ветхозаветный подход к литературе. Но мне такое слышать премило. А самое главное – неожиданно. Не доводилось раньше вот так вживую внимать подобные проповеди. Одно дело – школьная программа, техникум или храм православный, другое – слышать такое на производстве? А будоражит…
– Ну, хорошо, излили души, и ладненько, – принял сосредоточенный вид Баляйкин. – Необыкновенно стоящий ты мужик, Сергей Алексеевич. И поэтому мы с тобой сработаемся. Ты толковый не только в самопознании, но и в практических делах у тебя всё гладко, – наставник сделал паузу, испытующе взглянув на меня. Мне показалось, что он даже подмигнул. – У нас кончается период отпусков, ты у нас пятый – подменный, а посему на зиму мы с тобой переходим на пятидневку… (На производстве непрерывного цикла была практика: смены – четыре, а для отпусков место пятым замещается. Вот я и был «на новенького». )
– Как, и вы тоже? – в растерянности отреагировал я.
– Да как же, я ж не в сменах… Это я к тому, что мы как бы в одной упряжке – это сближает. Будешь со мной творчески постигать глубины технологии, ее нюансы, так сказать, – выдал он фразу в излюбленном стиле, с фигурой речи. За что и снискал к себе, с одной стороны, снисходительное, даже ироничное, с другой – уважительное отношение работников, хотя это определение можно применить, пожалуй, с натяжкой.
Так я пошел на повышение, да временное, но самолюбие цепляющее. Я теперь оказался в эпицентре событий. Так сказать, вступил в плотное соприкосновение с управленцами цеха.
Когда Баляйкин выпорхнул из диспетчерской, я остался пребывать наедине с собой. И, надо сказать, в восторженном состоянии духа.
На фоне того, что предшествовало разговору, я видел Баляйкина фигурой больше юмористической, хотя и деятельной. И что же? Совсем другой образ предстал пред взором очей моих. Точнее, не «пред взором», а в мозгах моего сознания. Когда он включал познавательные, мало того, философообразные, если можно так выразиться, силы своего ума во благо творчески цельных идей, градус его интеллектуального напряжения достигал, по-моему, максимума мистических способностей человека. А угасал этот градус, я знаю, когда он отдавался воле своих низменных желаний, например – заветам Бахуса или страстям Эроса. Он легко мог послать подальше свою жену, ребенка (но «послать» не так, как вы, наверное, сейчас подумали, а в мыслях, от усталости быта) и бегать по таким же духовно возвышенным, как сам, женщинам. Потом, как-то нежданно-негаданно, нарывался на этой почве на приключения, в том числе попадал в отрезвляющие заведения. А вот в дальнейшем Баляйкин производил генеральную уборку души и, как младенец, радовался этому. Похоже, сегодня он тоже радовался. Переизбыток чувств был налицо. И я прочувствовал, что роман Достоевского отрезвил его от непотребных демонических поступков, очистил душу от грязи жизни. А встревожило меня то, что влип он опять в чудеса фантазий. Коварство их в том, что, как ни крути, а вдохновение его приведет опять к замкнутому кругу иллюзий, далеких от реальности.
По мне, так верховодит в нем какой-то вихрь демонизма, ярости, а вытягивает к свету, как оберег, его «красный галстук» духа. В нем кипит гремучая смесь огненных желаний безмерности. Тут, как по Толстому, «всё смешалось в доме Облонских», думал я тогда. И восхищения, мне казалось, был он достоин, и неприязни. Хотя после такого разговора, как хотите, я искренне заобожал его.