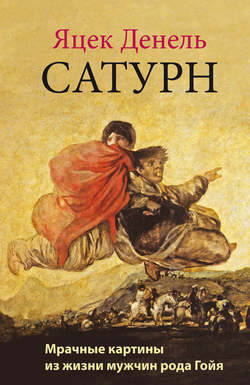Читать книгу Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя - Яцек Денель - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеГоворит Хавьер
Хорошо ему там, в своей Франции[7]. Мне тут обо всем рассказывают. Сидит довольный собой, вдали от могилы благоверной, тоже мне вдовец, старый лис, разжиревший барсук, глухарь потасканный, и пишет дребедень какую-то, какие-то миниатюрки на кости слоновой разрисовывает, рисуночки какие-то; Леокадия стряпает ему, заботится о нем, яблоки собственноручно на четвертушки разрезает, потому как если прислуга, то ему, видите ли, не вкусно, а потом отдается первому встречному – возможностей в Бордо предостаточно, в последнее время, говорят, с каким-то немцем, тот даже не догадывается, что не такая уж она и Вейсс[8], какую из себя строит. Росарио, о, прошу прощения, Букашечка, он ее иначе не называет, только лишь Букашечка, сидит возле него, и «они вместе творят». Он одним росчерком пера что-то изобразит, необязательно картинку для девочки в ее возрасте, даже если она дочка потаскухи и много чего повидала, а она неумело старается повторить. Кривой линией там, где надо прямой, прямой – там, где надо кривой, но, главное, линией скучной. Скучной, неинтересной, малопривлекательной.
Потом старый хрыч берет следующий листок бумаги – я это просто вижу, вижу это – и, бормоча себе что-то под нос (он всегда бормотал, а если не всегда, то, во всяком случае, с тех пор как оглох), в один прием превращает обыкновенный лист бумаги в банкноту: летящую на помеле ведьму, старого рогоносца с молоденькой женушкой (ему и в голову не придет, что рисует самого себя), осужденного в момент удушения гарротой[9], словом, идеальный рисунок, у меня бы на него тут же нашлась пара-тройка покупателей. И передает его девчонке. А та, моргая и вертясь при нем на стуле, лыбясь время от времени и высовывая язык как у ящерицы (наверняка это у нее от матери), «восполняет тени», иначе говоря, своими скучными линиями заштриховывает фалды платья, фрагменты фона и шевелюры. А старый хрыч только приговаривает: «светлей», «темней», «светлей». И так, трудясь дружно и в свое удовольствие, превращают они банкноту в пачкотню, из которой разве что кулек для табака скрутить.
Говорит Франсиско
Хорошо мне здесь, в этой Франции, однако и плохо мне здесь, стар стал. Когда солнце слепит – хоть не так, как в Мадриде, – вижу лучше, и тогда берусь за кисть. Сил на большие полотна уже нет, хожу-то едва-едва; есть тут один молодой, бежал из Испании, де Бругада[10]; проводит с нами немало времени и на прогулки меня выводит, даже научился со мной разговаривать – но не так, как раньше, записывая на бумажке, мне ведь трудно разобрать написанное, а руками, по системе аббата Боне. Третьего дня я его за это пропесочил – размахивает ручищами, будто хочет всем показать, что, мол, старик Гойя не только мослы едва волочит, но и глух как пень, как камень, как кисть, как дверная ручка, как куча старого тряпья, оживленная черной магией. Похоже, воняю мочой, у меня больной пузырь, сам-то я не чую, нос уже не тот, а ведь раньше-то мог через окно унюхать каждую сладкую дрючку, что по улице шла… вижу только, как другие морщатся, когда подхожу близко, да не хотят меня огорчать, вот и убирают с лица гримасу, что еще унизительней. Ношу три пары очков. Три пары очков на одном носу! Мясистом, но не таком уж и огромном. Зрение меня подводит, рука – тоже. Всего-то мне не хватает – только не воли.
Какое-то время занимался литографией, вырезал по памяти быков… Бругада помогал – ставил камень на мольберт, закреплял его, а уже потом я его разрисовывал, скреб бритвой, держа в другой руке большую лупу, без нее я почти ничего не вижу, – но два раза камень сорвался, один раз чуть ногу мне не размозжил, даже нос ботинка зарисовал, а второй раз грохнулся об пол, когда малышка Росарио стояла в трех шагах от него.
Понятно, вся работа насмарку. А в тот второй раз у меня была отличная сценка, почти законченная. Но я это дело забросил. На большие полотна у меня тем более сил нету, зато моя Букашечка уже подросла для рисования, думаю послать ее учиться в Париж, даже пару писем послал, глядишь, Феррэ устроит ее у Мартинеса, он, говорят, неплох. Денег на обучение не жалко.
Да, учить есть кого, не то что мой тюфяк Хавьер, у него ни к чему жилки нет, только знай себе лежит, как кусок жирного мяса на противне, в застывшем соку, приехать ему ко мне, видите ли, не хочется, перенести свою откормленную задницу через Пиренеи трудно, а я, старик, как молодой щегол, должен скакать туда-сюда, иначе не увижу своего ангелочка Марианито. Будто не могут на время оставить свои дела (да какие у них там дела!) и приехать к отцу, одной ногой ведь в могиле стою. Но есть Букашечка, и на Букашечку времени не жаль, я даже показывал ее рисунки в Мадриде, так профессора Академии пришли в восторг: это ж юный Рафаэль в юбке, говорят, молодой Менгс[11] в шелках. А Менгс рядом с ней – сопляк. Такого таланта мир еще не видал. Вот и садимся мы вместе с ней, я ей что-то там рисую на клочке бумаги, а она усердно копирует, и сколько ж в том трудолюбия, сколько знания дела, какая линия замечательная!
Правда, неопытная еще, но гений чувствуется. Гойя чует гений. Она себе рисует, а Леокадия по хозяйству хлопочет или выходит в город, ведь должна же женщина что-то от жизни иметь, мы же во Франции, не в Испании, не буду же я держать ее под замком. Она себе рисует, а я вынимаю из ящика пластины слоновой кости, краски, тоненькие кисточки и, глядя через увеличительное стекло, сначала грунтую их копотью с лампы, а потом капаю пару капель воды. И какие же там миры открываются, сколько же там фигур, духов, сколько страстей – калеки, узники, пузатые карлики, старые ведьмы; смотрю я сквозь лупу, налюбоваться не могу, сколько же всего может происходить на такой малюсенькой пластине, разведи сажу в воде. А потом, раз-два и берусь писать. Если не выходит, а все чаще стало не выходить, соскребываю без сожаления, потому как знаю, копоть разбредается в воде в полном согласии с моими помыслами и даже преподнесет кое-что получше. Куда ужаснее.
С Хавьером я тоже сидел, как с Букашечкой, – думал, коль скоро мой папаня, обыкновенный позолотчик, породил такого живописца, как я, то каких же высот может достичь мой сын! Так думал я обо всех о них по очереди: об Антонио, Эусебио, Винсенте и Франсиско, а они все взяли да поумирали, мало кто дожил до таких лет, чтоб карандаш в руке держать, не то чтоб удивить мир своим талантом; даже с Хавьером сколько раз случалось, что был он на волосок от смерти, как тогда, когда оспой заболел, а я всю ночь носил его на руках, вместо того чтоб писать или шкворить какую-нибудь деваху, а он, в жару, умаявшись от плача, засыпал на минуту и тут же просыпался; когда я рассказал об этом королю, тот был так растроган, что схватил меня за руку и долго-долго ее сотрясал, а потом заиграл на скрипочке, что, поди, у старпера означало сочувствие. А поскольку за драпировкой не было другого скрипача для трудных пассажей (как оно случалось, когда он выступал перед двором), а я по тем временам еще слышал нормально, то хоть святых выноси…
Что ж, каждый выражает сочувствие тем видом искусства, какой ему ближе всего, – я сострадал истекающей кровью Испании своими шедеврами, он сострадал больному ребенку и его отцу, пиликая на скрипочке. И на том спасибо. А ведь не только тогда, с самого рождения Хавьера я старался не привыкать к нему, боялся, что уйдет от нас, как и предыдущие или как те, которых позже Пепа выкидывала: кровавые ошметки, грязь на простынях, ужасы, какие хотелось бы позабыть, чтоб не маячили перед глазами, да и не только эти, но я вижу их, не переставая, стоит глаза закрыть, во сне ли или наяву, когда смотрю, как на пластине слоновой кости чернота разбредается в капле воды и можно разглядеть не только трупы расстрелянных у стены, не только монашек, насилуемых французской солдатней, но и все те гнусности, что вылезали из нее: карлики, гомункулы, что поместились бы на ладони, один с чудовищной головой, другой вообще без ног, паскудство, фу, паскудство.
Но один таки уцелел, и ни с кем-нибудь, а с ним вдвоем сидели мы, как теперь сидим с Росарио, – что за восхитительные минуты, когда я видел, как он становился точной копией своего отца, его, то бишь моим, шедевром; как вынимал из ящика кисти, мастихины, всякие там иглы и скребки, как присматривался к пигментам и спрашивал, из чего их делают… а все же не чувствовалось в нем гения; я это разгадал почти в самом начале, но обманывал себя, убеждал, мол, что-нибудь путное из него еще выйдет, да где там. Молоть языком, распространяться о пигментах и красках был мастак – но когда надо подойти к полотну, к листу бумаги, становился капризным, трусливым, то он стесняется, то не умеет, то одно, то другое; порой казалось, что делает мне назло, специально; пробрал я его пару раз, гаркнул на него как следует, не девка ведь, но потом стало только хуже. Не хотел больше со мной рисовать, не хотел приходить в мастерскую, становился ленивым, неразговорчивым. И откуда у него такое? Уж точно не от меня. Выходит, от матери. А она действительно, молчаливая, хоть и работящая. Мало что в жизни знала, а потому помалкивала, так оно и лучше. Только наряжаться любила. Да разве не все они это любят?
Говорит Хавьер
Не то чтобы мне не разрешал садиться возле себя. Разрешал. Если, конечно, был в Мадриде, если пребывал в хорошем настроении и мог уделить мне ну хотя бы минутку, а то ведь иногда писал по целым дням, как бешеный, без остановки, чертыхаясь себе под нос, а потом еще и целыми ночами, в цилиндре, прикрепив к нему несколько свечей, всегда самого лучшего качества, дающих самый сильный, самый белый свет; а если таковых под рукой не оказывалось, закатывал скандалы, будил мать, прислугу и посылал кого-нибудь в лавку, чтоб тот дубасил в дверь до тех пор, пока владелец не встанет, не откроет и не продаст свечи самого лучшего качества сеньору де Гойе, психу небезызвестному. Ну и уезжал – получал заказ то в одном месте, то в другом, писал министра в его имении, или герцогиню во дворце, или же большое полотно для какой-нибудь церкви, какую, разумеется, он должен был осмотреть собственными глазами, чтоб понять, с какой стороны падает свет, каким оттенком на солнце отливает камень, из которого сложены стены, с какого расстояния и под каким углом будут смотреть на его картину, то есть какой воспользоваться перспективой.
Исчезал на целые недели, на работу ли или на охоту с Сапатером – приятелем со школьной скамьи… Мать только ставил в известность; впрочем, знай она, что он порой рассказывал о себе и об Альбе[12], даже скажи ей, что, мол, еду к герцогине и намереваюсь недурно провести времечко, она бы лишь опустила глаза – только это и умела. Ну и лечь под него, когда пришло время забеременеть и выкинуть.
Но когда мне было девять лет, он уехал надолго – и не то чтобы так не случалось раньше, случалось, но на сей раз не возвращался дольше, чем обещал; из Кадиса[13] приходили написанные чужой рукой письма – я уже тогда узнавал его наклонный, чуточку корявый почерк с длинными усами у «s» и «y»; мать с утра до ночи сидела в своей комнате или во внезапном приступе отчаяния прилетала ко мне и начинала тискать меня и целовать, порывисто, сверх всякой меры, так что хотелось как можно быстрее выскользнуть из этих накрахмаленных манжет и тугих кружев; и если в такой возне мне случалось взглянуть на нее, я видел опухшие от плача глаза с алым ободком век, белки с сеточкой красных сосудов, а оттого казавшихся розовыми; от уныния черты ее лица погрубели, как порой случалось и во время беременности; выглядела она жалко, поэтому, если я бросал на нее взгляд, у меня уже не хватало духу, чтобы высвободиться из ее объятий, я застывал, словно пойманный в силки воробей, когда берешь его в руку, и ждал, пока она не ублажит свою потребность в назойливых ласках. Однако чаще всего мне удавалось увернуться и не видеть ее лица, я вертелся из стороны в сторону, как ненормальный, чтоб только не взглянуть на нее – тогда я мог вырваться и убегал на кухню или на патио.
Вернулся он страшно изнеможденным, его фактически внесли в дом, он повис на плечах извозчика и слуги, выглядел посиневшим, позеленевшим, будто вылепленным из грязного воска, чудовищно исхудавшим, с обвязанной белой косынкой головой; но самым странным было почти гробовое молчание, сопровождавшее его возвращение. Никаких радостных возгласов, никаких приветствий, никаких поручений; и если матери надо было что-то сказать, говорила она шепотом, словно боясь взорвать возвышенную тишину. Каждый шелест платья, каждый стук каблука казался не в меру громким.
Лишь вечером, уложив меня в постель, прислуга сказала мне: «Бедняжечка, теперь у тебя совершенно глухой батюшка»[14].
Потом еще несколько месяцев он отлеживался в постели – лицо его округлилось, начал он рисовать в тетради, стал занудным, как любой выздоравливающий мужчина. И все время о чем-то просил нас или злился, что не может писать; а поскольку оглох, то поднимал невообразимый шум; его громовой голос слышно было во всем доме, от лавочки дона Фелисиано на первом этаже, где от него дрожали и тихонько позванивали стеклянные флакончики с благовониями, до самого чердака, где начинали трепетать сохнущие простыни. «Хавье-е-е-е-е-р, – верещал он, – Хавьер, иди к па-а-апе!», а я убегал куда глаза глядят, как раньше убегал от назойливых объятий матери.
Увечье – это отчуждение. Человек, потерявший руку, – совсем не тот, что был когда-то, только без руки. Это человек, у которого вместо руки имеется ее отсутствие, совершенно новый орган, и на него не следует смотреть и о нем напоминать. Чтобы не причинить боли. И если в теле на месте руки выросло отсутствие руки, то и в душе на месте чего-то там выросло ее отсутствие – орган болезненный, гноящийся, чувствительный.
А те, что лишаются какого-то органа чувств, теряют несравненно больше – весь мир, доступный им с помощью этого органа, и не только! Не только саму мелодию сарсуэла[15] и не только то, как Тирана[16] проговаривала со сцены слова, с тем своим щекочущим ухо бормотанием, воркованием, но также разносящийся по залу шелестящий шепот, добегающие из последних рядов возгласы, хлопки и рукоплескания, эту всеобъемлющую накатывающуюся волну голосов и шумов, какими собравшиеся, как один человек, благодарили ее за звуки, что посылала им со сцены; и казалось, что все эти мелодии, переборы, топот и гудение изливаются из двух противолежащих морей – из сотен гортаней зрителей и ее одной, несравненной гортани.
А сайнетес[17], от которых он когда-то покатывался со смеху, все эти сценки с плутоватыми сборщицами апельсинов и неустрашимыми махо, с умничающими врачевателями и ловкими сорванцами, которые всегда все сделают по-своему, – он учил наизусть эти песенки, а потом пел их за работой, даже спустя годы, когда сам себя уже не слышал и чудовищно фальшивил; и все это он потерял. Не было больше и переодевания, чтоб выйти в город, напяливания отделанной позументом куртки и шитых золотом штанов, которыми он так гордился (хоть уже давно распрощался с талией тореро, о чем мать не упускала случая пробурчать себе под нос)… А ноты, какие он посылал своему дорогому Сапатеру, ноты сайнетес и сегидилий[18], сколько же суетни было с ними, беготни от прилавка к прилавку, чтоб только раздобыть самые новые, модные мелодии!
Купленное он упаковывал и высылал с конной почтой в Сарагосу, а возвращаясь домой, повторял: «Все. Конец с музыкой, пусть теперь Мартин получает удовольствие, с сегодняшнего дня перестаю ходить туда, где можно услышать песни… я же себе сказал: ты должен, дрить твою, придерживаться каких-то принципов, сохранить, дрить твою, приличествующее мужику достоинство!» – и так бормотал он всю дорогу, до самого дома, а вечером все равно выходил, расфуфыренный, в одной из своих расшитых курток махо, и до слез смеялся с другими, подобными ему. Но с тех пор как лишился слуха, ни разу не надел куртки махо, даже ради шутки, словно она была одеждой покойника.
Говорит Франсиско
Есть вещи, о которых не расскажешь. Их можно только написать. А если по-честному – и написав, не расскажешь.
Говорит Хавьер
Вот и получается, что оправился от болезни и встал за мольберт совершенно чужой человек. В первую очередь чужой для нас – ведь до его ушей не доходили наши слова; он сидел в своей мастерской, как рыба в аквариуме, темно-буром, с диковинными водорослями: рулонами полотна, скелетами подрамников, соскобленной краской, и работал без передышки, зачастую ночами, отчего сжигал еще больше свечей, а одежда его и весь пол мастерской были испещрены капельками воска, прочерчены его серебристыми нитями; он брал все заказы подряд, лишь бы доказать, что все еще умеет писать, начал посещать собрания Академии, дабы пресечь распространяемые желчными пачкунами сплетни, будто бы «Гойя кончился», и сидел на этих собраниях, ровно ничего не понимая, но, как мне представляется, с умным видом, словно слышал все до единого сказанные слова и глубоко размышлял над их сутью; писал ужасные картинки на жести – пожар, выброшенных на голую скалу жертв кораблекрушения, разбойников, убивающих путешественников, тюрьму, толпящихся в коридорах больницы умалишенных; по сей день живы в памяти отдельные сцены: перекошенные от страха лица, вывернутые ладони, отчаянные жесты; я подкрадывался так близко, как только было возможно, и наблюдал из какого-нибудь укрытия, из-за полотна или стула, как он, посапывая и бормоча, отходит от холста и вновь к нему подбегает, накладывает на него жирную, масляную черноту кандалов, окатывающую труп белую кипень и коричнево-красные, сухие пятна – кровь, впитывающуюся в песок под колесами дилижанса.
Если он догадывался, что я стою рядом, – заметив меня краем глаза, почувствовав мое дыхание на опущенной левой руке или попросту ощущая чье-то присутствие, сосредоточенье чьего-то внимания, как оно порой случается каждому из нас, – резко оборачивался и выгонял меня за дверь; временами это было похоже на игру: он ухал, свирепо лаял и рычал или щекотал меня под мышками; однако большей частью был действительно зол, особенно если писал сцену из дома умалишенных – тут же набрасывал на нее тряпку и хватал что ни попадя – багет или ветошку, – чтоб прогнать меня из мастерской.
Потом вместе с письмом он послал эту картину Сапатеру (не имею представления, что с ней сделали его наследники), а себе, спустя несколько лет, написал другую, точно такую же. Что бы там ни было, найти с ним общий язык у меня не получалось. Он еще не умел читать по губам, а я почти не умел писать; он выходил из себя, когда я медленно, с трудом выводил очередную букву, а он старался угадать все слово; если ему удавалось, он ожидал следующего и снова пытался угадать, но спустя какое-то время забывал, что было в начале, и еще больше злился. Тогда я понял, в чем прелесть нашего большого дома.
Большие дома существуют для того, чтобы люди могли избегать друг друга. А если кто-то глух, от него еще проще спрятаться; можно даже пробежать за его спиной из комнаты в комнату, только осторожно, чтобы он не почувствовал дрожания пола у себя под ногами; но когда тебе десять лет, можно бегать легко-легко. Писать я научился быстро и разборчиво, чтобы наши разговоры были как можно короче, а вместе с письмом незаметно пришла охота к чтению – отец особо не восторгался книжками, мать читала только молитвенник, но в школе у монахов, помимо безумно скучных сборников молитв, было несколько интересных книжек, оставшихся от лучших времен.
Когда я подрос и стал посмелее, мне случалось выспрашивать у некоторых знакомых отца, какие книги они ценят более всего, – и если я не находил их в библиотеке пиаристов[19], то в следующий приход гостей просил мне их одолжить; конечно же мне не полагалось заговаривать с отцовскими посетителями в гостиной, но я ведь мог оказаться в прихожей (сильно волнуясь, со вспотевшими руками), когда они входили или выходили из дома; частенько прислуга или родители награждали меня затрещиной, но случалось, что позднее я получал вожделенную книгу и тут же летел с нею в комнату, дабы приступить к чтению. Приехавший на какое-то время по своим делам из Кадиса сеньор Мартинес частенько наведывался к нам в дом и убеждал отца послать меня учиться за границу, но отец отрезал: «Хавьер – художник. Прирожденный художник. Это у него от меня. Всякая наука, кроме науки живописи, для него пустая трата времени. Не говоря уже о деньгах. Впрочем, книги, дрить твою, – то же самое. Трата. Столько света пропадает».
Но более всего отец, потеряв слух, стал чужаком самому себе, прежнему себе; он изменил привычки, тембр голоса, распорядок работы, нервничал из-за пустяков. Всегда был вспыльчив, теперь же напоминал пойманного в капкан волка, который искусает любого, кто приблизится, хоть с каждым подскоком и каждым щелканьем зубов дуги еще глубже будут врезаться в мясо и кость лапы.
7
В 1824 г. Гойя по политическим соображениям отправился в добровольное изгнание во Францию. Последние годы своей жизни он провел в Бордо, где и умер 16 апреля 1828 г., в возрасте 82 лет.
8
Фамилия ее законного мужа.
9
Испанское орудие казни через удушение.
10
Антонио де Бругада (1804–1863) – испанский художник романтического направления. Эмигрировал во Францию из политических соображений. До сих пор считалось, что после смерти Гойи в 1828 г. Бругада по просьбе его сына Хавьера провел каталогизацию полотен живописца. Однако последние исследования искусствоведов ставят под сомнение его участие в составлении списка картин.
11
Антон Рафаэль Менгс (1728–1779) – выдающийся немецкий живописец эпохи классицизма.
12
Мария Каэтана де Сильва (1762–1802) – 13-я герцогиня Альба, наследница многочисленных титулов и земель испанских аристократов и грандов, некогда владевших городом Альба на реке Тормес.
13
Кадис (дореволюционное название – Кадикс) – город на юго-западной оконечности Испании.
14
Зимой 1792/93 гг. Гойя перенес неожиданную и загадочную болезнь, художника постиг паралич с частичной потерей зрения. К тому же он совершенно оглох.
15
Сарсуэла (исп.) – музыкально-драматический жанр, сочетающий вокальные выступления, диалоги и танцы; близок к оперетте. (Примеч. авт.)
16
Популярная актриса Мария дель Росарио Фернандес (1755–1803), называемая в народе Тирана (в переводе «народная песня»). Ее портрет кисти Гойи считается одним из его лучших женских портретов.
17
Сайнетес – своего рода короткий фарс или скетч (чаще всего из жизни простолюдинов) в сопровождении музыки. (Примеч. авт.)
18
Сегидилья – быстрая мелодия для пения и танцев, по происхождению из Кастилии, впоследствии распространилась по всей Испании. (Примеч. авт.)
19
Пиаристы – католический монашеский орден, основавший регулярные христианские школы.