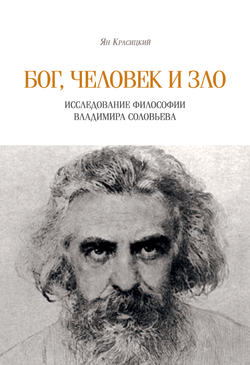Читать книгу Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева - Ян Красицкий - Страница 10
Часть первая
Теософия
Раздел I Две философемы
8. “Завещание” философа
ОглавлениеИсходной проблемой для философии Соловьева, как и для всей русской религиозной философии, остается вопрос о “смысле жизни” Рискну даже утверждать, что вся эта философия является единым огромным воплем – мольбой о разъяснении “смысла жизни”[140], а вместе с тем и страстным протестом против смерти. Здзеховский в своем очерке-эссе Завещание князя Евгения Трубецкого считает этот протест против смерти и “пасхальное” (сквозь призму праздника Воскресения) восприятие-переживание мира особенными, отличительными чертами русской мысли[141]. Эти принципы, вероятно, составляют “завещание” не только одного из самых верных учеников Соловьева, Е. Трубецкого, но и всех представителей так называемой школы Соловьева: С. Булгакова, С. Трубецкого, П. Флоренского, Н. Бердяева, Н. Лосского. В осуществлении этого “завещания”, в протесте против смерти, представляющей для Соловьева и его учеников наивысший “абсурд” и “бессмыслицу”, выражается “русская идея спасения”[142], объединяющая в одно целое усилия автора Чтений о Богочеловечестве и его последователей, выражается глубочайший смысл русской религиозной философии как философии утверждения Жизни.
Вопрос о “смысле жизни”, однако, неразрывно связан с вопросом о “смысле смерти” ибо именно Смерть заставляет задуматься, как писал Е. Трубецкой, о том, стоит ли вообще жить[143]. Чтобы выяснить глубочайшие причины зла смерти и найти движущую силу реального противодействия этому злу, нужно было прежде всего поставить вопрос, который и поднял наш философ: Чем по сути своей является Жизнь и “где” она находится? Где бьет ее вечный источник? Имеет ли этот источник по отношению к миру имманентный или трансцендентный характер? Находится ли он в том мире, где все имеет конец и начало, подвержено изменениям и переменам, или пребывает за границами этого мира? Какой смысл в этом контексте имеет событие Воскресения Христа из мертвых и то novum [144] в делах мира и человека, каким является сам Иисус Христос[145] как Начальник Жизни? В каком соотношении находятся Он и Весть о его Воскресении с окончательной перспективой человеческой жизни, с судьбами Вселенной и человечества? Может ли Человечество остаться равнодушным к этому акту? А если это случится, то где же еще, если не в событиях, связанных с Пасхой, искать основы для борьбы со злом и смертью? Выражаясь языком современного теолога, какими в таком случае являются и какими могут быть окончательная личная установка и экзистенциональный выбор христианина перед лицом тех “высших притязаний”, которые, с точки зрения каждого человека, предъявляет Иисус Христос – “воскресший и вознесенный”[146]?
Основной вопрос о существующем в мире зле упирается для Соловьева в проблему преодоления власти смерти: если существует Сила, способная ее победить, то зло преодолимо уже в своем “зародыше” в своем зачатке, в его “жале” (“Смерть, где твое жало?” – восклицал вслед за пророком Осией апостол Павел; (Кор 15:55); а если такой Силы нет, заключает философ, то мы можем повторить вслед за Апостолом: “то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша “ (Кор 15:14). “Факт смерти” отрицать невозможно, и, пока в мире царит смерть, в нас царит зло, царит “князь мира сего””, или Сатана (Ин 12:31). Если наступит победа Добра над злом, утверждает философ, это будет окончательным, эсхатологическим триумфом воистину “вечной” и “бессмертной Жизни”, ее победой над законом греха, то есть над “увековеченным” злом и “увековеченной” смертью, над жизнью естества, жизнью вида. Если Добро восторжествует над злом, в качестве последнего врага будет побеждена смерть, но, пока она еще не побеждена, мы ясно видим, что зло в мире не просто сильно, оно сильнее добра. Поэтому истина Воскресения Христова, пишет Соловьев, это целостная истина, это не только истина веры, но и истина разума. Если бы Христос не воскрес, если бы оказалось, что “прав Киафа” если бы подтвердилась правота Ирода и Пилата, то мир оказался бы “неразумным (лишенным разума) царством зла, обмана и смерти”. Именно в актах смерти и Воскресения Христа, утверждает философ, “дело шло не о прекращении чьей-то жизни, а о том прекратится ли истинная жизнь, жизнь совершенного праведника. Если такая жизнь не могла одолеть врага, то какая же оставалась надежда в будущем? Если бы Христос не воскрес, то кто же мог бы воскреснуть? Христос воскрес!”[147]
Посредством того “поступка” (действия, подвига) Христа, который принес спасение миру, смерть, говоря языком теологическим и философским, как “высшее зло” окончательное зло, как все уничтожающее, разрушающее всякое бытие Ничто (Nichtige), как именно „то, чего Бог не хочет“ (как сказал бы К. Барт), как то, что, будучи лишено истинного смысла, „существовать не должно, но существовать хочет“[148] (Шеллинг), будет окончательно побеждена – “попрана”[149]. Посредством Креста (Распятия) и Воскресения, в личном акте Любви и Милосердия, в Жертве Христа – Бог оказался истинным Начальником Жизни. А также и Владыкою над всем тем, что ему более всего чуждо, – “Владыкою Ничто – Ничтожества”[150], “Высшего зла” – смерти.
140
Проблема “смысла жизни”, в значительной мере благодаря трудам Соловьева, стала одной из ключевых проблем всей русской религиозной философии. См.: Kapuścik J. Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia. Kraków, 2000; Безносов В.Г. Русская философия конца XIX – начала XX в. о смысле жизни и назначении человека //Смысл жизни в русской философии. Конец XIX – начало XX века. Ред. А.Ф. Замалаев. СПб., 1995; Трубецкой Е. Смысл жизни // Трубецкой Е. Избранные произведения. М., 1998.
141
“Нигде в мире, – пишет Здзеховский, – не встречаем мы такой страстной ненависти к смерти, как у русских мыслителей, и такого конкретного понимания всех последствий, вытекающих из отказа от бессмертия. “Если человек – червь, – восклицает Трубецкой в своем волнующе сильном и прекрасном признании в вере под названием Свобода и бессмертие, написанном в последние дни его жизни, – то можно его растоптать, как червя. Но человек – это царь, коронованный венцом разума, помазанник Божий, и поэтому так отвратительна ему мысль о смерти. Пойдем на кладбище и взглянем на него глазами неверующего человека. Что мы там найдем, если не безобразную пародию на все наши идеалы и формулы жизни? На такие, например, как всеобщее равенство без различия веры, национальности, пола и даже возраста. Там встретим мы и полную реализацию четырехчленной формулы демократии, ибо каждый крест олицетворяет ожидающую всех нас всеобщую, непосредственную, тайную и равную судьбу под землей. Найдем мы там даже и окончательное решение “аграрного вопроса”, ибо, говоря словами Толстого, там, на кладбище, каждый человек получит в свою собственность как раз столько земли, сколько ему нужно. Словом, смерть предвосхитила и опередила наши самые смелые утопии. Она сорвала с человека его царскую корону и сравняла его с землей. Разве это собрание трупов и должно стать концом и венцом всех усилий разума и воли?.. Нет, никогда! Не верим в смерть и не можем в нее уверовать. Вопреки всему, что видим и знаем, вера в смерть никак не помещается в нашем сердце. Разумом мы, конечно, признаем смерть, считаемся с ней, но отбрасываем ее всей нашей сущностью, всей нашей жизнью: н а ш а душа не принимает е е. И поэтому без страха смотрим мы на торжество глупости и подлости, верим в существование разума во вселенной, в его победу, и эта надежда живет в сердцах даже тех, кто разумом своим ее отбросил” (Zdziechowski М. Testament księcia Eugeniusza Trub ieckiego // W obliczu końca. Wilno, 1938. S. 187–188).
142
См.: Сабиров В.Ш. Русская идея спасения. Жизнь и смерть в русской философии. СПб., 1995.
143
См.: Трубецкой Е. Смысл жизни // Трубецкой Е. Избранные произведения. М., 1998. С. 5 и далее. Здзеховский пишет, что в частном разговоре Трубецкой признался ему, что первоначально эта книга должна была называться по-другому: Бессмыслица мира и мировой смысл. В итоге название было изменено по причинам, не зависевшим от автора. Здзеховский назвал это произведение “гениальным”. Смысл жизни, являющийся, как пишет Здзеховский, своего рода идейным “завещанием” Трубецкого, “увидел свет только в 1922 году, но под банальным названием (“Смысл жизни”). Название, близкое первоначальному замыслу всей книги, автор дал ее первому разделу” (Zdziechowski М. Testament księcia Eugeniusza Trubieckiego //W obliczu końca. Wilno, 1938. S. 183–184).
144
См.: T i l l i e l l e X. Chrystus filozofyw. Kraków, 1986. S. 184. „Новое (нововведение, новация) в христианской вере означает эсхатологические действия (эсхатологическую практику) христиан, предпринимающих нечто, что уже теперь приведет к исполнению будущего, предначертанного Богом. Христос как Господь, воскресший из мертвых, – это novum творения, продолжающаяся действительность и последняя возможность [спасения] для мира и человека” (Praktyczny słownik biblijny. Warszawa, 1994. S. 832).
145
Проблему объединения всего человечества задолго до того, как она появилась в трудах Федорова и Соловьева, обозначил в своих рассуждениях П. Чаадаев. “Столько предпринято интересных попыток в светской и религиозной жизни, – излагает его позицию известный знаток восточной духовности, – но все они по сути обречены на провал из-за смерти, которая становится фактором радикального разделения человеческих существ, их разлучения. Истинного единения можно ждать только от Того, кто преодолел смерть. На вопрос “Чем был бы мир, если бы не появился Христос?” есть один-единственный ответ – “Ничем”. (Śрidlik T. Wielcy mistycy rosyjscy. Kraków, 1996. S. 312–313).
146
Кasper W. Jezus Chrystus. Warszawa, 1983. S. 96, 123–164.
147
Соловьев B.C. Пасхальные письма // Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 10. С. 37.
148
Zdziechowski М. Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześciaństwa. Kraków, 1914. Т. 1. S. 265.
149
R i с o e u r P. Zło. Wyzwanie rzucone filozofii i teologii. Przeł. E. Burska. Warszawa, 1992. S. 31.
150
Там же.