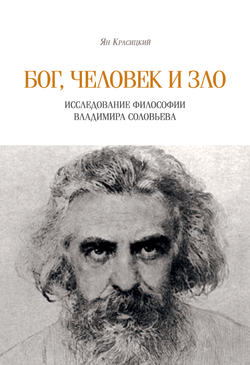Читать книгу Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева - Ян Красицкий - Страница 4
Часть первая
Теософия
Раздел I Две философемы
2. Эгоизм и смерть
ОглавлениеПричина такого положения дел, а именно того, что вместо истинной жизни мы постоянно имеем всего лишь ее имитацию, что, “стремясь жить, мы умираем и, желая познать жизнь, познаем смерть”[85], является господствующий в “мире сем”[86] “закон греха”[87]. Наше бытие в рамках, предопределенных природой и существованием вида, по существу является постоянным “самоубийством” ибо для продолжения вида (рода) человек (отдельное существо) должен погибнуть. “Потребность вида, – пишет Соловьев, – это потребность вечной жизни, но вместо вечной жизни природа несет вечную смерть. Ничего в природе не живет [вечно], все только мечтает жить и постоянно умирает” Однако согласиться с тем, что дает нам природа, встать на этот путь, успокоиться, обуздать свои страсти и порывы – это все равно что признать смерть единственном основой, которая господствует в жизни. В этом смысле старинная жизненная мудрость, выраженная в поговорке “живи в согласии с природой”, означает не что иное, как только “живи по закону смерти”[88].
“Закон вечной смерт и”[89] в наиболее явном виде проявляется в половом притяжении, в процессе биологического размножения. Этот закон самым непосредственным образом противоречит закону и праву индивидуального духовного развития каждого человека. Половой акт соединяет, связывает друг с другом два разнополых существа; однако он подтверждает не единство, а разделение, господство вида, “дурную бесконечность” постоянное появление новых, сменяющих друг друга, вытесняющих друг друга из жизни поколений; происходит своего рода извержение бесконечного количества единиц, не имеющих между собой никакой органической связи, чуждых и враждебных друг другу. Таким образом, нарушенной, ущемленной оказывается сама целостность человека, его сущность во всех аспектах, “и вглубь, и вширь, и вдаль”; человек, над которым тяготеет слепой закон природной необходимости (продолжения вида, рода), становится существом, оторванным от своего онтологического и духовного центра, а “цельность” его бытия оказывается лишенной единства и интегральной полноты; “центробежная сила природы, проявляющаяся как эгоизм каждого и антагонизм всех” отрывает его от абсолютной основы его бытия[90]. Свою основную мысль Соловьев выразил кратко словами античного философа: “Дионис и Гадес – одно и то же”[91].
Но хотя человек по своей природе подчиняется закону вида, пишет Соловьев в своей работе Оправдание Добра, своей духовной сущностью он нарушает этот закон. Человек по сути своей, как мыслит философ, это не ген, а гений[92], и поэтому зло его природного существования может быть преодолено и побеждено “самим человеком”. И только человек как существо, с одной стороны, подчиняющееся закону видовой смерти, однако с другой – способное ощутить в самом себе “полноту вечной ж и з н и”, может подчинить природу иному закону, нежели тот, что правит этой природой. Поэтому в самом человеке идет постоянная борьба между законом вида, законом воспроизведения (мультипликации) поколений, “увековечением смерти” и правом личности, и только человек, в силу того исключительного места, которое он занимает в космосе, приобщаясь к Богу как Абсолютному Добру, может “одухотворить” природу и направить ее развитие к истинной, а не ложной, “дурной” “пустой бесконечности”[93]. Он может, так сказать, “вырвать” природу из-под власти поработившего ее “закона вечной смерти”, “закона греха”, закона, заявившего о себе как о “высшем зле” которым является смерть, и подчинить ее “закону Жизни”
С точки зрения истинного, окончательного предназначения человека и космоса “закон греха” царящий в природе, – закон, которому после Грехопадения оказался подчиненным и сам человек (“ибо возмездие за грех – смерть”; Римл. 6: 23) и нормой которого является “борьба (война) всех против всех” (bellum omnium contra omnes), по сути есть беззаконием и бесправием. “Закон природы” в самой этой природе, можно сказать, не является вещью естественной, “натуральной”; он вторичен так же, как вторичен по отношению к “факту жизни” “факт смерти” Метафизический “эгоизм”, хотя и переживает свой “триумф” в этом мире, не является естественным, первичным состоянием человека и так же, как “факт” смерти, оказывается состоянием вторичным, неестественным, искусственным, как сама смерть. Соглашаясь на это состояние, пребывая в нем, мы поистине, как говорит Евангелист, не только “пребываем в смерти” (Ин 3:14), но и укрепляем ее господство в мире. Смерть, которая царит во всем мире и сам “факт” существования которой мы не можем отрицать, подтверждает, что “эгоистическое бытие”[94] по сути своей, хотя и имеет видимость жизни, является призраком и “сном”, чем-то, лишенным с м ы с л а, и такое бытие становится определяющим фактором не только существования человека в мире, но и существования всей природы.
В чем же заключается практически этот “эгоизм” который Соловьев, под заметным влиянием позднего Шеллинга, называет “метафизическим эгоизмом”? Он заключается в признании исключительности собственного существования в этом мире и отказе другим в подобном праве. Закон жизни есть закон постоянного обмена – закон физического, психического и духовного метаболизма, а отнюдь не эгоистического “самоутверждения”, эгоистического “самопризнания” Тем временем человек, который признает только самого себя, замыкаясь в себе самом и желая жить независимо от других, отсекает себя от трансцендентных источников истинной Жизни, погружается в смерть и из “живой личности” (“лица”) превращается в “пустую маску” (“личину”)[95]. Именно такой эгоистический modus existendi, как указывал на это еще Ф. Шеллинг, как для человека, так и для всей природы является корнем и источником всякого зла[96].
“Бессмысленность” вселенского бытия, которая проявляется как всеобщий эгоизм, обусловлена тем, что мир в своем нынешнем состоянии отделен, отгорожен от основы единения, которая воплощается в Боге, “Всеединстве” и абсолютном Добре. Это “отграничение себя и мира от Бога”, повсюду принятое как нечто само собой разумеющееся, естественное и обычное, не является, однако, “естественным” состоянием мира и человека в этом мире. Это нечто, что навязано со стороны, нечто вторичное, трагическое, произошедшее не по вине человека. Но для того, чтобы выяснить природу этого явления, надо обратиться к реальности более глубокой, нежели реальность одиночного греха (греха одного человека), нужно обратиться к понятию “всеединой личности” к понятию “первого Адама”[97], в котором, как свидетельствует Священное Писание, собраны все наши грехи (“потому что в нем все согрешили” – (Римл. 5: 12). Нужно обратиться к событию, которое Библия называет Грехопадением, Первородным грехом и о котором философ пишет (о чем мы будем говорить дальше подробнее) как о падении Души мира.
В завершение третьей части книги Россия и Вселенская Церковь Соловьев пишет:
“В основе всего человеческого зла, всех грехов и всех преступлений личных и общественных, лежит коренной порок и коренная болезнь, мешающая нам быть действительно сынами Божиими. Это – хаотическое начало, первоначальная основа всякого созданного существа, приведенное к бессилию […] в Человеке [Христе, втором Адаме. – Я.К.], но снова пробужденное падением Адама, оно стало основным элементом нашего ограниченного и эгоистического существования, которое крепко держится за свою бесконечно малую частицу истинного существования, стараясь в то же время сделать из этой частицы единственный центр вселенной”[98].
Но как в самом человеческом эгоизме, так и в жизни природы, полагает философ, при всей их абсурдности и иррациональности, заключен определенный момент более высокой рациональности, высший Смысл, открыть который может только свет высшего сознания. Ошибка эгоизма заключается не в том, что человек приписывает себе абсолютное “значение” По сути, человек как существо, сотворенное “по образу Божьему“ (Быт, 9:6), и как личность обладает абсолютной ценностью и абсолютным достоинством. Ошибка эгоизма заключается в том, что данный человеческий индивидуум, считая себя “центром жизни”, приписывая себе абсолютные ценности и требуя соответствующего признания этих ценностей, вместе с тем “отказывает в этом другим” Поступая так, он в сущности приписывает себе компетенции Бога, который “есть всё, то есть обладает в одном абсолютном акте всем положительным содержанием, всею полнотою бытия” в то время как человек, “будучи фактически только этим, а не другим, может становиться всем, лишь снимая в своем сознании и жизни ту внутреннюю грань, которая отделяет его от другого”[99]. Человек всегда остается лишь отдельным существом, и та абсолютная ценность и достоинства, какими он обладает, являются не чем-то изначально и непосредственно данным, а заданным ему (как урок, как возможное направление его развития). Сами по себе они остаются идеалом, духовным “зерном”, способным прорасти, заложенным в человека и имеющим перспективу развития[100]. Это нечто, что является скорее постулатом, нежели уже реальным, реализованным моментом – качеством, которым он исходно обладает. Человек, оставаясь неотторжимой (неотделимой) и незаменимой частью всеединой цельности, самостоятельным, живым, своеобразным органом абсолютной жизни, может реализовать свое абсолютное предназначение только при том условии, что он отступится, откажется от своего эгоизма. Будучи фактически “только этим, а не другим”, он может “стать всем” только вместе с тем, что представляют собой другие, только в неразрывной связи с этими “другим и” он может спасти свою истинную “индивидуальность” Настоящая “индивидуальность” (в значении, которое скорее надо понимать как личность, как личная неповторимость) является “определенным обликом (образом, проявлением) Всеединства, а следовательно, и определенным видом восприятия, усвоения, понимания и присвоения себе того, что представляют собой другие.
“Утверждая себя вне всего другого, – пишет Соловьев, – человек тем самым лишает смысла свое собственное существование, отнимает у себя истинное содержание жизни и превращает свою индивидуальность в пустую форму. Таким образом, эгоизм никак не есть самосознание и самоутверждение индивидуальности, а напротив – самоотрицание и гибель”[101].
Стремление человека “быть Богом” сотворить Бога из себя самого, силой своего эгоизма, оборачивается в конечном счете против человека. Эгоистическое существование индивидуума (“человеческой монады”) становится чем-то вроде ада на земле. Одинокое, изолированное существование отдельного человека, его “самоутверждение” – это по сути отчуждение от жизни. Сам феномен жизни у Соловьева – это не существование монады “без окон”, но “сосуществование с другими”, разделенное и совместное с ними бытие.
85
Соловьев B.C. Духовные основы жизни // Соловьев B.C. Собрание сочинений. Т. 3. Брюссель, 1966.(Т. 3. СПб.). С. 308.
86
“Выражение “сей мир” – комментирует понятие, данное Иоанном Богословом современный исследователь, – должно обратить внимание на несовершенство людей, на их греховность. “Сей мир” противопоставляется эсхатологической реальности, началом которой является пришествие Христа. Оппозицию по отношению к любви Христа евангелист формулирует в таких выражениях, как “быть от мира” (Пн 8: 23; 15: 19; 17:16; 18: 36), “быть от диявола” (Пн 8: 44, см. также Пн 3: 8). “быть от нижних” (Пн 8: 23), “быть рожденным от плоти” (Пн 3: 6). Эти понятия указывают на принадлежность человека к сфере греха (смерти), на духовную связь с Сатаной в связи с укрытием от Богоявления. “Быть от мира” – это означает не естественное состояние, а состояние упадка, грехопадения” (Мędаla S. Świat // Egzegeza Ewangelii św. Jana. Lublin, 1992. S. 356–357).
87
“Соловьев B.C. Духовные основы жизни // Соловьев B.C. Собрание сочинений. Т. 3. Брюссель, 1966. (Т. 3. СПб.). С. 312. Соловьев цитирует здесь обширный фрагмент из (Римл 7:14–23), где идет речь о борьбе в человеке двух “законов”: доброго “духовного закона” со злым “законом греха”
88
Там же. С. 17, 19.
89
Соловьев B.C. Оправдание Добра // Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 8. СПб. С. 167.
90
См. там же. С. 173–174.
91
Соловьев B.C. Смысл любви // Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 7. СПб. С. 32.
92
“Итак, человека обременяет его родовая сущность, она предъявляет ему свои права, навязывает ему свои законы и хочет в нем себя увековечить, но его внутренняя сущность отвечает на эти попытки: “Нет, я не то, чем ты являешься, я стою над тобой, я не род, хотя и от рода, я не genus, но genius” (Соловьев B.C. Оправдание Добра // Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 8. СПб. С. 166).
93
Там же. С. 166–171.
94
Соловьев B.C. Чтения о Богочеловечестве // Соловьев B.C. Собр. соч. Брюссель, 1966. Т. 3. С. 130.
95
Там же. С. 130–131. Мысль философа замечательно подчеркивает здесь игра слов, близких по звучанию, но имеющих совершенно противоположный смысл: “лицо” и “личина”. По-польски этого никак не выразить.
96
См.: Schelling F.W.J. Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności i sprawami z tym związanymi. Kraków, 1990; Müller L. Schelling und Solovjev// Müller L. Solovjev und der Protestantismus. Freiburg, 1951. S. 93-122; Romero M.G. Schelling’s Reflection on the Evil in the “Lectures on Godmanhood” // Соловьевский сборник. Ред. И.В. Борисова, А.П. Козырев. М., 2001. С. 220–241.
97
Соловьев B.C. Духовные основы жизни // Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 3. С. 366.
98
Соловьев B.C. Россия и Вселенская Церковь // Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 11. Брюссель, 1969. С. 345.
99
Соловьев B.C. Смысл любви // Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 7. СПб., С. 17.
100
Sоłоwjоw W.S. Duchowe podstawy życia // Sołowjow W.S. Wybór pism. Poznań, 1988. Т. 1. S. 41.
101
Соловьев B.C. Смысл любви // Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 7. С. 17.