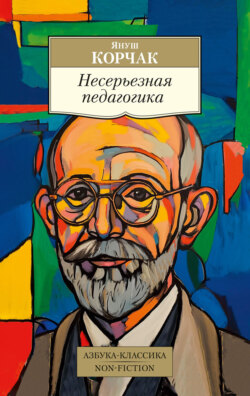Читать книгу Несерьезная педагогика - Януш Корчак, Януш Корчак - Страница 6
Моменты воспитания
Стефан
ОглавлениеМне всегда казалось, что серьезным препятствием на пути разумного воспитания конкретного ребенка оказывается не всегда осознаваемая, но неизменно присутствующая мысль: «Не стоит». Имея сотню воспитанников, я обременен обостренным чувством ответственности, ведь каждое мое слово отзывается в сотне умов, за каждым движением следят сто пар внимательных глаз; если мне удается растрогать или убедить, побудить к действию, мои любовь, вера, энергия возрастают стократно; сколько бы детей ни подвело, хоть кто-нибудь – не сегодня, так завтра – непременно докажет, что понял меня, прочувствовал, что мы вместе.
Воспитывая сотню детей, не знаешь одиночества и не боишься полного поражения. Если же я отдаю часы, дни, месяцы своей жизни одному ребенку, то что имею в итоге? Ценой одной моей жизни я строю тоже всего одну жизнь. Отказывая себе, питаю лишь одного. Мне легче побороть досаду, усталость, плохое самочувствие, начать рассказывать, если меня слушает сотня ребят.
Сталкиваясь с воспитательницами, которые ради одного-двух детей оставили коллектив – иными словами, предпочли место частного педагога работе в приюте или интернате, – я полагал, что ими движет не любовь к своей профессии, а стремление к выгоде, к труду более комфортному и необременительному.
Всего две недели я провел с одиннадцатилетним Стефаном – и убедился, что наблюдение за одним ребенком дает не менее богатый материал, приносит не меньше забот и радостей, чем работа с группой детей. В этом одном ребенке ты замечаешь намного больше, тоньше чувствуешь и глубже продумываешь каждый факт.
Мне кажется, воспитатель, уставший от большого коллектива, вправе – а быть может, даже обязан – применить «севооборот»: на некоторое время уйти от толпы в тишину, чтобы затем вновь вернуться к работе с группой. Насколько я знаю, такой традиции нет: одни педагоги специализируются на индивидуальном, другие – на групповом обучении и воспитании.
Эти записи имеют форму дневника – так я их вел и в таком виде оставляю. Они могут представлять ценность как документ – несмотря на необычные условия, время и место.
NB. Я был тогда ординатором полевого госпиталя. Во время затишья я взял к себе мальчика из приюта; он хотел учиться ремеслу, а при госпитале имелась столярно-плотницкая мастерская. Мы провели вместе всего две недели: я заболел и уехал, мальчик еще какое-то время оставался при госпитале, потом начались военные действия, и денщик отвез его обратно в приют.
Четверг, 8.3.1917
Он у меня уже четвертый день. Я хотел сразу начать записывать. К сожалению, с дневниками всегда так: когда есть что записать, нет времени. Это многих расхолаживает. Мне жаль удивительных чувств, что остались незапечатленными. Я уже привык к присутствию мальчика.
Его зовут Стефан. Мать умерла, когда ему было семь лет, имени ее Стефан не помнит. Отец на войне или в плену, а может, убит. Семнадцатилетний брат – в Тернополе. Сначала Стефан жил с братом, потом у солдат, теперь, уже полгода, в приюте. Приюты открывает городское самоуправление, руководить ими доверяют кому попало. Правительство то разрешает обучение, то запрещает. Это не интернат, а помойка, куда сбрасываются отходы войны, печальные жертвы дизентерии, сыпного тифа и холеры, унесших родителей (точнее, матерей – отцы сражаются за новый передел мира). Война – не преступление, это триумфальный марш, ликование обезумевших на пьяном сатанинском пиру.
Я спросил, хочет ли Стефан поехать со мной, – и тут же пожалел о сказанном.
– Не сейчас – я приеду за тобой в понедельник. Спроси завтра брата, позволит ли он. Посоветуйся, подумай.
Едем; луна, снег. О чем он думает? Глядит с любопытством: костел, вокзал, вагоны, мост. Бесхитростное лицо. Говорят, трудолюбив; при госпитале есть плотницкая мастерская – отдам его в обучение Дудуку.
Экзаменую: читать не разучился.
Задача по арифметике.
– Сколько тебе сейчас лет?
Вижу, не понимает, что такое «сейчас».
– Сей час? Ну как и раньше – одиннадцать.
Не поправляю.
Получил от брата пятьдесят копеек, купил пирожки с повидлом, конфеты, у нас ел холодный зельц – шедевр Пласки; вечером у него разболелся живот. Боль в области слепой кишки. Это плохо: я хотел, чтобы он ел из солдатского котла, пока не решит, останется он тут или нет. Хотел, чтобы с самого начала у него был четкий распорядок дня.
Валентий вздыхает:
– И надо вам это?
У Стефана врожденное чувство порядка: после занятий он складывает книжки стопкой, ручку кладет рядом с чернильницей. Повесил полотенце, один конец длиннее другого – поправил.
Зачем на пятьдесят копеек накупил сластей?
– А чего я буду деньги жалеть?
Это слова не его, а кого-то для него авторитетного – Назарки или Климовича (Климович красиво рисует).
– Отец вернется, – говорю я.
– Вернется – хорошо, не вернется – тоже хорошо.
Это он тоже где-то слышал. Сколько глупостей я мог бы наговорить по этому поводу: «Фу, как ты можешь… об отце…» – и т. д.
Его сейчас интересует другое:
– А зачем у зеркальца ремешки?
– Этот ремешок – для мыла, этот – для расчески, а тот – для зубной щетки.
– А эта папиросница, когда была новая, тоже с трещинами была?
– Да, это как будто крокодиловая кожа.
Совет педагогам. Когда приезжаешь в детский дом воспитателем, пусть дети смотрят, как ты в своей комнате распаковываешь багаж, пусть помогают развязывать корзины или открывать сундук, вынимать и расставлять мелочи. Завяжется разговор – о часах, о ножике, о несессере. Он поможет быстро и естественно сблизиться с детьми. Так и они сами друг с другом знакомятся. Вспомните, как часто взрослые завязывают знакомства через детей и благодаря беседам о детях – в парке, на даче. Если сказать, что нехорошо все трогать, обо всем выспрашивать, дети будут смущены, раздосадованы. Можно сказать им об этом через месяц, через три, в связи с кем-то другим, посторонним, не тобой. Вы-то уже знакомы, вы-то не посторонние.
– А сколько стоит эта папиросница?
– Рубля два-три, наверно. Не знаю, не помню, она у меня уже давно. Видишь, замок сломан, не закрывается.
– А починить нельзя?
– Можно, наверно, но мне не мешает – папиросы что так, что эдак не выпадут.
Я еще не воспитываю, я только наблюдаю и стараюсь не делать никаких замечаний, чтобы не спугнуть Стефана. И все же за эти четыре дня мне пришлось дважды его вразумить.
Первый раз. Во время урока вошел фельдшер. Я был на дежурстве – привезли больных.
– Весь день к вам лезут, – громко и раздраженно сказал Стефан.
Судя по тону и выражению лица, это явно не его слова. Так, должно быть, говорили в приюте – панна Лоня или кухарка.
– Не надо так говорить, – замечаю я мягко, когда фельдшер уходит.
– Я ведь читаю, а он лезет.
Ему странно, что в госпитале двести семнадцать больных и раненых.
– Так вы, когда дежурите, должны всех осматривать?
– Нет, я осматриваю только новеньких, чтобы какого-нибудь заразного больного не поместили к обычным.
– А правда, что корь – заразная болезнь? Когда я болел корью, так задыхался, что говорить не мог. Батя тогда дал мне выпить керосина, получшело. Он никогда к врачу не ходил, сам все знал, как лечить.
– Твой отец был умный человек, – говорю я.
– Конечно умный, – согласно кивает он.
Меня так и тянет спросить, почему же он сказал, что, если отец не вернется, тоже хорошо. Нет, слишком рано.
Второе замечание.
– Слушай, Стефек, не называй пана Валентия «Валентий», говори – «пан Валентий».
– Я и говорю «пан Валентий».
Приютская привычка выкручиваться.
Я сам виноват; теперь, разговаривая со Стефаном, всегда говорю «пан Валентий». Вопрос существенный, особенно в интернате для сирот. Сторож, судомойка, прачка обижаются, когда дети зовут их по имени. В разговоре с детьми всегда следует говорить «пан Войцех», «панна Рузя», «пани Скорупская».
Подтверждение сказанному об интернате: болезнь сближает домочадцев. Недаром и родители, и дети охотно вспоминают – по крайней мере, хорошо помнят – пережитые болезни. В интернате же болезнь – это ненужные хлопоты, она часто способствует отчуждению.
Сколько я приложил стараний, чтобы он смог писать в постели! Пришлось вытащить все из ящика, поставить чернильницу в консервную банку, которую Валентий приспособил мне под пепельницу. Под ящик с одной стороны я подложил подушку, с другой – книги. Стефан поблагодарил меня улыбкой. Интернат не может позволить себе такую роскошь.
– Удобно тебе?
– Да, – и улыбка.
На этом столе Стефан навел порядок: сбоку – книжки, в щели между досками ящика – карандаш. Тяга к порядку у него врожденная. Ситуация новая, значит не подражает – действует самостоятельно.
Теперь сидит и переписывает из букваря стишок.
– Бе-лу-ю… белую… белую…
И заканчивает – мысль напряженно работает:
– Белую руба… белую ру-ба-шеч… рубашечку.
Вздыхает.
– Белую рубашечку… Дам ей в дорогу белую рубашечку.
И все-таки сделал ошибку – написал «блелую».
– Видишь, у тебя вместо «белую» – «блелую».
Улыбается смущенно:
– Я еще раз перепишу.
– Оставь, лучше после чая перепишешь.
– Нет, сейчас.
Снова тишина, прерываемая лишь его сосредоточенным шепотом. Мрачный – видит, что снова ошибся. В первый раз я, чтобы подбодрить его, сделал вид, что не заметил несколько ошибок, но теперь – нельзя.
Как-то вечером он плохо читал и сам не понимал почему.
– Потому что ты голодный, – сказал я тогда.
Интересно, запомнил ли он.
– Как ты думаешь, почему теперь хуже вышло?
– А ежели раз не выйдет, так потом все хуже и хуже выходит.
И – с отчаянием:
– Я еще раз перепишу.
Даже покраснел, кулаки сжал.
Я поцеловал его в макушку (идиотизм), он чуть отстранился.
– Сиро… сиротинка бедная…
И как раз на самом опасном месте, там, где в прошлый раз он пропустил целую строчку, Валентий приносит чай.
– В до-ро-гу… в дорогу дам ей… дам ей в дорогу…
Валентий кладет в стакан сахар. Стефан бросает взгляд и продолжает писать.
– Ножик нашелся, – говорит Валентий.
Стефан смотрит внимательно: ножик? Какой ножик? Подпер голову руками – того и гляди вырвется вопрос; но нет, преодолел соблазн – опять сосредоточен. Валентий улыбается, я делаю пометки, вкратце записываю интересный момент, Стефан ничего не замечает. И через мгновение, торжествующе, выжидательно:
– Готово, пожалста! – и улыбка.
– Хорошо, только ты проглотил одну букву. Хочешь сам поискать?
Пьет чай, хмурит лоб, ищет пропущенную букву.
Жаль, что я не посмотрел на часы – сколько времени он писал. «Часы, часы!» – сколько раз я себе твердил и всегда забываю.
Две мысли. Первая: я столько времени работал с детьми, но не обращал внимания на улыбки. Это слишком тонкое, незаметное проявление, оно не воспринимается сознанием. Лишь теперь я вижу, что это важно и достойно изучения.
Когда он меня спросил как бы небрежно: «Я смогу поездить на лошади?» – тоже с подкупающей улыбкой, я уклонился от прямого ответа: «Теперь скользко, лошади плохо подкованы – может, летом». Дети должны знать, что их улыбка нас обязывает.
Вторая мысль. Переписывание для детей – не бессмысленное действие, напротив, оно требует больших усилий: не пропустить букву, слово, целую строчку, не написать дважды одно и то же слово, не сделать ошибку, уместить слова в строке без переноса, постараться, чтобы буквы получились одинаковыми по размеру и стояли равномерно. Кто знает, может, именно в процессе переписывания ребенок вполне постигает текст? Понятно, что творческий ум скорее устанет от пассивного переписывания. Стефан, когда переписывал, напоминал художника, копирующего шедевр великого мастера. И как жаль учителя, который этого не видел, не ощутил этих усилий, но вынужден исправлять каракули в сорока тетрадках.
Трудность чтения для ребенка – не только в составлении слов из букв, но и в незнакомых словах и грамматических сюрпризах.
Вот он читает:
– Сол… сол-н… солн… сол-н-це… – Пауза: соображает, что это значит, и быстро, бегло читает: – Сонце.
То же и в стишке:
– Э-тим поль-ским се-ре-на… (с недоверием) се-ре-на-дам… серенадам… (себе под нос, вполголоса) что за серенады… – И вслух заканчивает: – Этим польским серенадам жаворонки нас учили.
Мы, акробаты беглого чтения, умеющие по двум буквам угадать слово, а по двум словам – предложение, уже не отдаем себе отчета, какие трудности преодолевает ребенок и какими способами пытается облегчить себе этот труд.
Как-то Стефан четыре раза прочел в тексте «Франек» вместо «Фелек». Я не стал поправлять. Когда он закончил читать, я спросил:
– Как мальчика звали?
– Франек.
– Ничего подобного.
– Ну Франек же.
– Спорим, что не Франек.
Читает:
– Фра… Фре… Фе… Фелек.
– Видишь, хорошо, что не поспорил.
– Ну ладно.
– Наверное, ты знаешь какого-то Франека?
– Знаю.
– А Фелека?
– Нет.
То же самое – на арифметике. Вместо «огурцы» он дважды прочел «груши».
– Пять груш, – сообщает он мне ответ.
– Вовсе нет.
Умолкает, после минутной паузы – решительно, почти гневно:
– Именно что пять!
– Пять, да не груш.
– А чего?
– Посмотри – узнаешь.
– Гру… огру… огу… огурцов.
– Вот видишь. Слушай, Стефан, может, ты волшебник? Фелеков во Франеков превращаешь, огурцы – в груши…
Его удивление, изумление: что это, как такое вышло? – так умиляет, что я его целую.
(Абсолютно лишнее – когда же наконец я от этого отучусь?)
Непонятные выражения его злят.
Читает:
– У торговки девять яблок. Сколько яблок у нее останется, если четверо мальчиков возьмут по два яблока каждый?
Под нос, вполголоса:
– Что еще за каждый… – И вслух: – Одно яблоко.
– Две монеты… Монеты – это я уже знаю, что такое, позабыл только.
Эта, казалось бы, нелогичная фраза содержит, однако, разумную основу: если он не знает, потому что забыл, то сможет вспомнить.
На двадцатой примерно задаче предлагает:
– Я буду читать про себя и писать вам, сколько выходит в ответе.
– Хорошо, а я буду кивать, если правильно.
Не он первый мне такое предлагает. Не знаю, в том ли дело, что ребенок хочет таким образом разнообразить работу, или есть у этого желания более глубокая подоплека – потребность сосредоточиться в тишине.
Вечер
Прочитал молитву, поцеловал мне руку (эхо родного дома, разоренного войной гнезда – одного из ста, тысячи, многих тысяч).
Пишу. Лежит тихо, глаза открыты.
– Пан доктор, а правда, что если побрить голову, то волосы больше не растут?
Боится обидеть меня, прямо спросив про лысину.
– Неправда, ведь бороду бреют, а она растет.
– У некоторых солдат бороды вот такие, до пояса, как у евреев. Почему?
– Обычай такой. А англичане даже усы бреют.
– А правда, что у немцев много евреев?
– И у немцев есть, и русские евреи есть, и евреи-поляки.
– Как это – евреи-поляки? Это что же, поляки, значит, евреи?
– Нет, поляки – католики. Но если кто говорит по-польски, хочет, чтобы полякам было хорошо, желает им добра – тот тоже поляк.
– Моя мама была русинка, а папа – поляк. А мальчики по отцу считаются… А вы знаете, где Подгайцы? Мой отец оттуда.
– Сколько лет твоему отцу?
– Сорок два было, а теперь сорок пять.
– Тогда тебя отец может и не узнать – ты сильно вырос.
– Я сам-то его узнал бы.
– А фотографии у тебя нет?
– Откуда! Но есть солдаты, на него похожие.
Тихо. Вечер – время необычайной важности для ребенка. Чаще всего – воспоминания, часто тихие раздумья и спокойные беседы шепотом. То же – в Доме сирот, то же – в летнем лагере.
– Вы пишете книгу?
– Да.
– Это вы сами написали мой букварь?
– Нет.
– Так вы его купили?
– Да.
– Наверное, полтину отдали.
– Нет, всего двадцать пять копеек.
Опять тишина. Закуриваю.
– А правда, что серой можно отравиться?
– Можно. А что?
Не понимаю, куда он клонит.
– Потому что были спички, и когда солдаты шли на маневры…
Это отголосок услышанного много лет назад, почти изгладившегося из памяти рассказа отца о разновидностях спичек… Когда отец был еще холост и служил в армии, в суп попала сера – солдаты отравились.
Дальше непонятно: Стефан говорит сонным голосом, все менее разборчиво, и засыпает.
Как горячо я желал в детстве увидеть своего ангела-хранителя! Делал вид, что сплю, а потом внезапно открывал глаза. Неудивительно, что он прятался. Совсем как в Саксонском саду[6]: вроде никто не охраняет, а выбежишь за мячом на газон – тут же появляется сторож, пальцем грозит. Мне было неприятно это созвучие: «ангел-хранитель» и «охрана».
Пятый день
Дудук хвалит Стефана: трудолюбив. Я зашел в мастерскую – пилит. Сил моих нет на это смотреть: доска ездит туда-сюда, пила тупая, прыгает, того и гляди руку поранит. Но я молчу. Какой смысл советовать быть поосторожнее? И так ведь непрестанно: «Не выходи босиком во двор», «Не пей сырой воды», «Тебе не холодно?», «Живот не болит?». Вот это-то и делает наших детей эгоистами, развращает их и оглупляет.
Из мастерской Стефан вернулся в шесть.
Не хочет ехать в воскресенье в Тернополь.
– Зачем? Неделя прошла – и снова ехать? А пан Валентий тоже с нами поедет? Мы там долго будем?
Не хочет писать брату письмо.
– Я же его увижу.
– А вдруг дома не застанешь?
– Ну ладно, давайте.
– С чего начнешь письмо?
– Слава Иисусу.
– А дальше?
– Почем я знаю?
– Напишешь, что хворал?
– Нет!
Я еле удержался от ехидного вопроса: «Ну а про пирожки с повидлом и зельц?»
Письмо короткое: я работаю в столярной мастерской, работа мне нравится, пан доктор учит меня читать и считать, можешь за меня не беспокоиться.
– Как подпишешь?
– Стефан Загродник.
– А может, напишешь: «Обнимаю тебя»?
– Не-е, не надо.
– Почему?
Шепотом:
– Я стесняюсь.
Предлагаю ему:
– Сам перепишешь начисто или сначала я, а потом уже ты – с моего листка?
Даю бумагу и конверт. Два раза начинал – не вышло. Столько бумаги перепортил. Ладно, завтра перепишет с моего листка.
Полтора часа без перерыва решали задачки по арифметике.
– Хватит, может?
– Нет, до конца страницы.
Кто знает, не является ли задачник лучшим пособием для упражнений в чтении? Задачки, загадки, шарады, шуточные вопросы: ребенок не только должен – он хочет понять. А впрочем, не знаю, – может, и нежелательно такое раздвоение внимания. Во всяком случае, на сегодняшнем уроке задачки вытеснили и заменили чтение.
– Вы сколько папирос курите – небось штук пятьдесят?
– Нет, двадцать.
– Курить вредно; один мальчик подул на бумагу, и бумага стала вся желтая. Когда в папиросе вата, она дым задерживает.
– А ты уже когда-нибудь курил?
– Почему бы и нет?
– В приюте?
– Нет, когда с братом жил.
– А где брал?
– Ну если на столе лежали или на шкафу… А у вас голова кружится?
– Пожалуй, немного кружится.
– И у меня кружилась… Я не хочу привыкать курить.
Пауза.
– Правда, что, когда будет тепло, поедем на лошадях?
Для него это важно – он помнит обещание.
– Лучше, чтобы нам не пришлось ехать, лучше остаться на месте.
– Нет, я думал – в Тернополь.
– Лошади боятся автомобилей.
– Ну и что, коли понесет немного…
– А если на дыбы встанет?
Я рассказываю, как под Ломжей лошадь едва не свалилась в глубокий овраг.
Стефан ложится спать. Я завожу часы.
– А правда, что есть часы, которые заводятся туда-сюда?
Показываю, что мои часы тоже заводятся «туда-сюда».
Принимаюсь писать – надо привести в порядок свои заметки.
– Пан доктор, я взял новое перо – то бумагу царапало.
– Быстро испортилось, потому что ты чиркал им по столу, кончик затупился о дерево.
Только сейчас, мимоходом, я указал ему на оплошность. Не раз убеждался, что такие замечания куда эффективнее.
Тишина…
– А почему вы столько листков порвали?
Объясняю, что такое записи на скорую руку, как их потом обрабатываю.
– Например, я записал о больном: кашель, температура. А потом, когда появится время, опишу все подробно.
– Моя мама кашляла, плевала кровью; был цирюльник, сказал – ничего не поделаешь. А потом мама ходила в больницу, пока не умерла.
(Вздох, потом зевок. Вздох – это подражание: принято вздыхать, вспоминая об умерших.)
Шестой день
Наскоро выпив чаю, он побежал в мастерскую. В обед мелькнул на мгновение – вернулся в шесть.
Я начал очень интересный эксперимент: смотрю по часам, сколько секунд он читает рассказ, отмечаю, сколько сделал ошибок; исправляю не во время чтения, а после. Стефан читает дважды: первый раз – четыре минуты тридцать пять секунд и восемь ошибок, второй раз – три минуты пятьдесят секунд и всего шесть ошибок.
Ссора из-за лошади. Мы играем в шашки. В приюте были мальчики, которые хорошо играли, но с ним не хотели: «Кто ж со мной будет, коли я не умею?» Однако Стефан набрался от них манер завзятого игрока: перед тем как сделать ход, перебирает в воздухе пальцами, потом, словно ястреб, кидается на шашку противника, причмокивает, небрежно толкает ее ногтем, пренебрежительно выпячивает губы, корчит презрительные мины. Такие ужимки и у хорошего игрока неприятны, что уж говорить о плохом (иной раз, чтобы подбодрить Стефана, я сам предлагаю ничью).
Играем. И вдруг:
– Пожалуйста, поезжайте завтра поездом, а мы с Валентием – верхом.
– Глупенький, ты что же думаешь, лошади у нас для того, чтобы кататься? А впрочем, можешь попросить полковника.
– А он даст?
– Фигу даст.
– Ладно, ходите.
Говорит раздраженно. Начинает жульничать, решив любой ценой выиграть – отомстить.
– Э-э, куда вы пошли… Ну давайте же скорее… Ишь какой вы умный…
Я делаю вид, что не обращаю внимания, но играю сосредоточенно, чтобы, несмотря на его жульничество, выиграть и наказать его.
– Вот увидите – проиграете.
– Это ты проиграешь, потому что играешь нечестно, – говорю я спокойно, но твердо.
Если подчиниться воле ребенка, само собой возникнет неуважение. Надо отстаивать свой авторитет поступками, без нравоучений.
Доска почти пустая. Я наношу Стефану чувствительный удар: он теряет дамку.
– Не умею я дамками играть, – говорит он, смирившись.
– Ты и недамками пока не умеешь, но обязательно научишься.
Когда я мыл руки, он поливал мне из кружки, подал полотенце, сказал, чтобы я пил чай, а то остынет. Не произнеся ни слова, я продемонстрировал свою обиду, а он очень деликатно извинился за недобрые чувства в мой адрес.
В этом конфликте из-за лошади, кроме гнева, ощущалось еще и неуважение. Откуда оно взялось, где его источник? Быть может, в моем: что ты хочешь – считать? читать? писать? Может, это его раздражает. Дети любят, когда их слегка принуждают: легче бороться с внутренним сопротивлением, экономятся усилия – не нужно выбирать.
Принятие решения – изнурительный труд, добровольный отказ при повышенной ответственности за результат. Требование обязывает только внешне, свободный выбор – внутренне. Тот, кто предоставляет ребенку право решать, или глуп и не разбирается, или ленив и не хочет.
Откуда это – еще совсем легкое – облачко пренебрежения? Я даю ему баранки, сам ем черный хлеб. Уже дважды он уговаривал меня взять баранок, но себе выбрал те, что получше, румяные: никто его не учил лицемерию этих крошечных светских жертв, которые призваны продемонстрировать готовность к настоящим, большим жертвам.
Эта мелочь, пустяк, который я назвал ссорой из-за лошади, – свидетельство того, что я добился своей цели: мальчик осмелел, теперь я могу исподволь начать его воспитывать. Собираю материал для такого разговора…
Вечером я осматриваю его грязную рубашку: разумеется, вошь.
– Что там? (В голосе беспокойство.)
– Вошь.
– Это потому, что в приюте простыни не меняли. Одеяла такие грязные!
– Ничего страшного, больше вроде нет. А почему не меняли простыни?
– Не знаю, наверно, им стирать не хотелось.
Первый разговор о приюте.
– Санитаров ребята не боятся, а солдата боятся… Нет, солдат тоже не бьет, потому что бить нельзя – воспитательница бы заругалась. Иногда только раскричится и ремнем хлестнет, но бить не бьет.
– А тебе доставалось?
– Ну понятное дело.
Вот так вот: не бьют, но бьют. И все же Стефан прав: не бьют – не полагается бить; солдат кричит, грозится, наверное, – и редко, в исключительных случаях, втихаря, стеганет ремнем.
Раньше я посмеивался над этим мнимым отсутствием логики. Перестал посмеиваться года три назад, когда Лейбусь сказал:
– Я очень люблю кататься на лодке.
– А ты когда-нибудь катался?
– Нет, никогда в жизни.
Это разве что неточно выраженная мысль, но не отсутствие логики: он уверен, что кататься на лодке приятно.
Седьмой день
У Чекова были гости; карты. Поздний ужин. Валентий дежурил по столовой. Злой, выхожу около полуночи. Возвращаюсь в избу, зажигаю лампу. Стефана нет. Что за черт! Выхожу, в дверях сталкиваюсь со Стефаном.
– Где ты был?
– На кухне. Я несколько раз выходил, смотрел в окно – вы сидите. Наконец гляжу – нету. Я так бежал, хотел вас догнать.
– Боялся?
– Да чего бояться-то?
Нет, не боялся. Ждал, высматривал, бежал, чтобы вместе.
Два года я не видел никого из своих, полгода назад – письмо, короткое, измятое, случайно прорвавшееся сквозь кордон штыков, цензуры и шпионов. И вот я опять не один.
Я испытал чувство безграничной благодарности к этому ребенку. Ничего в нем нет особенного, притягательного, ничто не привлекает внимание. Простое лицо, нескладная фигура, посредственный ум, неразвитое воображение, никакой душевной тонкости – ничего такого, что составляет детское обаяние. Но этот незаметный ребенок, словно неприглядный кустик, – голос природы, ее извечных законов, Бога. Спасибо тебе, вот именно такому…
«Сынок», – думаю я с нежностью.
Как поблагодарить его?
– Послушай, Стефек, если у тебя есть вопросы, или что-то докучает, или хочется чего-нибудь – скажи мне.
– Не люблю я надоедать.
Объясняю, что это не так.
– Если нельзя, я так и скажу, объясню. Вот как с лошадью – на лошадях возят дрова, хлеб, больных…
– Я хочу, чтобы вы мне баранок принесли.
– Ладно, будут тебе баранки.
Как раз сегодня кончился запас, который я хранил на случай диеты.
Мы поехали в Тернополь на санях. Стефан какой-то грустный. Ни одного детского возгласа – из тех, что побуждают нас разглядеть то, что мы перестали замечать, и вспомнить то, что когда-то видели так явственно.
Стефан собирался с Валентием в костел, потом он должен был идти к брату, а Валентий – за покупками. Я хотел поискать окулиста – вроде бы он есть в одном из военных госпиталей. Встретиться договорились в приюте.
По дороге Стефан несколько раз менял решение: сначала в приют; нет, сначала к брату; нет, лучше он с Валентием пойдет.
В приюте его подозвала воспитательница: он как-то странно оцепенел, на вопросы отвечал с тупым видом, тихим, равнодушным голосом.
Только когда мы вышли, я понял, почему он не хотел ехать в Тернополь, почему в пути был невесел, почему, как только я вышел из кабинета воспитательницы, поторопил меня: «Ну идемте уже!»
Стефан боялся, что я его там оставлю.
Нужно купить чайник.
– Я пойду с паном Валентием: я знаю, где продается.
Вынимаю кошелек.
– О, Валек (не пан Валентий) получит десять рублей, и мы пирожных купим…
Этот его задорный тон должен означать: «Вовсе я не боялся, я знал, что вы меня там не бросите…»
Удивляет, как неохотно он говорит о брате. Не понимаю почему. Не хочет, чтобы я встретился с братом, – но в чем тут дело?
Читает – закончил.
– Сколько я сделал ошибок?
– Угадай.
– Пять?
– Нет, всего четыре.
– Это на две меньше, чем в первый раз.
Прочел неверно и сразу поправился, сам.
– Это вы тоже посчитаете?
Один и тот же стишок в первый раз читал двадцать секунд, во второй – пятнадцать, в третий – тоже пятнадцать.
– А еще быстрее нельзя?
Старается читать быстро:
– Страх… стра… ста… старушка…
И поскорее переворачивает страницу, чтобы не терять время.
Стихотворение «Висла» вчера читал три раза, сегодня – четыре; результат чрезвычайно любопытен.
Вчера: 20 секунд, 15 секунд, 11 секунд.
Сегодня: 11 секунд, 10 секунд, 7 секунд, 6 секунд.
Стихотворение «Сиротка» – то же самое.
Вчера: 20 секунд, 15 секунд, 15 секунд.
Сегодня: 15 секунд, 12 секунд, 10 секунд.
Достигнутый во вчерашнем третьем чтении результат полностью сохранился.
Записываю в виде дроби: числитель – число секунд, знаменатель – число ошибок. Итак, 24/3 – двадцать четыре секунды, три ошибки. Так я оцениваю время работы и ее качество: отметки по чтению теперь не нужны.
Читая, Стефан споткнулся на слове «лестница» – потерял много времени и остановился.
– А-а, все равно долго получится.
Валентий заметил:
– Это как с лошадью: зацепится за что-то – и ни с места.
Я позволил Стефану начать заново.
Восьмой день
Вчера я писал о детских возгласах, которые побуждают нас вновь увидеть то, что мы перестали замечать. Вот несколько примеров.
– У-у, гляньте, какая печать на чае!
(Когда он положил сахар, на поверхность всплыли пузырьки воздуха.)
– Вы сколько кусочков сахара положили?
– Один.
– А вон, смотрите – два!
(Стакан граненый.)
Ест баранку.
– Из чего мак делают?
Я:
– Мак растет.
– А почему он черный?
– Потому что созрел.
– Правда внутри у него стенки и в каждой такой стенке понемножку?
– Гмм.
– А со всего сада наберется целая тарелка мака?
Его представление о саде складывается из четырех-пяти образов, мое – из сотни, тысячи. Это очевидно, но лишь заданный Стефаном вопрос заставил меня задуматься. Здесь кроется источник многих, на первый взгляд нелогичных, детских вопросов. Поэтому нам так трудно столковаться с детьми – они, употребляя те же слова, что и мы, вкладывают в них совсем иное содержание. Мои «огород», «отец», «смерть» – не его «огород», «отец», «смерть».
Отец-врач показывает пулю, извлеченную из раны во время операции.
– Тебя, папочка, такой же пулей убьют? – спрашивает восьмилетняя дочурка.
Деревня и город тоже не могут понять друг друга – как хозяин и раб, сытый и голодный, молодой и старый и, наверно, мужчина и женщина. Мы только делаем вид, что понимаем друг друга.
Стефан всю неделю равнодушно смотрел, как его ровесники катаются на санках со всевозможных горок и пригорков. Такой соблазн, а он работает с плотниками. До обеда делал с Дудуком кровати для больных, а вечером явился с санками.
– Я только два раза.
– Именно два? Не три? – спрашиваю недоверчиво.
Улыбнулся, умчался. Долго его не было. В избе пусто и тихо; для меня загадка, отчего Валентий, который по-прежнему ворчит из-за лишних хлопот, дважды принимался звать его домой. Может, тоже привык к нашим вечерним занятиям.
Вернулся, сел – ждет.
– Санки хорошие?
– Не обкатались еще.
Я задал нейтральный вопрос, ничем не показав, что всей душой на его стороне, что полностью прощаю ему опоздание – не ему, а этому румянцу и здоровому жизнерадостному воодушевлению. Он понял и решил воспользоваться ситуацией: вопросительно глядя на меня, протянул руку к шашкам.
– Нет, сынок.
Без тени протеста – наоборот, с удовольствием – взялся за книжку. Мне показалось, что уступи я – он был бы разочарован.
– Только без часов, – говорит он быстро.
– Почему?
– Когда часы, кажется, будто кто-то над тобой стоит да погоняет.
Читает. Так он еще не читал. Это вдохновение. Я удивлен – ушам своим не верю. Не читает, а скользит по книге, как на санках, удесятеренным усилием воли преодолевая препятствия. Весь неизрасходованный спортивный азарт перенес на учебу. Теперь я уверен, что поправлять ошибки при чтении бессмысленно: он меня не замечает и не должен замечать – он один на один со своей неукротимой волей.
6
Саксонский сад – один из старейших парков в центре Варшавы.