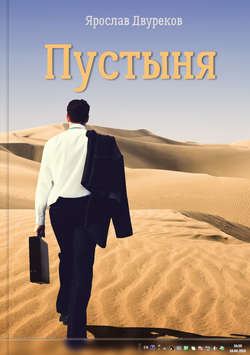Читать книгу Пустыня - Ярослав Двуреков - Страница 4
Татьяна Шустова
ОглавлениеНа самом деле Татьяна вошла в мою жизнь почти пять лет назад. Ворвалась, как резкий и неожиданный порыв свежего ветра. Вбежала в фойе университета, громко хлопнула дверью, едва не сшибла меня с ног и спросила: «Где читает профессор Шустов?» В неё нельзя было не влюбиться с первого же взгляда! Она была восхитительна: голубые бездонные глаза, волна светло-русых волос, милое, чуть раскрасневшееся от бега лицо. Стройная и гибкая, она, подобно пущенной стреле, с быстротой молнии разила в самое сердце. В каждом её движении было столько энергии и в то же время плавности и девичьей грации, что я, опешив от натиска сего прелестного создания, запнувшись, ответил, что не знаю, но могу уточнить по расписанию, и готов немедленно проводить. Но в ответ получил лишь короткое: «Спасибо, не беспокойтесь». Через мгновение этот ангел растворился в толпе студентов, в пересечении десятков восторженных взглядов: «Внучка Шустова?» – «Нет, это его дочь, Татьяна» «Любопытно, что у этого мрачного типа такая симпатичная дочь», – пролетело в толпе.
Татьяна Шустова. Я пропал! Напрасно я до вечера топтался на крыльце в надежде увидеть её ещё раз, она так и не появилась. Исчезла без следа. Профессор читал какой-то специальный факультативный курс и вскоре уехал куда-то в провинцию. На что я надеялся и на что рассчитывал – сам не знаю. Но увидеть её ещё раз стало навязчивой, бесплодной идеей.
Полгода назад я неожиданно встретил Татьяну во время одной из множества моих бесконечных служебных поездок, в аэропорту. Из-за нелётной погоды мой самолёт на полпути развернули и посадили в заштатном городке, во глубине нашей необъятной Родины. Когда я выбрался в здание аэровокзала, выяснилось, что в такой же ситуации оказались пассажиры ещё нескольких рейсов, причём как прямых, так и обратных, видимо, по причине какой-то редкой природной аномалии, тотальной непогоды, охватившей, по меньшей мере, половину континента. Нас высадили «по метеоусловиям» и, неуверенно пообещав вылет через два часа, предоставили самим себе, точнее, передали в цепкие лапы ненавязчивого местного сервиса. При этом погода портилась на глазах, и возникали сомнения, что мы выберемся отсюда до весны.
Аэропорт находился в чистом поле, до города – минут сорок на автобусе, но ехать туда, в общем, незачем. Беглый осмотр архаичного аэровокзала не добавил хорошего настроения. Заурядное строение наивной исчезнувшей эпохи. И дело даже не в архитектурных решениях, стилистике однообразных типовых построек, бережно сохранённых вследствие отсутствия ремонта и реконструкции, а в самом духе сооружения. Состарившийся и отставший от жизни дух этого чертога носился гулким эхом под сводами неуютного здания, передразнивал объявления диспетчера по радио и громкие звуки разной природы, производимые пассажирами. Здание освещалось люминесцентными лампами, с пожелтевшими и заляпанными побелкой плафонами, и мутным, болезненно-серым светом с улицы, пробившимся сквозь грязные, в потёках и разводах окна. Тоска, граничащая с глухим раздражением. Но злиться из-за, в конечном счёте, непогоды – глупо. Ещё одним неприятным сюрпризом стало то, что мобильная связь не работала. Единственным средством коммуникации с внешним миром были таксофоны, для звонка с которых нужны специальные восьмиугольные жетоны. Но и наличие жетона (я купил несколько штук) не гарантировало соединения.
После того как истекли обещанные два часа и вылет снова отложили, я отправился дышать воздухом и знакомиться с провинциальными достопримечательностями. Но причуды погоды, злая колючая метель и скудный пейзаж не слишком располагают к праздным прогулкам, так что занятие это мне быстро наскучило; я утолил свою потребность в холодном воздухе и хождении по сугробам, промочил ноги и отправился пить кофе в ресторан на втором этаже.
За окнами во всю стену – бесконечное заснеженное лётное поле и неподвижные самолёты, поставленные в ряд, как сонные лошади в стойло. Даже машины, расчищавшие от снега взлётные полосы, признали своё поражение перед стихией и исчезли из виду. Унылая картина. Метель усилилась, солнце растворилось в облачной пелене. Сумрачно и неуютно. Надежда выбраться из этой западни таяла, как кусок рафинада на дне кофейной чашки. Я стал думать, что больше не люблю самолёты и впредь буду преодолевать пространства под стук колёс. Медленно, но верно. И тут же поймал себя на том, что это всего лишь пустая фантазия, вызванная непогодой и желанием забраться под одеяло на верхней полке пустого купе и, наконец, выспаться. Но для меня это непозволительная роскошь: четыре часа перелёта – это трое суток в шатком и гулком вагоне. Три дня, потраченные менеджером на дорогу в один конец, наносят весомый ущерб производительности труда и прибыли акционеров, что, в свою очередь, не лучшим образом скажется на бонусе упомянутого выше наёмного работника, то есть меня.
Я закурил, заказал ещё кофе и стал ждать, глядя на сизую струйку сигаретного дыма. Постепенно окружающий мир потерял очертания и цвет, стал мутным и расплывчатым. Остались только дешёвая фарфоровая пепельница с аэрофлотовским вензелем, тлеющая сигарета и полупустая чашка холодного кофе на некогда белой скатерти. Натюрморт. Попытка использовать паузу, относительную тишину и одиночество, чтобы предаться размышлениям, не удалась. Думать ни о чём не хотелось. Понимание, что не выбраться и ничего не изменить, как метелью, замело мысли безвольной, сонной пеленой.
– Можно? – некто подошёл к моему столику.
– Пожалуйста, – ответил я машинально и тут же пожалел об этом. Поднял глаза. Окружающая действительность снова приняла мучительно чёткие очертания. У меня появился сосед, такой же неудачливый путешественник. Рослый, богатырского телосложения, но, скорее всего, добряк и балагур, и, наверняка, мой ровесник.
– Застряли мы, похоже, надолго. Кофе, пожалуйста! – он сделал заказ, не теряя времени.
– Очевидно, – я жалел об утраченном одиночестве и не собирался поддерживать неизбежную беседу.
– Часто летаете? – он попытался продолжить диалог в надежде скоротать время за пустым разговором.
– Приходится, – мои ленивые односложные ответы должны были дать ему понять, что из меня едва ли выйдет приятный собеседник.
– Я вот на родину, – он не отреагировал на мою холодность, – а вы?
– По службе.
– «По службе» – значит, что вы военный? – он посмотрел на меня внимательно, изучающе.
Я счёл это, как минимум, нахальством, а то и вызовом. Он оценил моё настроение и, чтобы замаскировать свой откровенный взгляд, несколько секунд рассеянно смотрел в окно. Хотя пейзаж там не менялся последние лет сто и вряд ли изменится в ближайшие двести.
– Нет, это я так, фигурально… Я – гражданский. Командировочный.
– У вас располагающая внешность, вы человек с виду мягкий, но в вас чувствуется стержень, целеустремлённость; есть сила воли и верность своим убеждениям. Всё это и ваше «по службе»… я и подумал, что вы – военный. Хотя теперь я вижу, что это не так. Вы неглупый человек, но, скорее всего, склонны распыляться, вы легко загораетесь, но тяжело справляетесь с рутиной, в вас есть и типичная интеллигентская леность, и некоторая непоследовательность, и толика эгоизма, но, в целом, вы добрый и надёжный человек.
«Какой наблюдательный…» – подумал я не без сарказма. Три фразы и беглый взгляд – и готов психологический портрет первого встречного? Аккуратный, ненавязчивый комплимент, и собеседник – твой. Здоровяк обучен устанавливать коммуникации и располагать к себе людей, но я всё ещё был раздражён его появлением и участием в эпизоде, который, как я надеюсь, скоро закончится и не оставит в памяти своих снежных следов. Я пропустил слова моего визави мимо ушей и подумал, что он, может быть, из какой-нибудь секты, там учат окучивать зевак по методикам внешней разведки.
Он замолчал, словно собираясь с мыслями. Всё ясно, сейчас начнёт: «А вы читаете Библию?»
Однако он вовсе не собирался осыпать меня комплиментами или вербовать в секту, а продолжил свои наблюдения вслух: «Вы – как это сейчас называют – «менеджер», так?» «Менеджер» прозвучало слегка (впрочем, справедливо) пренебрежительно. Я кивнул и подумал, что такого рода наблюдения ничего не стоят: я обозначил себя гражданским командированным, костюм, рубашка, галстук и кейс хорошей тонкой кожи – явно не атрибуты нефтяников-вахтовиков, равно как и людей творческих профессий, туристов и иных пассажиров, остаётся что? – правильно, «менеджер». Вот и вся история с географией. Под определение «менеджер» можно подвести треть работоспособного населения планеты.
– Вы очень занятой человек и сейчас нервничаете, – он снова смотрел мне в глаза, как будто проникая в сознание помимо моей воли. – Вы очень напряжены и неважно себя чувствуете, из-за того что вынуждены бездействовать и не можете управлять ситуацией. Расслабьтесь! У вас подрагивают руки и взгляд уставший, и я знаю, что вы мне сейчас скажете, – тон его изменился. Он говорил тихо и даже как-то ласково, как сказывают сказку или учат уму-разуму ребёнка. – Не сердитесь и простите, если вас это задевает. Профессиональная привычка… Никак не могу избавиться от подобных наблюдений. Не сжимайте кулаки, вам ничего не угрожает. Хотите, сменим тему?
«Задевает?! Меня успокаивают, как глупого малыша, и объясняют, в чём моя проблема! Да, я устал и хочу скорее покинуть этот Богом забытый город. Да, я нервничаю, потому что теряю время. Но это никого не касается. Тоже мне, доктор Юнг. Карл Густавович! Я не ищу участия или срочной психологической помощи. Никого не трогаю, никому не мешаю. Потому и сижу один в почти пустом ресторане», – я начал раздражаться и едва сдержался, чтобы не вспылить и не высказать это в лицо.
– Я врач, правда, бывший, – он как будто прочитал мои мысли и, словно оправдываясь, виновато взглянул на меня. – Психиатр… Ушёл из клиники… Главный отправил в отпуск. Я неплохой, как говорят, доктор, считаюсь подающим надежды. Но я взял расчёт. Может быть, подамся куда-нибудь в деревню фельдшерить.
– Что так? – я пытался сохранить дистанцию и не переходя зыбкой грани минимально необходимой любезности, тем не менее, не лить воду на мельницу обычных дорожно-ресторанных разговоров.
– У меня умер больной. Покончил с собой. Недосмотрели мы… Я недосмотрел. После этого я ещё два месяца приходил в клинику, но работать толком не мог. И ушёл. Не подумайте, я не слабак и не трус. Не идеалист. Я понимал, на что иду, когда поступал в медицинский и после, при выборе специализации. Я знаю, что большинство психических заболеваний полностью неизлечимы. Я могу видеть страдания и, не впадая в депрессию и сантименты, стараться облегчить их, помочь любому. Вот только встретить смерть пациента оказался не готов.
– Я думал, у врачей стойкий иммунитет к подобным случаям, – я закурил и посмотрел ему в глаза.
Он без труда выдержал мой долгий взгляд и ответил: «Я тоже».
Принесли кофе. Я чуть расслабился, но ситуация по-прежнему напрягала. Не хватало мне ещё заделаться практикующим психоаналитиком и начать врачевать израненные души… э… не самых успешных психиатров. Я начал злиться, что позволил разговорить себя незнакомцу, пусть и специалисту в этой области. Единственное, что его извиняло – это его вид, растерянный и беззащитный при внушительной внешности. Меня ничто не извиняло. Я попытался вернуть уходящее раздражение, чтобы без печали избавиться от доктора, изгнать его или уйти самому. Не вышло.
– Меня зовут Андрей Волков.
Я кивнул: «Угу, очень приятно. Меня – Александр. Можно Алекс».
– А его – Август Второй8.
– Кого? – я оглянулся, следуя направлению его взгляда. Но за моей спиной была только выкрашенная светлой краской стена ресторана.
– Моего пациента. Интересный был человек, музыкант. Многосторонняя личность. Какой-то стремительный и лёгкий, что ли. Светлый. Сочинял музыку: то ли поп-арт, то ли пост-рок – в общем, что-то электронное. Я в этом ничего не понимаю. Писал инструментальные пьесы, участвовал в качестве композитора в хореографических постановках. Собирался написать книгу – я видел несколько набросков, любопытно. Потом он запил, хотя с алкоголем всё быстро уладилось; много работал, плюс какие-то неурядицы в личной жизни, вновь обретённая и вновь утраченная навсегда первая любовь. Был в его жизни ещё какой-то мистический старик, разгонявший злых духов и оберегающий наш мир. В общем, яркая, но короткая жизнь, прерванная безумным поступком при попустительстве врачей. Когда-нибудь и, может быть, в приступе графомании изложу эту историю на бумаге, если к мемуарному возрасту сам не выживу из ума… Считается, что абсолютно здоровых людей не бывает, особенно в нашей области… – он вздохнул и умолк.
– Понятно…
Я умолчал о том, что о жизни творческих (или считающих себя таковыми) людей я немного осведомлён. Действительное или мнимое безумие, надрыв, резкие движения, красивые жесты, эпатаж, гипертрофированный индивидуализм – элементы модус вивенди этого общества. Иногда игра в безумца в сочетании с препаратами и практиками расширения сознания приводят к неожиданному, но вполне логичному результату: после многократных «расширений» сознание сужается, схлопывается, и безумие из игры становится реальностью.
– У Августа была навязчивая идея. Он всё искал способ уйти от контроля, прятался от кого-то, преследовавшего его. Искал какую-то дверь. Он вообще был одержим идеей дверей. В одни нужно входить, другие – не запирать. Панически боялся воды, особенно незадолго до… гибели.
– И что, он нашёл свою дверь?
– Он не был карикатурным клиническим идиотом, косматым, мычащим и пускающим слюни, и не мнил себя Наполеоном. Он искал, как и все мы, ответы на вечные и, в общем, простые вопросы: для чего и как мы живём? куда идём, и каков путь, ведущий к истине? что есть эта самая истина? где граница правды и лжи? – старался найти первородную, первоначальную суть вещей и явлений, составляющих наш мир. Но в итоге ушёл совсем в другом направлении. Символическую дверь ищут все, каждый – свою. Одним нужна дверь, чтобы открыть её, другим – чтобы укрыться за ней.
– Да, простые вопросы, повседневные, можно сказать… – я скрыл улыбку, отхлебнув остывшего кофе.
– Не разделяю вашего сарказма, так или иначе об этом задумываются все. Рано или поздно. А ответы очень просты. Они просты, как солнечный свет, как капля воды или крик птицы, но лежат в иной плоскости. Август слишком углубился в детали и точки зрения на предмет, пошёл по кругу, потеряв конечную цель, сделал сам поиск смыслом поиска. Но, мне кажется, он был близок ко многим ответам…
– И всё-таки ваше обобщение мне кажется преувеличением. Не все жаждут сокровенного знания и привилегии входа в потайные двери. А некоторые, напротив, случайно наткнувшись на клад истины, зарывают его ещё глубже и бегут не оглядываясь. Почти три тысячи лет человечество живёт с аксиомой: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». Богу – Богово, поэту – поэтово, человеку – человеково. Не влезай – убьёт! Вот и Августу вашему не поздоровилось.
– Вы зря улыбаетесь, – довольно жёстко произнёс он, хотя я вовсе и не думал улыбаться, моя гримаса, скорее, нервное проявление. – Август вовсе не был сумасшедшим. Некоторые симптомы шизофрении, параноидальный синдром: страхи, голоса, мания преследования, определённые проблемы с идентичностью, нестандартное отношение к окружающему… В то же время он почти постоянно отдавал себе отчёт в том, где и в связи с чем находится, да и дело шло на поправку. У него было своеобразное чувство юмора. А потом… Так глупо и неожиданно всё случилось. Он, знаете, – тут доктор вдруг сам улыбнулся, хотя минутой раньше весьма нервно реагировал на мой более тик, чем оскал, – говорил, что психиатрия – это не медицина, а статистика, и всё дело в том, что нормальным априори считается большинство.
– По поводу большинства – абсолютно согласен, – я сделал совершенно серьёзное выражение лица, чтобы не заводить Андрея. Уровень его адекватности мне неизвестен, а вот весовая категория не в мою пользу. Он сам предупредил насчёт абсолютно здоровых. Надеюсь, шизофрения не передаётся воздушно-капельным путем?
– Да не в юморе дело. Вовсе нет. Временами он был вполне адекватным, выказывал подвижный и тонкий ум, что для шизофреников нехарактерно. Это всех и ввело в заблуждение.
Симптомы как бы мерцающие, непостоянные. Терапия была достаточно мягкой, опасности ни для кого он не представлял. Только для себя, – Андрей оправдывал то ли Августа, то ли себя. – Вам, наверное, не интересно? Всё, закрыли тему. Простите. Дверь заперта.
– Как вам угодно, – я подумал, что если теперь моя очередь поддерживать разговор, то в нашей ситуации за благо было бы вернуться к теме погоды. Неисчерпаемо и нейтрально. Хотя, может быть, какой-нибудь анекдот (я, увы, не спец по этой части) или армейская история (за неимением собственного опыта также, увы мне) могли бы разрядить обстановку. И, неожиданно для самого себя, вместо предполагаемой метеорологической темы вернулся к закрытой Андреем: «Интересное имя Август, да ещё второй. Октавиан… Что-то античное, латинское, императорское». Я предпринял честную попытку выказать своё неотрицательное отношение и непосредственно к покойному, и опосредованно к Андрею.
– А, вы про имя, – он улыбнулся – нет, к императорским амбициям Август отношения не имеет. Это вроде псевдонима, ну, знаете, у артистов так принято… Я думаю, здесь что-то календарное…
«Душевнобольные называют себя именами императоров, великих учёных или писателей тире художников. Интересно, лет через сто, в самом начале двадцать второго века, найдётся хоть один сумасшедший, кто назовётся моим именем? Это своего рода признание, и его надо заслужить. И какие новые категории людей дадут свои имена следующим поколениям обитателей жёлтых домов? Известные бандиты и звёзды «мыльных опер»? Мельчает человечество…» – вихрем пронеслось в моей голове. Я окончательно смирился с присутствием Андрея и почти простил ему вторжение в моё неудавшееся одиночество. Потолкуем. А завтра и не вспомним друг друга. Тоже вариант.
– Хотите коньяку?
Он проигнорировал мой отрицающий жест и заказал два «по сто» и лимон, зачем-то сразу же оплатив заказ.
– Я вообще-то не пью, – Андрей в несколько крупных и шумных глотков выпил свой коньяк. – То есть раньше не пил, – он закусил кружком лимона и по-детски скривился.
Я ограничился тем, что бросил лимонную дольку в кофе. Я не привык пить коньяк в первой половине дня, залпом и по полстакана. Мой собеседник спросил у меня сигарету, заказал себе ещё коньяку и о чём-то глубоко и как-то картинно задумался. Может быть, он снова переживал всё случившееся. А может быть, это просто действие алкоголя. Андрей заметно расслабился, перестал суетиться, его, как говорят, «отпустило». Его движения стали плавными, плечи расправились. Он подпёр кулаком щёку, от чего один глаз его превратился в щёлочку. Андрей даже как-то мечтательно улыбнулся, или это только ухмылка? Я не доктор, и вникать в чужое подавленное состояние мне не хотелось. Своего достаточно. Он закурил и закашлялся. Медленно смял сигарету в пепельнице. Я подумал, что сейчас услышу: «И не курю».
Мы замолчали. Разговор стих и рассеялся, как дым от погашенной сигареты. Андрей ждал, что я продолжу беседу. Хорошо, когда кто-то незнакомый, и оттого беспристрастный, поможет неожиданным советом или оценит ситуацию свежим, непредвзятым взглядом. Хорошо, когда этот посторонний оказывается на одной с тобой волне только сейчас, сию минуту, в краткое мгновение душевного унисона. Хорошо, когда ваше дорожное знакомство вот сейчас, в течение одного перегона между станциями, перелёта между двумя городами, или пока не объявят каждому свой рейс в разных направлениях, будет исчерпано полностью, до дна, без остатка и продолжения, мыслей и душевных терзаний. Если повезёт (а это, как правило), останутся приятные воспоминания и искренняя благодарность за участие или дельный совет, если даже память не удержит имя попутчика, мелкие детали и прочие обстоятельства времени и места.
Дорога как путь, путешествие – особое состояние. Путник лишён давления и поддержки привычного окружения, людей, вещей, мыслей, он открыт и восприимчив; оставленная по ту сторону порога ежедневная суета высвобождает время, даёт возможность поразмышлять, глядя на меняющийся ландшафт вдоль покоряемого пути. И не важно, что ты видишь: мелькающие за окном поля, лес или города, или носки собственных башмаков, поочерёдно отталкивающих назад пыльные вёрсты просёлка. Путник – это особое агрегатное состояние человека. Христианская традиция даже освобождает путника от обязательства соблюдать пост. Дорога, так же как пост, требует душевных сил, упорства и веры и очищает, как молитва и причастие. И не важно, куда и зачем идти: чтобы постичь, узнать или принести весть; чтобы приблизиться или скрыться; выполнить долг или уйти от расплаты.
Впрочем, у путешествующих по маршруту крашеной карусельной лошадки к целям, определённым контрактом, прелесть и свежесть дорожного просветления притупляется, а лёгкий неспешный шаг пилигрима со временем вырождается в тяжёлую поступь кандальника.
Я должен как-то ободрить Андрея, отговорить от радикального решения укрыться от трагической ошибки (но не вселенской же трагедии!) в глуши, в одиночестве, которое его погубит? А с чего я взял, что погубит? А если исцелит? Не мне решать. А он ждёт от меня совета или просто участия. Хотя никогда в этом не сознается и не попросит. Его исповедь оставила у меня впечатление, что он колеблется и мне по силам вернуть его назад, чтобы пережить, забыть и продолжить «подавать надежды». К тому же доктор он, может быть, и вправду неплохой. С другой стороны, фельдшерить в деревне – красиво и благородно, и пользы человечеству принесёт не меньше.
Андрей отряхнул коньячное блаженство, словно почувствовал просыпающееся во мне участие, и решительно сказал: «Есть ещё одно обстоятельство. Я должен был после учёбы вернуться назад, домой, к нам, в районный центр. Но не вернулся, прижился и разнежился в городе. За это и получил такой урок. Так что я вернусь, начну всё сначала и всё исправлю». Случайная остановка в пути, случайная встреча, окончательно принятое решение. Судьба честно дала ему последний шанс передумать. Он всё решил. И сжёг мосты. Он сказал это не мне – себе самому. Мне стало нечего и незачем добавлять. Утешать людей и принимать за них трудное решение у меня всегда получалось неважно.
Снова повисла пауза. Её прервала диспетчер, прошелестев по громкой связи стандартным вокзальным голосом (дух аэропорта прилежным эхом вторил ей) о совершенно очевидном: все рейсы по погодным условиям снова откладываются на два часа.
– Мне пора. Приятно было познакомиться, – Андрей поднялся и протянул руку, отдавая дань этикету заметённых снегом. Крепкое рукопожатие. – Всё наладится. И, возможно, этот день ещё извинится за доставленные неудобства. А нет – и ладно. Ничего фатального не произошло. Больше позитива. Жизнь коротка! – он предпринял попытку ободрить меня. Наверное, профессиональная докторская привычка…
– Уходите?
– Пойду проветрюсь, подышу свежим воздухом. Душно. А в психиатрических клиниках дверей в палатах, туалетах и коридорах нет. Это так, для сведения.
Он оглянулся, словно проверяя, что ничего не забыл, внимательно посмотрел мне в глаза, будто хотел запомнить моё лицо, грустно улыбнулся, закинул на плечо сумку на длинном ремне и ушёл.
Я снова посмотрел за окно – без изменений. Сонная тишина. Но отчего-то мне эта тишина показалась затишьем перед бурей. Стало клонить в сон. Я допил кофе, затем по-варварски, как мой недавний собеседник, залпом проглотил коньяк и последовал примеру доктора – поспешил на улицу, на воздух, стряхнуть дремотное оцепенение и как-то, пусть без значимого результата, но – действовать.
Непогода усугубилась. Метель не унималась. Похолодало. Мороз пробирался за пазуху, но возвращаться назад не хотелось. Ресторан я только что покинул, в зале ожидания – диффузия неугомонной толпы, превращающей нерастраченную энергию бездействия в бесцельное движение или придумывание бездны срочных дел и забот. Я предпринял ещё одну безуспешную попытку позвонить своим коллегам, но таксофон не удовлетворился мздой в размере жёлтого угловатого жетона и остался глух и нем к моим нуждам и чаяниям. Я поспешил вырваться из человеческой трясины, болота голосов, со звонко лопающимися пузырями детского плача.
Я стоял на крыльце аэропорта спиной к хлопающей двери, как витязь на распутье. На улице, на удивление, оказалось темнее, чем в здании, – близятся сумерки. И холоднее, чем во время моей предыдущей прогулки. Подумал, что похолодание к лучшему: может быть, прояснится, метель утихнет, и я, наконец, покину эту чёрную дыру, провал в пространстве и времени. А пока надо найти себе занятие.
Мое внимание привлекла толпа посреди привокзальной площади. Люди стояли, образовав тесный круг, вытягивая шеи и устремляя свои взгляды внутрь него. Чуть в стороне одним колесом на тротуаре стоял белый автомобиль. По лобовому стеклу в левом верхнем углу разбежалась паутина трещин. Я подошёл ближе, но не слился с толпой, а встал чуть поодаль от заснеженных зевак. Всё последующее показалось мне дурным сном. На снегу в неестественной позе лежал человек. Неподвижно. Несчастный случай. Гололёд и метель. На краю тротуара, спрятав лицо в ладони, сидела молодая женщина. Её руки были в крови. Через толпу, бесцеремонно расталкивая любопытствующих, уже пробирались люди в погонах. За ними, как сухогрузы за ледоколом, в образовавшийся проход шли белые халаты. Один приблизился к распростёртому телу и склонился над ним. Открыл свой оранжевый чемоданчик. Перевернул тело на спину, отчего залитое кровью лицо пострадавшего устремило невидящие глаза в мутное небо. Приложил руку к шее, нащупывая сонную артерию. Минут пять или целую вечность колдовал над недвижным телом. Искусственное дыхание не помогло. «Насмерть, – доктор поднялся, отряхнул снег с колен и добавил: – Похоже, пьян». Закрыл свой бесполезный чемодан. Подъехала «скорая». Погоны разогнали толпу, допросив свидетелей. Рутина. Труп унесли. Зеваки разошлись. Вьюга заметала следы. А я всё стоял и смотрел на снег, туда, где только что лежал Андрей. Мой случайный знакомый. Подкатила тошнота. Меня бросило в жар, хотя ледяная колючая снежная крупа сыпалась с неба и, увлекаемая злым ветром, пригоршнями летела в лицо и за ворот. «Ничего фатального… Больше позитива…» – Андрей ошибся. Вдруг мой рассеянный взгляд выхватил из липкой белой пелены тёмный предмет, наполовину занесённый снегом, с отпечатком подошвы. Озираясь, подошёл. Ещё раз оглянулся – нет, никто не видит. Поднял. Находка оказалась тетрадью в чёрном виниловом, «под кожу», переплёте. Раритет. Теперь таких не делают. Счистил налипший снег и открыл на первой попавшейся странице. «IХ:16 Дождь…» – дневник Андрея? Записки сумасшедшего? Я снова убедился, что остался незамеченным, спрятал свою находку в карман пальто и зашагал прочь.
Я брёл, как сомнамбула, и двигался исключительно по двум причинам: первой из них было умение ходить, а второй – необходимость что-то делать. Я пересёк площадь, от которой начинались две аллеи, уходящие в зябкую белую бесконечность, очерченные высокими пирамидальными тополями, стылыми и неподвижными, прошёл мимо стоянки такси и набрёл на заведение под названием «Братья пилоты» – кафе со стилизованными круглыми окнами и официантками в сине-белой форме стюардесс.
Было свободно, непоседливые транзитники пока окончательно не разведали местность и не добрались сюда через заснеженную пустыню мёртвой площади. Я занял столик в углу у окна. На половине стола, свободной от салфетницы без салфеток, пепельницы и моих рук, подпирающих шумящую от всего происходящего голову, я возвёл редут из кейса, тем самым единолично узурпировав столик. Место под солнцем. Открыл тетрадь, но не смог прочитать и строчки. Меня пронзила дрожь, как от порыва студёного ветра, долетевшего из царства теней. Мне почему-то казалось, что я чудом избежал смерти и что на снегу, ниц, с расколотым черепом должен был оказаться я.
На пожелтевших листах тетради шёл фиолетовый дождь. Тот, кто вёл этот дневник, писал размашисто, чрезмерно удлиняя строчные «д», «в», «у», «р» и «з», которые занимали по три клетки и в беге своём пронзали строки сверху и снизу. Весь мир для меня сузился до прямоугольника отсыревшей от снега тетради. Я не замечал ничего вокруг. Ни колючих взглядов прибывающих посетителей, негодующих из-за моей беспардонной, демонстративной и единоличной оккупации столика, ни того, как на столе появилась чашка кофе и чистая пепельница, ни голосов, ни лиц, окружающих меня. Мысли путались и, сталкиваясь, как бильярдные шары, разлетались в разные стороны. Я почему-то вспомнил детство, заметённые снегом, бесконечно долгие вечера в маленькой и тесной из-за нагромождения мебели комнате, тускло освещённой лампой под зелёным шёлковым абажуром. Нагоняющий ужас и тоску вой вьюги за окном, казавшийся мне воем страшного, чёрного и мохнатого зверя. Затем обрывки каких-то стихов, попугайски заученных мной, служивших источником похвалы умилённых слушателей, в основном соседей, и невинным способом добывания сладостей. Образы прошлого нагромождались, как льдины во время ледохода, смешивались, порождая абсурдные формы. То мне чудился кошмар: одушевлённые и озлобленные клубы чёрного жирного дыма, стремящиеся поглотить меня, и мои безуспешные попытки убежать или призвать помощь, – родом из далёкого детства, со времён первой ангины, на грани осознания себя собой, когда части тела, отражение в зеркале серванта, звучащее извне имя соединяются и навсегда прикрепляются к внутреннему «Я», образуя маленькую, но личность. То вдруг вставал перед глазами чудесный вид, открывавшийся с вершины горы, которую местные жители называли Петушинской, покорённой посредством мотка бельевой верёвки, сбитых о камни коленей и недюжинного упорства, тайком, в порядке очередной проказы с соседскими мальчишками. Речка, блестящая тысячами солнечных зайчиков, медленно и плавно огибающая подножье покорённой вершины, ярко-зелёные луга и лес на другом берегу. Слепящее и отпечатывающееся множеством фиолетовых дисков яркое, бьющее в глаза солнце. Наконец всё исчезло, и остался только человек на снегу. Лицом вниз. Чёрная точка в бескрайней белой пустыне.
Народу прибывало, и вскоре свободных мест не осталось. Но моя фортеция устояла. Я остался один на отвоёванном пространстве. В заслуженном и блаженном одиночестве среди чужих, взаимно безразличных людей. Попытался сосредоточиться или расслабиться, пока ещё не зная, что в данный момент получится.
Кто-то рядом кашлянул, привлекая моё внимание, и переместился из зоны периферийного зрения в точку фокуса.
– Ждёте? – откровенная издёвка в голосе. Ко мне, дыша вчерашним перегаром, подошёл туземец с помятым, испитым лицом. Он был одет в распахнутую, ввиду полного отсутствия пуговиц, тёмную телогрейку неопределённого цвета, но, определённо, грязную и замусоленную. На голове его, несмотря на изрядную стужу, красовалась лихо сдвинутая на затылок синяя лётная фуражка, без кокарды, совершенно потерявшая от долгой и нещадной носки вид и форму. Один из братьев пилотов или злой дух аэровокзала во плоти? Он оценивающе оглядел меня с головы до ног, прикидывая, сколько и в какой форме можно стрясти на опохмелку. Затем улыбнулся, пытаясь придать своей физиономии вид не заискивающий, но приветливый, отчего на его небритом лице обозначились две складки – скобки в углах обветренных губ. Я подумал, что я для него – клиент безопасный: человек в галстуке не станет драться или кричать на него, болезного, матом в общественном месте – и ухмыльнулся в ответ. Он изобразил то ли медленный учтивый поклон, то ли жеманный и затяжной приветственный кивок. Я протянул ему две мятых десятки: «На, и топай», – желая немедленно избавиться от этого, конечно же, «бывшего лётчика». Меня совершенно не интересует фольклор провинциальных алкоголиков. Он принял деньги как должное и с достоинством спрятал в недрах своей хламиды.
– Самолёты полетят в половине седьмого. Самое позднее – в семь. Я точно знаю! – он воровато оглянулся по сторонам. – Вылет откладывают сознательно. Погода в порядке. Боковой ветер в норме, видимость – триста тридцать, вполне лётно, уж можете мне поверить!
– Зачем?
– Ха! Это же надо понимать! Это же бизнес! Двухнедельная выручка за шесть часов! И заметьте, уйдёт весь лежалый товар. На вас все заработают деньги! Буфет, камеры хранения, комнаты отдыха, носильщики, вся вокзальная коммерция: журналы-газеты, сувениры-сигареты, таксисты, карманники и… – он на секунду умолк, решив, видимо, опустить упоминание ордена, к которому принадлежал сам, и продолжил: —Без таких, как вы, у нас три рейса в неделю. Но не зря же мы получали статус «запасного аэродрома»! Наш город входит в «бермудский треугольник». Установлена очерёдность по захвату заложников, – он презрительно кивнул в мою сторону, – и отъёма всеми возможными способами денег! Заговор! В это время года через нас лучше не летать. И никто никогда ничего не докажет. Все будут счастливы улететь и забыть о существовании сей постылой директории. Вас отпустят после того, как взыщут дань, и перед тем, как кончится ваше терпение. Ну и потом, в девять аэропорт закрывается, – на этом он внезапно смолк. Вероятно, решил, что свою двадцатку отработал, и удалился гасить пламя похмелья. И его скромный бизнес принес искомую сумму.
А меня несколько удивила его, в целом, связанная и не лишённая изящества речь. Похоже, в прошлом интеллигентный был человек. И, может быть, действительно лётчик.
Хлопнула входная дверь. На пороге у входа в зал появилась новая посетительница. Что-то в её чертах показалось мне знакомым. В памяти возникла картинка из далёкого прошлого. Оправившись от дежавю – хлопок двери и её появление – я не поверил глазам – Татьяна Шустова! Она изменилась с того дня, когда прочно заняла место в моём сердце, а её имя стало для меня синонимом счастья, но я узнал её без труда. Она глянула поверх голов, отыскивая свободный столик, не нашла и собралась уходить.
– Татьяна! – я окликнул её и резко поднялся, едва не опрокинув стол, – идите сюда, здесь свободно!
На нас сошлись скучающие взгляды посетителей. Она удивлённо подняла брови и посмотрела на меня: «Мы знакомы?»
– Да. То есть вы меня вряд ли вспомните, а я… – не договорив, увлёк её за собой.
Ущипните меня! Этого не может быть!
Татьяна предпочла перенести уточнение деталей из центра зала за мой столик. Посетители снова уткнулись в свои чашки и газеты. Волна улеглась.
– Кофе?
– С удовольствием, я замёрзла.
– С коньяком?
Она неуверенно кивнула. Стюардесса-официантка неожиданно быстро исполнила заказ.
Татьяна неотрывно следила за мной. В её взгляде читалось любопытство. Она тщетно пыталась отыскать в памяти моё лицо. Я изобразил располагающую улыбку.
– Меня зовут Александр. Не пытайтесь меня вспомнить. Мы встречались единственный раз в М-ском университете…
– А, вы, наверное, студент моего папы?
– Нет. Не совсем так… Разве это теперь имеет значение?
– Пожалуй, нет. А что значит теперь?
– Не знаю, теперь значит, сейчас.
– Ну, хорошо, пусть будет «сейчас».
Татьяна поставила на стол чашку, которую держала двумя руками, отогревая тонкие озябшие ладони.
– У вас хорошая память на лица.
– Да, – я смутился, не зная как быть дальше.
Долгое время мысленно я бессчётное количество раз представлял нашу встречу и подбирал слова, все, что ей скажу. Пробовал сотни интонаций произнесения её имени. Но сейчас все слова показались мне недостаточно ёмкими и точными. Увидеть Татьяну снова казалось мне нереальным. Невозможным. Шанс – один к шести миллиардам. И все мной придуманные и собранные по крохам, как кусочки мозаики, фразы беспомощно рассыпались. Время разрушило хрупкую конструкцию несбывшейся мечты и воздвигло новую, более прочную и утилитарную, в ущерб изяществу.
Моя улыбка, по всей видимости, из и без того не вполне располагающей, стала растерянной. В ответ она тоже улыбнулась. Едва заметно, одними глазами. Мне кажется, она начала понимать, в чём тут дело.
– Я думал о вас.
– Интересно, что?
Действительно интересно. Мне тоже было бы любопытно узнать, что и почему думает обо мне человек, лишь однажды, мельком видевший меня.
– Я снова вас вижу! – я путался в словах и чувствовал, что теряю шанс добиться расположения этой дорогой для меня девушки. Слишком неожиданной для меня была эта встреча. Впрочем, иначе и не могло быть.
Я смотрел на неё и думал, что та, которая сейчас сидит напротив и внимательно смотрит мне в глаза, и другая, по сути являющаяся плодом моего воображения, Татьяна – два совершенно разных человека. Придуманная мною – наивная семнадцатилетняя девчонка, единственная дочь профессора Шустова, капризная и избалованная, но обаятельная и живая. Персонаж из моего прошлого. Другая – совсем мне незнакомая молодая женщина, в чьих милых чертах та, придуманная мною, почти не видна. Настоящая, во внимательные глаза которой я смотрю с замирающим сердцем.
– Вы путешествуете одна? – я решил сменить тему разговора и выиграть время.
– Я возвращаюсь домой… Эта чудовищная погода… Вы знаете, замечательно, что я вас встретила… Хоть один близкий человек в чужом городе. Здесь всё заметено снегом, и кажется, что так всегда было и всегда будет. Столько людей! В буфет не пробиться, кресла в зале ожидания – прокрустово ложе, – она говорила без остановки, словно компенсируя вынужденное молчание среди не слишком приветливых сограждан, озабоченных исключительно своей персоной.
Меня забавляло её, казавшееся напускным, недовольство погодой, задержкой рейса, неудобствами тесного, прокуренного провинциального аэропорта, блистающего лишь нищетой потёртых перил, лестниц и кресел. Я молча слушал, иногда ободряюще улыбался, что, безусловно, делало меня приятным собеседником. Слова «близкий человек» были, конечно, преувеличением, но согрели меня. Я расслабился, вся тяжесть этого дня переместилась в область нереального, стала как будто воспоминанием о кошмарном сне.
Я смотрел на Татьяну и невольно отмечал отличия её, настоящей, от моего «сказочного» прообраза – её голубые глаза на самом деле были серо-голубыми, скорее даже серыми, волосы оказались светлее… У моей собеседницы выяснилась странная манера говорить: она то ускоряла темп речи, то замедляла, словно тщательно подбирала и взвешивала слова.
Вдруг Татьяна замолчала, и что-то изменилось в её взгляде. Она о чём-то лихорадочно думала. Взгляд стал рассеянным. Она явно поняла причину моего лепета и моей взрывной реакции на её появление. И, витийствуя по поводу этой дыры и её обитателей, как и я, тянула время. Не может быть! Зачем? Я, возможно, неверно интерпретирую или неточно чувствую происходящее? Ей, в отличие от меня, не нужно дополнительное время, и наша беседа для неё не может иметь то же значение, что и для меня. Это я в неё заочно влюблён. А она, по большому счёту, видит меня в первый раз. Встреча в фойе – не в счёт. Для неё – не в счёт. О чём она думает? Или это я брежу из-за избытка эмоций и событий? Всё, должно быть, просто. Она, молодая девушка, попала в маленькое приключение, которое, несмотря на все мелкие неудобства, доставляет ей удовольствие.
– Да, с погодой нам не повезло, – я постарался легонько подтолкнуть её иссякающий монолог с одной целью – снова слушать звук её голоса.
Я смотрел в её глаза и готов был вот так сидеть целую вечность, всё глубже проваливаясь в волнующее наваждение, через слово улавливая смысл произносимых ею фраз. Мне нестерпимо захотелось посадить её себе на колени, как маленькую девочку, обнять и уткнуться в светлые, чуть влажные от растаявших снежинок волосы.
– Это моя первая самостоятельная поездка, я была у подруги, на севере; она работает в газете, это так интересно! Вокруг неё столько необыкновенных людей: артисты, музыканты и даже политики и бизнесмены! Мы когда-то вместе учились, но она всё бросила, вышла замуж и уехала в настоящую жизнь! Правда, сейчас она пока не пишет, сейчас она молодая мама, – в её голосе прозвучала то ли нота зависти к «настоящей жизни» подруги, то ли тоска по свободе. Минорная интонация.
«Она не хочет возвращаться домой!» – осенило меня. И эта задержка рейса – маленькая передышка, ещё несколько мгновений свободной жизни. Хотя… Нет, есть ещё что-то. Может быть, сожаление, как-то связанное с тем, что произошло, или, наоборот, – не случилось там, у подруги? Необходимость возвращения, увеличивающая расстояние между желаемым и действительным? Уже потом, вечность спустя, восстанавливая разбитую картинку этих дней, я понял: Татьяне нужно было заглушить боль искалеченной любви и предательства, боль, сковывающую движения и мысли, боль от ожога неосторожного знакомства с реальным и жестоким миром. Выплыть, спастись, выбраться из стремительной реки, куда её, как котёнка, слепого и обречённого, бросила жизнь. Просто выжить. Но в тот вечер я, опьянённый происходящим, сгорающий от нетерпения обрести её, мою нереальную и потустороннюю мечту, ослеплённый и оглушённый произошедшим за несколько предыдущих часов, всего этого не почувствовал.
– Раньше со мной всегда ездила мама, – выражение её глаз снова изменилось: забота или грустное воспоминание. – А сейчас заболел отец, и она осталась дома. Я хотела отложить поездку, но Иван Петрович… то есть папа, – она на мгновение смутилась, словно выдав семейную тайну, – папа настоял, чтобы я поехала. Я сочувственно кивнул и в который раз собрался с духом, намереваясь начать Главный Разговор. Но… Тщетно… Словно какое-то наваждение, слова застряли в горле, и я лишь неловко кашлянул и залпом проглотил остывший порошковый кофе. Никогда в жизни мне не приходилось так путаться в словах и мыслях в присутствии прелестных созданий, мелькавших в стремительном беге моей жизни верстовыми столбами. А тут… Теряюсь, как первоклассник. Я снова взял тайм-аут и поманил стюардессу-официантку.
– Вы какой-то странный… Что с вами? Я вас не утомила?
– Нет, что вы, так, пустяки, нервы.
– Да, неуютно здесь. Я имею в виду этот город, – она опустила глаза и стала водить пальцем по ободку кофейной чашки. Пауза в поисках темы.
– Это только эпизод. Он кончится. Самолёты скоро полетят; мне один туземец пообещал, что не позже восьми вечера по местному мы выберемся отсюда. Вы – домой, а я – по делам, – теперь я её как будто пытался ободрить. А как не хочется расставаться!
– А чем вы занимаетесь? – спросила она.
– Я, увы, не актёр и не поэт, и «даже не политик и бизнесмен», – я заимствовал Татьянино определение «необыкновенных людей». – Винтик. По сути, клерк, торгующий чужими опытом и знаниями. Суета и тщета, одним словом.
– А я учусь, доучиваюсь, немного осталось, ещё полгода и – в «большую жизнь».
– И кем же ты, то есть вы, станете в «большой жизни»?
– Планируется, что искусствоведом.
– Здорово…
– На самом деле, я хочу стать консультантом или экспертом где-нибудь в «Сотбис».
– А это что?
– Это? – она рассмеялась, – это известный аукционный дом, где среди прочего торгуют произведениями искусства. Я бы специализировалась на иконах.
– Понятно… Что ж, неплохо, – похвалил я её, но возникло странное ощущение… Татьяна хочет показаться проще, чем есть на самом деле? Получить работу в «Сотбис»? Хотя, почему нет? У каждой молодой девушки должна быть своя Хрустальная Мечта. Чем Татьянина не хрустальная? Нет, не то. Почему «Сотбис»? Как-то примитивно и слишком линейно. И иконы… Почему бы не «Кристис», «Друо» или, например, «Буковски»?
Я неотрывно смотрел на неё, стараясь придать своему взгляду загадочность, выдать его за рассеянное созерцание, подавив напряжённый нерв этого взгляда, более точно характеризуемый словом «пялиться». Выручили бы тёмные очки.
Молодое и свежее лицо, высокий лоб, прямой носик, почти никакой косметики, только чуть подкрашенные губы. Кокетливые и притягательные ямочки на щеках. Несколько едва заметных родинок – на виске, на щеке, мушка над верхней губой. Прямые светлые волосы, чуть подвитые на кончиках. Серые выразительные глаза…
А вот глаза её выдавали. Она не искренна. Нет, она не то чтобы говорит не то, что думает, а просто думает сейчас совсем о другом. Отсюда и «Сотбис» – заготовленный заранее достойный ответ на вопрос взрослых дядь и тёть «А кем ты хочешь стать, когда вырастешь, детка?» Это даже не попытка выдать желаемое за действительное, а способ, никого не обидев, утаить сокровенное.
– Предлагаю выпить за знакомство и перейти на Ты (сколько раз я говорил эту пошлую фразу?), – я решил, как обычно, оставить мысли на потом. В иных ситуациях правильнее действовать интуитивно, не увязая в бессмысленных и безрезультатных раздумьях. Хотя экспромты – не самая сильная моя сторона.
Она кивнула. Мы картинно чокнулись. Чуть пригубили.
Наша милая беседа становилась всё более непринуждённой и приятной от взаимного осознания того, что это лишь мимолётная встреча двух увязших в непогоде путников, которых свёл случай, и он же уведёт каждого своим путём в неизвестность. Однако я втайне надеялся, что это не последняя наша чашка кофе, выпитая тет-а-тет.
Татьяна украдкой взглянула на часы и неожиданно замолчала. Холодно посмотрела на меня, точнее, сквозь меня и отставила в сторону чашку. Я, словно с разбегу о стену, ударился о её серьёзный и нервный взгляд. Повисла пауза, в которую стремительным водоворотом ворвался ресторанный гомон. Я что-то ляпнул, не подумав? Нет. Ничего такого. К тому же я больше слушал, блаженно улыбаясь и хмелея более от её близкого присутствия и нескольких случайных прикосновений, чем от провинциального коньяка.
Она поднялась и протянула мне руку: «Приятно было познакомиться. Вы были очень любезны, но мне пора… Мне, к сожалению, действительно пора. Я должна… Идти…» Её словно подменили; снова на «Вы», ровный тон, стерильная любезность и никакого следа от прерванной на полуслове милой беседы.
Повернулась и спешно направилась к двери, на ходу надевая и поправляя шубку. Я опешил. Куда ей может быть «пора»? Здесь, пока не объявят вылет, никому и никуда не пора. Я подхватил кейс и ринулся за ней. На выходе меня не очень вежливо остановили, потребовав рассчитаться. Я кое-как отсчитал купюры, оттолкнул верзилу у дверей и под напутственное «Псих сумасшедший!» вырвался на волю. Татьяна исчезла. Напролом по сугробам я побежал к зданию аэровокзала в надежде отыскать бесценную пропажу.
Куда она могла пойти? Что случилось? Спешить ей, как и мне, некуда. Обидеть её я не мог. Точнее, не должен был. Я сознательно (чёрт, какая может быть сознательность в разговоре с милой девушкой?) обходил, не замечал явные нелепицы в её монологе, относя это на счёт сверх нормы эмоционально насыщенного моего сегодня. Что же могло произойти? И тут меня словно током ударило: она наркоманка. И ей срочно потребовалась очередная доза. Для «золотой молодёжи» из обеспеченных семей это зачастую привычный атрибут красивой жизни. И все неуклюжести и мелкие обманы – следствие того. Чёрт! Но где можно уколоться, или чего там они делают? Нюхают? Зелёной купюрой с оплывшей мордой президента по зеркальцу? «Свет мой зеркальце скажи…» Но где? На улице – не вариант. В уборной? Дамской комнатой означенное пространство в этой зловонной дыре не назовёшь. Но зачем тогда выходить на улицу, зачем идти в здание аэровокзала? В кафе, наверняка, чище и спокойнее. Я был близок к безумию. Слишком много потрясений для не самого простого дня моей жизни. Вошёл в здание аэропорта – та же толчея, монотонный, кажущийся механическим, гул толпы. Её нет! Я поплелся к зелёной двери с криво приколоченной пиктограммой. Круг и треугольник вершиной вверх. Чуть было не ворвался на заповедную территорию, но выходящая дама ехидно заметила: «Это женский». Я поспешно отошел в сторону. И… о, чудо!
Аллилуйя! Татьяна стояла в очереди к длинному ряду скворечников междугородних телефонов. Я мысленно восхвалил пёструю толпу незадачливых вояжёров, наводнивших эту пристань утраченной и обретённой надежды и создавших повсеместные очереди. Ей просто срочно нужно было позвонить. А я напридумывал всякой чепухи! И, нетвёрдо ступая по отполированному тысячами стоп истёртому полу, не сводя безумных глаз с объекта вожделения, двинулся к таксофонам.
Татьяна увидела меня, нисколько не удивившись моему появлению, спокойно, несколько отрешённо спросила жетон и сняла трубку: «Домой позвоню». Я взял дистанцию, достаточную, чтобы не мешать телефонному разговору и в то же время, чтобы не потерять её в толпе. Моё бедное сердце этого не выдержит. Она стала набирать номер. Я с удивлением отметил, что она набирает код, который значился и на моей визитке, а запомнить номер, семь несложных цифр, для меня не составило труда. Вот это сюрприз! Мы земляки! Место моего жительства, моей ссылки, где я провёл три года и был уверен во временности пристанища, оказалось домом Татьяны Шустовой. Сегодняшний счёт приятных и печальных сюрпризов стал ничейным. Она разговаривала не больше минуты. Затем, не опуская трубки, спросила ещё жетон. Я отдал ей два последних. Она снова набрала номер. Другой номер, при этом заслонила диск с маленькими металлическими кнопками спиной. Трубку долго не брали. Наконец жетон провалился в аппарат, и Татьяна метнула в меня испепеляющий взгляд – требование удалиться. «Серый?» – последнее, что я услышал отходя.
– Я уже говорила, – у моей подруги родился сын, – Татьяна приблизилась ко мне. – Спасибо за жетон, – голос её дрогнул, мне показалось, что она сейчас разрыдается. – Сергей – это её муж, – она, безусловно, поняла, что я услышал начало разговора. Но зачем ей всё это мне объяснять? И к тому же она сказала «Серый», а не «Сергей». Но… Не моё это дело. Сейчас это не имеет значения.
– Я устала, – Татьяна как-то по-детски беспомощно оглянулась вокруг, словно ища опоры или места, где можно присесть, а может быть, обречённо принимая происходящее вокруг. Или внутри? Пауза.
– Татьяна! Мы земляки!
– ?!
– Код города… Совпадает…
– Да ну? Здорово! – она оживилась. Но во взгляде читались отчаянье и боль.
Я стал думать, что делать дальше. Нужно найти какое-нибудь спокойное место. Возвращаться в «Братья пилоты» бесполезно, там свободных мест, вероятно, не осталось.
– Который час? – она, не поднимая глаз, зябко запахнула свою короткую шубку.
– Без пяти семь, – сообщил я.
И тут объявили отправление первого из задержанных рейсов, а затем и всех остальных, одного за другим, в ритме пригородных электричек, словно подтверждая похмельный бред проходимца в лётной фуражке. Мой рейс был первым, Татьянин числился в конце списка.
– Наконец-то… Нам пора. Я могу тебе позвонить по возвращении? – я попытался возобновить разговор. – Куда-нибудь сходим. Расскажешь про свой «Сотбис».
– Позвони. Да. Обязательно. Я буду ждать, – Татьяна отвернулась и побрела прочь.
– А номер?
– А ты разве не запомнил? Это домашний…
На этом мы расстались.
8
Любопытствующие могут обратиться к повести автора «Каждый следующий».