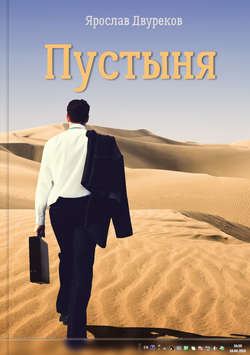Читать книгу Пустыня - Ярослав Двуреков - Страница 5
На пороге
Оглавление(из тетради Августа II)
VII:7
… но это тоже не свобода. Социальное благо? Наименьшее зло? Что угодно.
Свободы не существует. Свобода – поэтический символ. Свободен ветер? Нет. Им движет перепад давления между циклонами и антициклонами. Ветер не выбирает направления. И его движение, его полёт все используют в меру сил: растения, чтобы рассеять семя своё, люди, чтобы уплыть в Индию или смолоть хлеб.
Птицы? Полёт птицы – поиск пищи и смена широт, отступление перед натиском непогоды.
Человек? «Внутренняя свобода»? Истории такие случаи неизвестны. Человек – социальное животное. То есть на уровне инстинктов – стадное. В стаде свободы нет. Но… Одиночки не выживают.
Свобода выбора? Ха-ха-ха. Варианты выбора – высокотехнологичный продукт. Выбирай: белая роза – красная роза. Что, хочешь чёрную? Извини. Не завезли. Ну, так белая? Или красная? Иллюзию свободы можно создать медитацией или купить за деньги.
Свобода мысли? Возможно… Хотя, нет. Вариант бесплодный. Сколько мыслей после внутренних и внешних кордонов в виде условностей, правил, суммы приличий, названия эпохи, табу, воспитания, страха смерти или психушки увидят свет?
Я считал: меньше тысячной доли… Первый цензор – это ты сам. Ты можешь быть уставшим после работы, от жизни или сам от себя, благодушно настроенным после еды или женщины, ленивым от природы или из-за времени суток и вследствие этого умерить контроль и дать слабину. Но слабость – это не свобода.
Свободны безумцы…
Татьяна опаздывала на сорок минут. Я сидел за столиком и болтал кубиком льда в почти опустевшем бокале. Вода без газа. Немного нервничал. Избегал смотреть на часы. Придёт обязательно. Мало ли что? Дамам свойственно (или предполагается женским этикетом) опаздывать на свидания. После нашего с Татьяной возвращения домой мы встретились лишь раз и условились о втором рандеву – сегодня.
Наша первая встреча продлилась чуть больше часа и прошла на аллеях городского парка, в пути между главным, Восточным входом, и Северным. Я набрал заученный раз и навсегда номер телефона и спросил Татьяну. Строгий женский голос поинтересовался, кто её спрашивает и, удовлетворившись моим ответом «сокурсник», передал трубку искомому абоненту. В целях конспирации наше свидание Татьяна в телефонном разговоре (несомненно, для ответившего мне «строгого голоса») назвала консультацией по курсовой работе. Секретно и романтично.
Назавтра случился необычайно тёплый для конца февраля, но ветреный день. Кругом таял снег, наводя слякоть и предвещая гололёд наутро, но вычищенные и выметенные дорожки, которые вели нас, были почти сухими, за вычетом вен-трещин в холодном сером асфальте. Безмолвствовали голые деревья, суетились почуявшие скорую весну воробьи. Всё это, особенно суматоха пернатых, как будто наполняло воздух неясным, обманчивым ощущением весны. Как пробующий звук оркестр: ещё не музыка, но её обещание. Очевидно, зима соберёт остаток сил и даст последний бой отчаяния, но уже предрешено.
Мы целомудренно поцеловались при встрече, как старые, добрые знакомые. Побрели по немноголюдным, будничным аллеям. Каждый как будто ждал сигнала к действию, уступал ход другому. Говорили поначалу ни о чём, очень мало, прислушиваясь друг к другу и своим внутренним голосам, пытаясь уловить унисон и понять: да или нет, будет ли продолжение, должно ли быть? Вспомнили нашу встречу, захолустный аэропорт, метель, словно восстанавливая теченье времени, повторяя содержание предыдущих серий перед началом новой. Вспоминали звучание наших голосов. Дорожные знакомства никого и ничему, как правило, не обязывают. «А вас?» – «Татьяна». – «Очень приятно». Это, скорее, вопрос этикета, чем повод для продолжения. Нам предстоит именно сейчас познакомиться по-настоящему. Узнать друг о друге нечто большее, чем звучание данных нам имён.
Постепенно напряжение спало. Она взяла меня за руку и временами, как бы невзначай, легонько сжимала мою ладонь. Всё это казалось немного наигранным, но откуда я могу знать, как ведут себя профессорские дочки на первом свидании? Затем, сославшись на то, что ей холодно, занесла мою руку себе на плечо в полуобъятии.
Татьяна стала рассказывать о своих «северных» впечатлениях: о тундре, о том, какой она видится с самолёта, – «как маскировочная сеть, вся в замёрзших лужицах болот»; о геометрически правильных, отсыпанных жёлтым песком площадках бесконечных нефтяных вышек, от которых отходит прямая дорожка, оканчивающаяся огоньком факела; о небольших и немного скучных городах нефтяников; о замечательных людях-сибиряках – и даже припомнила какую-то туземную легенду о медведице. Путевые заметки. Но ни слова о цели визита.
Татьяна говорила не спеша, иногда очень медленно, словно подбирая слова. Я молчал, дыша влажным воздухом, ощущая благостную отрешённость от окружающего мира, своих и чужих сует, и думал, что вот так готов идти куда угодно и сколь угодно долго, сжимая тёплое плечо дорогой мне девушки, ощущая её близость по голосу и горькому аромату духов, и даже не глядя на неё, испытывая томную радость её присутствия. «Мгновение, повремени!» – совсем не то. В этом нет необходимости. Татьяна всегда будет рядом, и пусть время идёт вперёд, ведёт нас сквозь свои лабиринты, открывая за каждым поворотом новое и неизведанное. Как и что будет дальше – неизвестно никому: ни ей, ни мне, ни идущему нам навстречу старику в сутулом пальто с зябко поднятым воротником. Эти страницы не только не написаны, они ещё даже не придуманы. Но на тот момент будущее виделось, точнее, мечталось светлым и беспечальным. И от этого всё казалось лёгким, прозрачным, воздушным.
Наша плавная беседа петляла синхронно с извилистыми дорожками парка, мы парили, не касаясь земли, смотрели вокруг и в небо, не замечая деталей, о чём-то говорили, даже спорили, вслушиваясь в звучание голоса друг друга и почти не вникая в слова.
Подойдя к выходу, к Северным воротам, Татьяна остановилась, повернулась, обняла меня и неожиданно поцеловала. Взрыв эмоций, обещание счастья. Ответ на мои сомнения. Она, улыбаясь, заглянула мне в глаза и сказала: «Мне пора. Останься здесь, задержись на пять минут, не провожай!»
Я остановился. Татьяна быстро, не оглядываясь, прошла под аркой ворот и вышла из парка. За воротами, к моему глубокому изумлению, Татьяну ждал автомобиль, и при её появлении водитель вышел, распахнул дверцу. Она села в машину, исчезла за чёрным тонированным стеклом. Я остался незамеченным для того, кто увёз мою бесценную. Ощущение удивительного, светлого, вдохновляющего сна, детали которого тают при пробуждении, оставляя лишь мягкий туман и сладостную негу, с того дня со мной.
Вышло так, что, условившись о скорой встрече, мы неожиданно расстались почти на две недели: мне срочно и внепланово пришлось уехать, а Татьяну папа-профессор усадил за учёбу. Эти двенадцать дней первой нашей разлуки, когда я ещё не слишком уверенно произносил, а самое главное – осознавал значение слова «нашей» применительно к себе, тянулись бесконечно. Я с удивлением отмечал происходящие во мне перемены.
С женщинами я сходился и расставался легко и без печали и был уверен, что ощутимая личная свобода гораздо более ценна и важна, чем абстрактная любовь. Планета моей личной свободы, моя заповедная пустынь держалась на трёх китах-убеждениях: 1) все женщины по большому счёту очень похожи; 2) из чувств не должны происходить обязательства; 3) есть только сегодня. Один из классиков утверждал, что роман живёт в среднем три месяца, я его наблюдение полностью разделяю. И хотя Моэм заявлял об этом как писатель, я считаю, что эта максима справедлива не только для литературы.
Когда восторг открытия, познания чужой души и тела утрачивает новизну, когда число белых пятен на карте покоряемого материка становится ничтожным и начинаешь предугадывать ответную фразу, когда проходит очарование свежести отношений, я бегу от рутины сосуществования. И пусть это выглядит как побег, как отступление, я не замедлю шаг. Я не могу так долго стоять на одном месте.
На самом деле процесс познания другого бесконечен и близкий человек неисчерпаем. Но у меня не хватает терпения и постоянства. Установившиеся отношения засасывают, как трясина. Возникают взаимные обязательства, количество переменных при принятии решения множится, мешая стремить полёт. Это требует желания и навыков «серьёзных отношений», терпеливого умения «принимать таким, как есть», овладения искусством «находить компромиссы». При этом петляет и теряется время, которое можно потратить на новые открытия. А жизнь так коротка!
«Как хорошо, что никогда во тьму ничья рука тебя не провожала», – сказал Поэт, это стало моим кредо надолго. Такое положение устраивало меня и должно было устраивать окружающих, ибо любой, а точнее, любая из тех, кто не хотел или не мог принять моих правил игры, простить мне мою маленькую слабость, мой мелкий эгоизм, исчезали из моей жизни, жизни одинокого, но незлого волка. Иногда возникало ощущение зябкости и пустоты, но я относил это на счёт нормального, обыкновенного одиночества в толпе, привычного состояния городского жителя, скользящего по поверхности, – одиночества в Вавилоне. Все женщины в моей жизни (а их было не много, четыре или пять) отыгрывали вместе со мной плавно возникающий и часто внезапно обрывающийся эпизод, продолжительностью в среднем в один театральный сезон, редко – в два, и оставались в памяти как прочитанные книги, некоторые страницы которых благодарно помню наизусть.
Исключение – Маша, временами согревавшая мою стремительную жизнь, моя самая искренняя, верная, надёжная, но уже нелюбимая женщина. Мы с Машей предприняли безуспешную для нас обоих попытку стать друг другу всем. Полгода прожили вместе. Не самые худшие полгода в моей жизни. Расстались друзьями, искренними и настоящими, готовыми помочь, поддержать, подсказать, выслушать, исповедаться или принять исповедь, поболтать о пустяках, обсудить прочитанную книгу, вчерашнюю погоду или проблему взаимного безразличия современных горожан. Нет, не расстались – поняли, что мы просто друзья, не больше, точнее, не меньше. Вернули отношения к единственной возможной в нашем случае форме. Сохранили дружбу и взаимную свободу. И наша связь – не путы, а страховка, как у альпинистов. Не самый распространённый и, считается, сугубо теоретический (хотя и обыденная теория его тоже отвергает) случай.
Я понимаю, что когда-то мужчинам надлежит остепениться, бросить якорь, обзавестись, подобно среднестатистическому большинству, семьёй, детишками, налаженным бытом, собственной сотой в улье. В этом нет ничего плохого. Но это всё совершенно абстрактно; отвлечённые размышления общего порядка, неприменимые ко мне. Традиция – один из часто встречающихся вариантов. А Татьяна? А наши едва зародившиеся отношения? Как обычно? Не хочу забегать вперёд, предвосхищать и материализовать то, к чему совершенно не готов и в чём не испытываю ни осознанной, ни подсознательной потребности. Я никогда не связывал отношения с женщинами с чем-то, кроме взаимно интересного, приятного и эмоционально обогащающего общения. Символ постоянства, константа семьи (я даже поперхнулся, глотнув воды) не являются ни моими знаками, ни жизненными целями. Когда-нибудь потом, может быть, завтра это изменится. А пока я живу под знаком беззаботной бесконечности. И готов вознести на свой герб и флаг этот символ – замкнутую саму в себе, вытянутую вдоль течения времени восьмёрку, две непрерывных, замкнутых кривых, пересекающиеся в крохотной точке сегодняшнего дня, между моим тёмным вчера и смутным завтра.
Как долго продлятся, какими будут, к чему приведут наши с Татьяной отношения – неизвестно, как и то, какую роль сыграет Татьяна в моей жизни – как обычно, эпизодическую, или на сей раз – главную? Кроме того, я понял, что две наши мимолётные встречи – в замёрзшем аэропорту и оттаивающем парке – стёрли придуманный мной образ Татьяны, а новый, осязаемый и живой, пока не возник. Вопрос времени, и, полагаю, самого ближайшего.
Я задумался и не заметил появления Татьяны. Поднял голову, когда она уже подходила к моему столику. Залюбовался ею и сам себе позавидовал. Ко мне лёгким и уверенным шагом приближалась настоящая наследная принцесса! Наделённая свежей красотой, обаянием, умом, редким в наше время воспитанием и хорошим вкусом.
– Привет! Извини, опоздала! – облако горьковатых духов и прикосновение тёплых губ. – Давно ждёшь?
– Всю жизнь…
– Есть хочу! Je ne mange pas depuis six jours9. Что здесь съедобное? Где меню? – она оглянулась в поисках официанта. – Чем нас кормят сегодня в заведении с романтическим названием «Paris»?
– Je pense que madame reste satisfact, – ответил я.
– Je suis mademoiselle, – возразила Татьяна, – и правильно будет satisfait.
– Ah, dйsolй, bien sыr mademoiselle, mon franзais n’est pas assez bon.
– Oui, vous avez besoin de prendre quelques leзons, – Татьяна улыбнулась и добавила: —И неплохо бы поправить произношение. – Я уже всё заказал. Сейчас буду тебя кормить. Французский завтрак: Фуагра, с игристым от «Ла Шаблизьен», затем фрикасе из телятины с шалотом и шампиньонами, будет подано с «Лафоре», это тоже бургундское, на десерт – крем-брюле, его здесь замечательно готовят, и кофе со сливками.
– Впечатляет, – Татьяна одобрила мой выбор. И, как мне показалось, была приятно удивлена. – Хороший вкус.
– Я старался…
Официант принес ведёрко со льдом, отворил игристое и разлил по бокалам.
– Папа уехал. Я его провожала и потому задержалась. Вообще в нашей профессорской семье это не принято. Хотя, «профессор никогда не опаздывает», так? Но я ведь ничего не пропустила? – Нет, всё только начинается.
– Думаешь, начинается?
– Надеюсь. Всё зависит от нас.
Я поймал её взгляд. Дрогнули ресницы, плавно сошлись, как крылья бабочки, и тут же распахнулись, открыв ясный взор. Она тряхнула головой, словно отгоняя наваждение, улыбнулась и подняла бокал:
– За встречу! – Татьяна не отрываясь, мелкими глотками пила, наслаждаясь колючим и холодным брютом. – Вкусно! А давай возьмём такого же с собой?
– С собой куда?
– С собой к тебе.
– Давай, но… – я не был готов к столь стремительному развитию событий. Даже, кажется, покраснел.
– Что-то не так?
– Всё так… У меня есть «Шато Лафит», впрочем, если хочешь, возьмём бургундское… не будем мешать с бордо. – Я попытался скрыть свою растерянность. Татьяна сделала вид, что не заметила моего замешательства. А в глазах её искрились весёлые, как брызги шампанского, огоньки. Маленькая негодница! Мы принялись за нежнейшую гусиную печёнку в хересе с апельсиновым сиропом.
– А расскажи-ка мне, дружок, о себе? – она склонила голову и улыбнулась, чтобы задать шутливый тон нашей беседе и разрядить обстановку в унисон искристому вину.
– Меня зовут Александр. Друзья иногда называют Алекс, – здесь я подумал, что если ехать ко мне, надо к шипучке что-нибудь прихватить пожевать, дома шаром покати: две пачки пельменей в морозилке и двухнедельной давности сыр. – Немного за тридцать. Не женат. Не свят. Типичный городской житель, который вечно спешит, не высыпается, нервничает, много курит, временами склонен к хандре и одиночеству; иногда любит сходить в гости, чаще всего с целью поесть, а заодно и выпить в хорошей компании. Что ещё… – так, а что ещё? Есть кофе, чёрный бельгийский шоколад (ЭнЗэ как раз для таких случаев), банка консервированных ананасов. Сахар и соль. На этом мысленную инспекцию съестных припасов я закончил в связи с исчерпанием списка. – Редко бывает на свежем воздухе, ещё реже – в отпуске, каждый вечер готов послать шефа к чёрту и подрядиться дворником, а поутру, освежившись хорошим парфюмом, плетётся на работу, понимая, что менеджер по уборке – это как-то на самом деле не тренд. И даже маргинально для человека с двумя высшими… – так, а что у человека с двумя высшими в плане интерьера? Надежда Васильевна приходит убирать по понедельникам и пятницам; да, она была вчера, значит, всё чисто. Уже хорошо. Девушки это сразу замечают. – Любит читать, хороший коньячок и женщин. Иногда со всем этим перебарщивает.
– Именно в этой последовательности – книги, коньяк, женщины?
– Не принципиально. Вместо коньяка сойдёт сингл молт. Соответственно, книгу может заменить театром. Женщина незаменима.
– Эстет… – она посмотрела на меня сквозь бокал с игристым, изогнув бровь.
– Скорее, сибарит…
– А у тебя реально два высших?
– Полтора. Техническое плюс ноль пять экономического.
– А расскажи теперь обо мне? – Татьяна отставила бокал, – только серьёзно…
– О тебе?
– Ты говорил, что думал обо мне, а что думал, так и не сказал. Я хочу знать. Мне это важно.
Появился официант, подал горячее. Сменил вино. Но мы не притронулись ни к еде, ни к «Лафоре». Молча смотрели друг другу в глаза. Я удивился, что Татьяна помнит наш разговор в замёрзшем аэропорту в деталях, несмотря на то, что всё происходило словно во сне. Я тоже ничего не забыл, но со мной-то всё понятно.
– Да. Думал… Я думал, что ещё одной, такой как ты, на свете больше нет. И это очень простая и безжалостная в своей простоте мысль не давала мне покоя. Я ведь совсем тебя не знаю, как же тебя найти? И я искал, но не Татьяну Шустову из плоти и крови, а Татьяну Неведомую, отражение, мираж, придуманный мною образ, идеал, богиню. Искал в других женщинах, в их глазах и голосе, мыслях, касании рук, словах, телах. И находил частицы, очень маленькие, и не всегда. Я думал, что обречён искать тебя в других, но боялся, что в этом поиске больше теряю, забываю тебя, заменяю настоящие, драгоценные стёклышки мозаики фальшивыми. Я боялся, что не найду тебя. Что устану и смирюсь, выберу другую. И выбирал других. Но потом начинал всё снова. Я боялся тебя найти и потерять, если бы оказалось, что ты – это не ты. Я искал, но не тебя, а отблески, отзвуки той, моей нереальной Татьяны… Вот так, всю жизнь, до этой минуты… – я обозначил коду.
– А теперь? Нашёл? Или потерял? Не разочаровался?
– Нет. Я просто зря терял время. Не нужно было искать тебя в других. Нужно было искать тебя среди других.
– Я соответствую твоему идеалу?
– Да. Во многом – да. Но я не хочу говорить о каком-либо соответствии, ты – живой человек, и ты мне нравишься такая, как есть. А идеал, как стрелка компаса, как звезда, указывает путь и ведёт за горизонт. Быть совершенством, наверное, очень тяжело и к тому же скучно. Кроме того, определение идеала всегда внешнее, и соответствие представлениям другого требует сил и ограничивает свободу. По мне, важнее быть собой. Совпадение с ожиданиями другого пусть будет счастливой случайностью, а не сознательным усилием. Это не роль, которую ты выбираешь из многих, ориентируясь больше на рейтинг, чем на собственное душевное устройство. Воплощение или обретение идеального дарует восторг достижения цели, а дальше? Остановиться и, не дыша, сохранять достигнутое?
Татьяна внимательно слушала но, по-моему, ожидала получить более простой и откровенный ответ.
– Будем есть? – Татьяна взяла приборы. – И пить!
– А ты о себе или обо мне не хочешь рассказать? – я подумал, что наговорил достаточно, и могу рассчитывать на ответную любезность.
– Хочу. Но сейчас не готова. У тебя же было время подумать, а у меня – нет.
– То есть тебе нужно сходить в библиотеку, написать развёрнутый план?
Она подняла бокал, и, чтобы не отвечать, стала медленно потягивать вино, то отстраняясь, то припадая сжатыми губами к тонкому стеклу. Я в ответ пожал плечами: как хочешь. Возникло неясное напряжение. Меня будто по носу щёлкнули.
– Мне нужно понять, и в первую очередь себя. Мы с тобой знакомы совсем недавно, без году неделя, как говорит моя мама. То, что ты так долго обо мне думал, и то, что ты думал обо мне, это… это очень важно. Но… Ты думал не обо мне. Точнее, это была не я. Это была просто картинка, иллюстрация к твоему высокому идеалу, а картинки и слова сказки в книжках вписаны всегда разной рукой, – Татьяна говорила спокойно, медленно, уверенно, не подбирая слова, как будто всё это заранее обдумано и развёрнутый план давно написан. – Не знаю, насколько я соответствую или буду совпадать с взлелеянным тобой образом. Насколько смогу? Насколько захочу? Твоя Татьяна Шустова – это, как бы сказать, ожидания, представления о том, какой должна быть твоя Прекрасная Дама, а не наоборот…
Слово «мама» обозначило неуверенность и замену собственного опыта мамиными наставлениями? А порыв ехать ко мне? Да ещё прихватив шампанского? Вряд ли подобает Прекрасной Даме… Я подумал, что не надо спешить, успеется. Созданный невероятно давно романтический идеал, о котором откровенно рассказать я постеснялся даже его прототипу, краски и блеск которого освежило безупречное бургундское, требовал другого сценария.
– Ты не веришь в любовь с первого взгляда?
– Я думаю, она существует. Но настоящая любовь – большая редкость, – Татьяна поставила бокал на стол. И продолжила: —Мы с тобой познакомились в этом пилотском кафе… – она замолчала, прикрыла глаза, коснулась тонким пальцем переносицы, словно поправляя невидимые очки: задумчивость. – Ты мне понравился. Сразу. Честно. Всё так… Невероятно. Как в кино. И это состояние, метель, остановившееся время, словно жизнь, как бы поправляя меня, назначила паузу. Я даже подумала, что это знак… Что, пока я не решу всё для себя, самолёты не полетят, солнце не взойдёт и новый день не наступит. И как только я тебя встретила, стрелки часов снова пошли и самолёты полетели. Как будто урок усвоен, и можно перевернуть страницу. Я для себя придумала, нет, решила, что будто бы ты меня спас. Унес из завьюженного Кощеева царства на белом коне… И победил злодейство.
– Какое злодейство? Тебе что-то угрожало?
– Нет, скорее, злодейство было во мне, а ты не дал ему вырваться и стать чудовищем. Так что спас ты народу немало, – она загадочно и нервно улыбнулась.
Я не всё понял про чудовищ и белых коней, попытался припомнить, на чём путешествовал победитель Кощея: то ли на пони, то ли вовсе на сером волке.
При том что Татьяна говорила уверенным и спокойным тоном, в её словах сквозила тревога, может быть, неуверенность, сомнение. Она едва заметно удлиняла паузы между словами и фразами, словно собиралась открыть мне какую-то тайну, но не могла решиться. Наконец она замолчала, так и не выдав тайны, лишь обозначив её присутствие. Может быть, когда-нибудь завтра я получу ключ к её секрету. Лучше – завтра, я не люблю спешить. Однако идеальный и реальный образы Татьяны Шустовой распались на параллельные, смазанные картинки.
Когда мы допили кофе, я спросил счёт и заказал с собой бутылку «Шаблизьена», но Татьяна остановила официанта: «Вино не надо». Посмотрела на меня и сказала: «Я пошутила». «Или передумала? В любом случае, хороший поворот! Под штангу!» – подумал я, но попытался сделать вид, что понял всё сразу и просто поддерживал её игру…
– Машина ждёт тебя у выхода? – спросил я, не удержавшись от капли яда в словах. И тем выдал себя.
– Обиделся? – Татьяна изобразила виноватую улыбку. Затем поманила официанта и велела вызвать такси. – Проводишь меня? – Провожу. А папа действительно в отъезде?
– Папа действительно.
Я отвёз её домой. Мы простились у ворот дома профессора Шустова. Она торопливо чмокнула меня в щёку и тихонько прошептала: «К тебе поедем в другой раз… Обязательно поедем… Я обещаю».
(из тетради Августа II)
I:24
История моей пустыни берёт начало в далёком прошлом, в юности, на которую я оглядываюсь с улыбкой и лишь иногда – со вздохом, но не сожаления, нет, а со вздохом, полным лёгкой грусти и нескольких мимолётных нот ностальгии.
В те далёкие годы обычный набор юношеских комплексов, помноженный на огромное количество бессистемно прочитанных книг модных философов, и максимализм, граничащий с бескомпромиссным нигилизмом молодости, доводили меня до исступления в бесконечных спорах с самим собой и окружающими. Я бросался в крайности от идеалистической, заоблачной филантропии до безжалостной и всесокрушающей антропофобии, то есть, конечно, мизантропии, то возвеличивая человечество, пылая любовью к ближнему своему, то проклиная весь мир за безразличие, глупость, корысть, похоть, злобу, эгоизм. Мои обобщения были абсурдны, однако в порыве почти библейской любви или лютой ненависти к потомкам Адама я не замечал очевидного. Я делил весь мир на «Человеков» и «Организмов», раскрашивая красным и серым. Мешал содержимое заздравного кубка и чаши с цикутой и залпом пил, хмелея от дьявольской смеси эмоций и рассудка.
Я не религиозен, не научился медитировать, практики йоги мне также незнакомы. Я обо всём этом, конечно, читал, осиливая в лучшем случае по нескольку десятков страниц в пяти-шести тематических трудах, но отклика в моей пугливой и недоверчивой душе эти путаные строки не находили. Кроме того, религия и духовные практики требуют полнейшего отказа от своего «Я», нечеловеческого смирения, слепой веры и принятия логически необъяснимых слов, мыслей и указаний. Переход разума в иные миры. Я убеждённый противник любых проявлений фанатизма, как минимум. А без фанатизма в этом деле – никуда.
Отчаявшись достучаться до человечества, в надежде спасти наш гибнущий мир, я начал строить свой собственный, обнесённый глухой стеной затворничества. Стену я возвёл, но наполнить мир не успел – долго выбирал: что брать и спасать, а чему во благо будет погибнуть. Возникло разрастающееся множество предметов, одновременно попадавших в оба списка, спасаемого и обрекаемого. Тем временем стена стала давать трещину за трещиной, ровные и острые грани её начали скругляться под действием разрушающего влияния того, что называют житейской мудростью. Мои былые категоричные суждения стали мягче, мир там, за стеной, перестал быть двухцветным, начал приобретать новые цвета и оттенки. Эти изменения, происходящие во мне помимо моей воли, казались мне предательством самого себя, своих идеалов и тех немногих, кто разделял мои взгляды. Это было мучительно. Я бросил сочинять стихи. Едва не покончил с собой. Но остановить падение было уже невозможно. Однако большая часть стены устояла и стала историей, страницей моей личностной летописи, подобно античным руинам, в память, назидание, укор.
А я ушёл в пустыню. Придуманную мной в надежде на спасение, в надежде убежать от соблазнов, от людей, больных проказой серости и летальной обыденности. Мне не хватало свободы. Мне не хватало воздуха. Затхлая атмосфера моего мирка, из дворца свободы превращающегося в её темницу, подтачивала силы и грозила мучительной смертью идеалам юности. Я ушёл в пустыню одиночества, чтобы утратить рабские стадные рефлексы, заброшенные в меня окружающим коллективистским миром, состоящим из множества социальных общностей, групп, пересекающихся и строго параллельных. Выйти из круговорота, в котором песчинку индивидуума воздушными или морскими течениями переносит из одной общности в другую, иногда несколько раз в день. Я шёл и чувствовал себя волхвом, который бежит суетного мира, полного соблазнов. Я без печали простился с окружающими.
Я укрылся в безмолвной пустыне одиночества. Где нет времени, только пространство, где над бескрайними просторами выжженной бесплодной земли – бездна выцветшего неба. Где можно безоглядно и безнаказанно быть собой. Где не нужно вписываться в рамки и быть любезным. Где созерцание окружающего и находящегося внутри – единственный способ действия. Но и это тоже прошло. Пустыня стала не нужна. Но сохранилась на дне засыпанного колодца потаённого и интимного. На дне самого себя. В потёмках души. Как затерянная при переезде вещь, постфактум утратившая былую ценность и найденная после того, как её место уже занято, списанная в хлам и помещённая на пыльный чердак. Моя пустыня потеснилась под натиском изменившейся жизни и трансформировалась, принимая форму теперешнего меня, перестала быть единственным способом противостояния меня и мира вокруг.
9
Киса Воробьянинов произносил эту фразу не совсем точно.