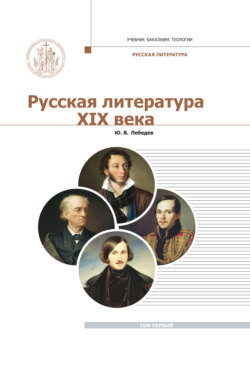Читать книгу Русская Литература XIX века. Курс лекций для бакалавриата теологии. Том 1 - Ю. В. Лебедев - Страница 14
Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)
Романтический мир Жуковского
ОглавлениеЕщё В. Г. Белинский обратил внимание на то, что «романтизм – принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзии: его источник в том, в чём источник искусства и поэзии, – в жизни… В теснейшем и существеннейшем своём значении романтизм есть не что иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца». Жуковский прямо связал поэзию с жизнью и утвердил принцип: «живи, как пишешь, и пиши, как живёшь». Программа всей жизни Жуковского – «жить для души». «Лучшее наше добро есть наше сердце и его чистые чувства», – говорит он. «Из всех людей, которых я знавал, – писал о Жуковском Н. И. Тургенев, – я не видал другой души, столь чистой и невинной».
Одновременно Жуковский закрепил новый, более высокий взгляд на поэзию. Он считал её «связующим звеном между миром земным и миром идеальным». Поэзия – отражение горнего мира, к которому стремится и о котором тоскует на земле душа. Поэзия нам его приоткрывает. В минуту вдохновения душу посещает «гений чистой красоты»:
Ах! не с нами обитает
Гений чистой красоты;
Лишь порой он навещает
Нас с небесной высоты;
Он поспешен, как мечтанье,
Как воздушный утра сон;
Но в святом воспоминанье
Неразлучен с сердцем он!
Он лишь в чистые мгновенья
Бытия бывает к нам
И приносит откровенья
Благотворные сердцам;
Чтоб о небе сердце знало
В тёмной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
Он даёт взглянуть порой…
(«Лалла Рук»)
Поэзия у Жуковского – «религии небесной сестра земная», она «есть Бог в святых мечтах земли». Поэт у Жуковского – носитель Божественной истины, а поэтическое слово зажигается от Слова, дарованного свыше. Истинные поэты не отражают, а преображают мир, и преображение это осуществляется не по их субъективному замыслу или капризу, а по воле Того, Кто пробуждает в них творческий дар. Поэт ловит отблеск вечного и бесконечного в преходящих формах земного бытия. Он не сочиняет произведение по своему произволу. Напротив, в минуту поэтического вдохновения его духовному зрению открывается тайна божественной гармонии.
Жуковский утвердил, таким образом, русское представление о христианской природе поэтического слова, о духовно преобразующей роли литературы, о действенном характере её художественных образов. Поэтом может быть лишь человек с чистым сердцем и верующей душой.
Русская литература обязана Жуковскому возвращением в неё христианского идеала. Жуковский был, по словам Белинского, переводчиком на русский язык романтизма средних веков, воскрешённого в начале XIX века немецкими и английскими поэтами, преимущественно же Шиллером. Если классицисты тосковали по Элладе и в качестве образца указывали на искусство Древней Греции, то романтики обратили внимание на христианское Средневековье. Древние, считали они, имели как бы телесную душу, но сердце, повитое христианством, совершенно иное и требует иной поэзии. Древняя душа проста. Душа христианина, напротив, нуждается в бесконечных оттенках для передачи всего, что в ней происходит.
Литература романтизма ответила религиозной неудовлетворённости европейского общества в эпоху кризиса просветительской веры в разум, наступившего после Великой французской революции, обманувшей надежды просветителей. В русских условиях этот возврат к христианским ценностям совпал с завершением становления новой русской литературы, национально-самобытной, восстанавливающей преемственную связь с культурой отечественного православно-христианского мироощущения, нарушенную в Петровскую эпоху. Во всех своих произведениях Жуковский открывал красоту христианских идеалов, и в этом главным образом заключается его национальное своеобразие.
Однако возникает вопрос, почему Жуковский для поэтического удовлетворения христианских чувств обращался к переводам немецкой и английской поэзии?
«Переимчивость» Жуковского была обусловлена историческими потребностями становления и развития языка молодой русской литературы, нуждавшейся в опоре на образцы более зрелой и разработанной литературы Запада для передачи переживаний одухотворённой души. Жуковский в своих переводах не столько воспроизводил содержание оригинала, сколько развёртывал потенциальные возможности, которые в нём были скрыты. Изучавшие русский язык по переводам Жуковского иностранцы отмечали, что стихи русского поэта казались им порой оригиналами, а оригиналы, с которых делались эти переводы, – копиями.
Сам Жуковский говорил, что в поэзии переводчик не раб, а соперник переводимого писателя: «Я часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, когда их надобно импровизировать в выражение или в дополнение чужих мыслей. Мой ум, как огниво, которым надобно ударить об кремень, чтобы из него выскочила искра. Это вообще характер моего творчества; у меня всё или чужое, или по поводу чужого – а всё, однако, моё».
Переводы Жуковского – это искусство «перевыражения» чужого в своё, Тонкий и чуткий филолог С. С. Аверинцев, сравнивая подлинник баллады Шиллера «Рыцарь Тогенбург» с переводом Жуковского, заметил: Шиллер в своей балладе – поэт-историк. Он стремится к достоверной передаче нравов рыцарских времён. Он точно воссоздает «средневековый этикет», связанный с «культом прекрасной дамы», и совсем не собирается представлять изображаемое как некий идеал для своих современников.
Жуковский, сохраняя сюжет Шиллера, наполняет его сердечным содержанием. Он стремится, чтобы его читатели приняли историю платонической любви рыцаря как образец, достойный подражания, как идеал одухотворённых христианских чувств. Героиня у Жуковского заменяет вежливое «Вы» на доверительное «ты», этикетную учтивость на живое чувство:
Сладко мне твоей сестрою,
Милый рыцарь, быть;
Но любовию иною
Не могу любить…
«Милый рыцарь» – так может обратиться к любимому православная русская боярышня, но в устах дочери владельца средневекового замка подобная нежность невозможна. Если Шиллер по католической традиции ставит в центр волю, то Жуковский, по православно-христианской, – сердце. «Смысл слов, – пишет Аверинцев, – отказ от любви, но поэтическая энергия слов говорит о другом: первая строка начинается словом “сладко”, вторая – словом “милый”<…>. Любовь как бы разлита, растворена в самом звучании: “любовию иною…”. У Шиллера будущая монахиня предлагает взамен отвергаемой земной любви отстранённое, беспорывное благорасположение. У Жуковского она предлагает – где-то за словами – едва ли не мистическую любовь, не духовный брак». И в финале она, по замечанию Аверинцева, не выглядывает из окна монастырской кельи, как у Шиллера, «а воистину “является”, как видение, без слов подтверждая, что всё, что нам померещилось за её словами в первой строфе, – правда:
Чтоб прекрасная явилась;
Чтоб от вышины
В тихий дол лицом склонилась,
Ангел тишины…
У Шиллера дева наклоняется над долиной – долина внизу, под ней. У Жуковского она склоняется “от вышины”. Долина, над которой наклоняются, – это часть ландшафта. “Тихий дол”, в который склоняются, – это едва ли не “юдоль”, не “дольнее”. Лицо, никнущее в этот “дол”, – вне земных масштабов»[6].
Столь интимное переживание духовной любви у Жуковского связано, конечно, с особенностями православия, где на первом плане стоит сердечное начало. Но дело ещё и в другом. Романтизм Жуковского, в отличие от романтизма на Западе, выполняет несколько иную историческую миссию. Шиллера отделяют от эпохи Cредневековья по крайней мере три века существования в Западной Европе светской культуры. Он смотрит на события баллады издали. У Жуковского дистанция значительно короче. Христианское миросозерцание для русского поэта не утратило свою живую силу и актуальность.
Наша светская литература ещё только вступает в стадию оформления. Начало ему положили петровские преобразования, столь недалёкий для Жуковского XVIII век. Литература создаётся в России узкой прослойкой просвещённых людей. Её окружает мощная стихия народной жизни, всецело остающейся в лоне православно-христианского сознания. На Жуковского выпадает миссия воссоединения «дворянской» и «народной» культур в единую русскую культуру. Эта устремленность к синтезу и придаёт поэзии Жуковского вневременную общенациональную значимость, которую проницательно почувствовал Пушкин:
Его стихов пленительная сладость
Пройдёт веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнёт о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.
6
Аверинцев С. С. Размышления над переводами Жуковского // Зарубежная поэзия в переводах Жуковского. Том 2. М., 1985. – С. 553–574.