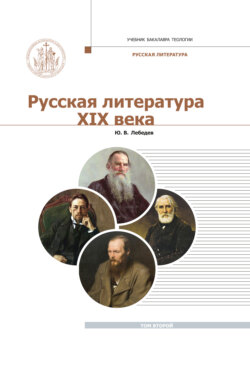Читать книгу Русская Литература XIX века. Курс лекций для бакалавриата теологии. Том 2 - Ю. В. Лебедев - Страница 38
Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883)
ОглавлениеПреходящее и вечное в художественном мире Тургенева
В одном из писем к Полине Виардо Тургенев говорит об особом волнении, которое вызывает у него хрупкая зелёная веточка на фоне голубого далёкого неба. Тургенева обеспокоит контраст между тоненькой веточкой, в которой трепетно бьётся живая жизнь, и холодной бесконечностью равнодушного к ней неба. «Я не выношу неба, – говорит он, – но жизнь, действительность, её капризы, её случайности, её привычки, её мимолетную красоту… всё это я обожаю».
Острее многих русских писателей-современников Тургенев чувствовал кратковременность и непрочность человеческой жизни, неумолимость и необратимость стремительного бега исторического времени. В ранней молодости он написал об этом стихи, которые стали в России популярным романсом:
Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далёкое,
Слушая ропот колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.
Тургенев обладал удивительным талантом бескорыстного, ничем относительным и преходящим не ограниченного художнического созерцания. Однажды он сказал: «Я чувствую себя как бы давно умершим, как бы принадлежащим к давно минувшему, но сохранившим живую любовь к Добру и Красоте. Только в этой любви уже нет ничего личного, и я, глядя на какое-нибудь прекрасное лицо, мало думаю при этом о себе, о возможных отношениях между этим лицом и мною… Возможность пережить в самом себе смерть самого себя – есть, может быть, одно из самых несомненных доказательств бессмертия души. Вот – я умер – и всё-таки жив – и даже, может быть, лучше стал и чище».
Необычайно чуткий ко всему злободневному и сиюминутному, умеющий схватывать жизнь в её прекрасных мгновениях, Тургенев владел одновременно завидной свободой от всего временного и конечного, от всего субъективно-пристрастного, приглушающего остроту зрения, широту взгляда, полноту художественного восприятия.
Наше время, считал он, требует уловить современность в её преходящих образах; слишком запаздывать нельзя. И он не запаздывал. Все его произведения не столько попадали в «настоящий момент» общественной жизни России, сколько его опережали. Тургенев был особенно восприимчив к тому, что стоит «накануне», что ещё только носится в воздухе. По словам Н. А. Добролюбова, он быстро угадывал «новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и в своих произведениях непременно обращал внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество».
Беспристрастная, лишённая эгоизма любовь к жизни позволяла ему видеть её явления во всем их многообразии, в полнокровном движении и развитии. И хотя его называли порой летописцем, создавшим художественную историю русской интеллигенции, в действительности он был не летописец, а провидец. Летописца-хроникёра ведут исторические события, он следует за ними по пятам, он описывает факты, уже совершившиеся. А Тургенев не держит дистанции, постоянно забегая вперёд. Острое художественное чутьё, бескорыстная свобода восприятия позволяют ему по неясным, смутным ещё штрихам настоящего уловить грядущее и воссоздать его, опережая время, в неожиданной конкретности, в живой полноте.
Этот дар Тургенев нёс всю жизнь как тяжкий крест. Ведь его дальнозоркость раздражала современников, не желавших жить, зная наперёд свою судьбу. И в Тургенева часто летели каменья. Но таков уж удел любого художника, наделенного даром «предвидений и предчувствий», любого пророка в своём отечестве. И когда затихала борьба, наступало затишье, сбывались его предчувствия, те же гонители шли к нему на поклон с повинной головой.
Его очевидный противник, революционер-демократ М. Е. Салтыков-Щедрин, писал: «Да и что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора? Но ведь это будут только общие места, а это, именно это впечатление оставляют после себя эти прозрачные, будто сотканные из воздуха образы, это начало любви и света, во всякой строке бьющее живым ключом…».
Забегая вперёд, Тургенев оказывался первооткрывателем: он определял пути, перспективы развития русской литературы второй половины XIX столетия. В «Записках охотника», например, уже предчувствовался эпос «Войны и мира» Толстого, «мысль народная». В судьбе Лаврецкого из «Дворянского гнезда» угадывались духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. В «Отцах и детях» предвосхищалась мысль Достоевского, характеры будущих его героев от Родиона Раскольникова до Ивана Карамазова.
В отличие от писателей-эпиков, Тургенев предпочитал изображать жизнь не в повседневном, растянутом во времени течении, а в острых и драматических ситуациях. Ведь духовный облик русских людей культурного слоя общества в середине и второй половине XIX века изменялся стремительно: «в несколько десятилетий, по словам В. И. Ленина, совершались превращения, занявшие в некоторых старых странах Европы целые века».
Это вносило драматическую ноту в романы писателя: их отличает краткая завязка, яркая, огненная кульминация и резкий, неожиданный спад с трагическим, как правило, финалом. Они захватывают небольшой отрезок времени, поэтому точная хронология играет в них существенную роль. Жизнь тургеневского героя крайне ограничена в пространстве и времени. Если в характерах Онегина и Печорина «отразился век», то в Рудине, Лаврецком, Инсарове и Базарове отсчёт идёт на десятилетия. Жизнь тургеневских героев подобна ярко вспыхивающей, но быстро гаснущей искре в океане времени.
Все тургеневские романы включены в жёсткие ритмы годового природного круга. Действие в них завязывается весной, достигает кульминации в знойные дни лета, а завершается «под свист осеннего ветра» или «в безоблачной тишине январских морозов». Тургенев показывает своих героев в счастливые мгновения полного расцвета их жизненных сил. Но именно здесь обнаруживаются с катастрофической силой свойственные им противоречия. Потому и минуты эти оказываются трагическими: гибнет на парижских баррикадах Рудин, на героическом взлёте неожиданно обрывается жизнь Инсарова, а потом Базарова и Нежданова…
Но трагические финалы в романах Тургенева не говорят о разочаровании писателя в смысле жизни, в ходе истории. Скорее наоборот: они свидетельствуют о такой любви к жизни, которая доходит до жажды бессмертия, до дерзкого желания, чтобы красота явления, достигнув полноты, превращалась в вечно пребывающую на земле красоту.
В его романах сквозь злободневные события, за спиною героев времени, ощутимо дыхание вечности. Базаров, например, у него говорит: «Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет… А в этом атоме, в этой математической точке, кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже… Что за безобразие! Что за пустяки!».
Базаров – нигилист. Он скептичен. Но заметим его смущение, даже растерянность перед парадоксальной силой человеческого духа. Ведь если Базаров осознает несовершенство человека с его смертной природой, если он этим возмущается («что за безобразие»), значит, в нём живёт иное, далёкое от нигилизма мироощущение, возвышающее его над бездушной «природной мастерской». И что такое роман «Отцы и дети», как не утверждение той великой истины, что и бунтующие против высшего миропорядка, по-своему, от противного, доказывают правомерность его существования?!
Да и «Накануне» – это не только роман о сознательно-героических натурах, стремящихся к социальному обновлению, но это ещё и роман о вечном поиске и вечном вызове, который бросает дерзкая личность слепым и равнодушным законам природы. Внезапно заболевает Инсаров, не успев осуществить великое дело освобождения Болгарии. Любящая его русская девушка Елена никак не может смириться с тем, что это конец, что болезнь друга неизлечима.
«О Боже! – думала Елена, – зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слёзы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это всё только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни… одни… а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах, всё, всё нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти… О Боже! неужели нельзя верить чуду?»
В отличие от Достоевского и Толстого, Тургенев не даёт прямого ответа на вечный вопрос. Он лишь приоткрывает тайну, склонив колени перед обнимающей мир красотою: «О, как тиха и ласкова была ночь, какой голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть перед этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами!» Тургенев не сформулирует крылатую мысль Достоевского: «красота спасет мир». Но разве все его романы не утверждают веру в преобразующую мир силу красоты, в творчески-созидательную силу искусства? Разве они не укрепляют великую надежду человечества на переход смертного – в бессмертное, временного – в вечное?
«Стой! Какою я теперь тебя вижу – останься навсегда такою в моей памяти! <…> Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по всем твоим членам, по малейшим складкам твоей одежды? Какой бог своим ласковым дуновеньем откинул назад твои рассыпанные кудри? Его лобзание горит на твоём, как мрамор, побледневшем челе!
Вот она – открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви! Вот оно, вот оно, бессмертие! Другого бессмертия нет – и не надо. В это мгновение ты бессмертна. Оно пройдёт – и ты снова щепотка пепла, женщина, дитя… Но что тебе за дело! В это мгновенье – ты стала выше, ты стала вне всего преходящего, временного. Это твоё мгновение не кончится никогда. Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск твоей вечности!»
Именно к ней, к обещающей спасение миру красоте простирает Тургенев свои руки. С Тургеневым не только в литературу – в жизнь вошёл поэтический образ спутницы русского героя, «тургеневской девушки»: Натальи Ласунской, Лизы Калитиной, Елены Стаховой, Марианны Синецкой… Писатель избирает цветущий период в женской судьбе, когда в ожидании избранника встрепенётся девичья душа, проснутся к временному торжеству все дремлющие её возможности. В эти мгновения одухотворённое женское существо прекрасно тем, что оно торжествует над своей смертной природой. Излучается такой преизбыток жизненных сил, какой не получит земного воплощения, но останется заманчивым обещанием чего-то более высокого и совершенного.
«…Человек есть на земле существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, а переходное… Существование наше есть беспрерывное существование куколки, переходящее в бабочку», – утверждает Достоевский. Тургенев молчит. Но напряженным вниманием к высочайшим взлётам человеческой души он всякий раз подтверждает истину этой мысли.
Вместе с образом «тургеневской девушки» входит в произведения писателя образ «тургеневской любви». Как правило, это первая любовь, одухотворённая и целомудренно чистая. Она решительно разрушает будни повседневного существования: «Первая любовь – та же революция, – пишет Тургенев в повести “Вешние воды”. – однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновенье, молодость стоит на баррикаде, высоко вьётся её яркое знамя, и что бы там впереди её ни ждало – смерть или новая жизнь, – всему она шлёт свой восторженный привет».