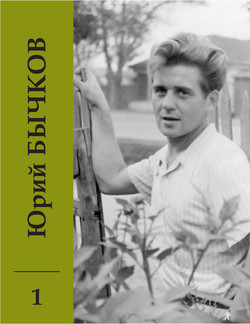Читать книгу Собрание сочинений. Том 1. Ранние стихи. С этого началось - Юрий Бычков - Страница 10
С этого началось
6 июля 1943 года
ОглавлениеБабушка вслушивалась в наш с мамой разговор, не переставая хлопотать у печки.
– Где проходил ваш концерт?
– В актовом зале… Школу приспособили под госпиталь – обычное дело. Помнишь, в Лопасне осенью сорок первого в средней школе медсанбат и госпиталь размещались?
– Помню. Из Стремилова везли и везли туда раненых, изувеченных. Одна территория с колхозом – бывшая гончаровская усадьба. Утром бегу на работу в контору колхоза, а санитары выносят из задней двери барского дома скончавшихся от ран бойцов.
– В актовом зале, как и во всех классных комнатах, – раненые. Провели нас в зал – там не счесть железных кроватей с тумбочками при них и раненые сидят, лежат, стоят, опираясь на костыли. Множество людей в белых халатах: врачи, медсёстры, санитарки; большинство – женщины. Посередине зала небольшое свободное пространство – как бы сцена. Не успели оглядеться, вошёл со свитой начальник госпиталя, подполковник медицинской службы, два просвета, две больших звезды, эмблема – чаша со змеёй на новеньких с иголочки погонах. Подошёл к нам. Улыбнулся отечески. Участливо спросил:
– К бою готовы?
– Готовы, – пропели мы хором.
Большой, внушительный в своём начальническом величии подполковник выступил вперед. Мы у него за спиной, что горсть воробышков под застрехой.
– Товарищи раненые и выздоравливающие, коллеги, перед вами выступят сейчас школьники Лопасненской неполной средней школы.
Первым, так договорились заранее, читал стихотворение Константина Симонова пятиклассник Виталик Перепёлкин. Росту он был поистине перепёлочного. Голос у него всё равно что колокольчик: пронзительный, звонкий, необыкновенно высокий.
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть жёлтые дожди.
Жди, когда метель метёт.
Жди, когда жара.
Жди, когда других не ждут, позабыв вчера.
У некоторых бойцов и наиболее чувствительных представителей медперсонала на глазах закипели слёзы. Виталика проводили горячими аплодисментами. Со всех сторон заставленного кроватями пространства к нему тянулись руки.
Теперь моя очередь. Страх сковал от маковки до пят. Ещё бы – это моё первое в жизни выступление перед множеством незнакомых людей, перед публикой, перед слушателями. Совсем иное дело – петь запомнившиеся песни Утёсова в кругу приятелей, школьных товарищей. Даже собьёшься – не беда: ничего не стоит поправиться, начать песню сначала. Они, мои друзья-приятели, и уговорили поехать в Серпухов. Многие начинают с подражания тем, кого признали своими кумирами. Мой кумир все военные и первые послевоенные годы – Леонид Осипович Утёсов. Я со всем вниманием, на какое был способен, когда он пел по радио, старался удержать в памяти краски утёсовского голоса. Мне по душе то, что в его исполнении на первом месте не вокальное начало, не сила голоса, а душевность интонации, характерная, только ему дававшаяся мужская проникновенность, берущее в плен обаяние тона. Утёсов пел сердцем. Это чувствовали, сознавали миллионы его поклонников.
Как я имитировал знаменитого певца, судить не мне. Весь наш концерт, и та песня, что решился петь в госпитале, в общем, вряд ли в радость, в утешение, но ведь и время – суровое, жестокое до крайности.
Начальные слова прозвучали тихо, испуганно, голос дрожал. Что же так? Сдаёшься? Ни за что! И понемногу стал выправляться, почувствовав поддержку слушателей.
О чём ты тоскуешь, товарищ моряк?
Гармонь твоя стонет и плачет.
И ленты повисли, как траурный стяг.
Скажи нам, что всё это значит?
Пытаюсь басить, растягивать по-утёсовски гласные и вижу на лицах перебинтованных, загипсованных, искалеченных бойцов желание подсобить, подтянуть, помочь взять высокую ноту.
Концерт для «раненых и выздоравливающих» происходил в конце мая, а теперь – разгар лета, шестое июля сорок третьего года. Мы с бабушкой вернулись с полдней, и она, отстранившись от печки, на кухонном столе разливает из подойника по крынкам молоко. Уже дно почти показалось, как она спохватилась.
– Что ж это я? Забылась грешная… Юра, где битон-то? (Лопасненцы перекроили французский «бидон» на более благозвучный, как им кажется, «битон».) Тебе на молокозавод идти – там до трёх часов принимают.
Алюминиевый, лёгкий, как пух, бидон наполняется молоком. Бабушка, накрыв горловину марлей, втискивает поверх ткани крышку и с хозяйской заботливостью наставляет:
– Юра, неси битон аккуратно, не вздумай вприпрыжку бежать.
– Ба, не получится. После утрешней косьбы да прогулки с подойником в руке на полдни мне бы ноги протянуть, соснуть часок в тёмном чулане – а некогда.
Анна Игнатьевна не унимается – ей не терпится что-то важное в деликатной форме, не в лоб, внушить мне.
– Я о чём беспокоюсь? Нельзя пролить даже капли молока. Запомни: «по капельке море, по былинке стог». В битончике три литра – наша капля в общий котёл. Плохо-бедно четыреста литров за год в помощь фронту, раненым в госпиталях.
Не пускалась она прежде в такие рассуждения. Значит, война каждому предъявила свой счёт. Чем ты помог фронту? Есть над чем задуматься. В самом деле, взять нашу семью. Бабушка, к примеру. Еле жива. Кожа да кости, а соберётся с духом, идёт на полдни, доит корову и сознаёт своё участие. Помнит, что два сына на войне, каждое мгновение помнит о них. Мама трудится за пятерых, по крайней мере. Уполнаркомзаг, колхоз, где на ней учёт, финансы, и чуть где затормозилось колхозное производство, бежит туда – вникает, советом и делом помогает, сил не жалеет. Сестра моя Галя ещё в школу не ходит, а по дому – первая помощница. На ней наш птичий двор: накормить, проводить на пруд утром, приглядывать за стадом гусей и уток, вечером загнать их во двор. Это всё её работа, и немалая… А я?
Загудел, запел пастуший рожок. Послышались приглушённые толстым слоем пыли хлёсткие удары многометрового пенькового кнута. А вот и бабушкин голос за дверью чулана:
– Вставай, касатик Юра! Мальчик, вставай!
Я поднимаюсь. Не мешкая, топаю к рукомойнику, плеснув на лицо две-три горсти холодной воды, утираюсь свежей холстинкой, сбегаю по лестнице на крыльцо и, набирая ход, бегу вниз по Почтовой к перекату на Лопасне. Босым ногам мягко, тепло, уютно – толстая подушка пыли на немощёной проезжей улице не успела остыть за короткую июльскую ночь. На перекате предпочитаю не прыгать с камня на камень, стремясь ног не замочить, а решительно, подтянув брюки до колен, вступаю в речную стихию. Вода в реке не холодная, но бодрящая, приятная на ощупь. Я спешу, спешу в колхоз – надо поспеть к наряду. Нарядчик, бригадир Алексей Иванович Ларичев, пока солнце не встало, успел отбить три косы.
– Твою с оттяжкой в полсантиметра прохожу – увидишь, что и это жало бруском сточишь полностью. Пойменный заливной луг под Борис-Лопасней за два приступа, утрешний и вечерний, должны одолеть, – вдохновляет меня фронтовик-лейтенант, с не из влечённой из позвоночника вражеской пулей. – Всех стариков поднял на это дело и вас, молодых орлов, не забыл. Трава страсть как хороша! Сам ходил смотреть: выше пояса и вся в цвету. Ну иди заправляться и скорее сюда. Двинем гуртом. Семь мужиков набирается. Иван Кузьмич Колесов, Семён – тьфу! – отчество забыл, Тупицын, Костиков Митрич, Константин Петрович Коннонов, Витька Муницын, Юрка Бычков, Лёшка Ларичев и примкнувшая Маша Кузовлева.
Избёнка, срубленная вблизи хозяйственного двора, как магнит, тянула к себе пролетариев, готовых воплощать в жизнь лозунг «Всё для фронта, всё для Победы» после того, как заправятся в щедрой на угощенье избушке.
Председатель колхоза «Красный Октябрь» Александра Алексеевна Аксёнова – хозяйка догадливая, женщина большого сердца. Труженик, получив в нарядной задание на весь рабочий день, шёл к избушке, и ему выдавалась через окошко миска картофельного пюре с куском мяса, краюха хлеба, большая кружка молока. Заправившись, все с охотой, хорошим настроением шли на работу. Добротный завтрак не входил в оплату труда. Забота о людях, разумная «нерасчётливость» председателя колхоза Аксёновой сторицею отзывалась на итогах работы, на урожайности, которая все военные годы била предвоенную.
Бригада косарей, «перекурив», отправилась на место сенокосной страды. Деды ворчали, жалились, что обильная роса расквасила обувку и вымочила порты.
В моей биографии косца шестое июля сорок третьего года – начало третьего сенокосного сезона. В общем, кое-какой опыт и стаж набирались. Помню, как в августе сорок первого в Маруихе, у восточной окраины Долгого луга, шло обучение, привыкание и втягивание в косьбу. В самом начале – так, детские игры: строил шалаш, вырезал и долго прилаживал рукоятку к ручке косы, окашивал, как мог, становище. И вот наконец мой первый проход вместе с мамой и тётей Нюрой, третьим в шеренге косцов. Трава на лесных полянах не то что в приречных лугах – довольно редкая, лёгкая, праховая. На ней-то я со своей кое-как отбитой моими детскими руками (десять лет только!) косой проходил обучение.
Видя, что у Юрика-Мальчика лезвие косы то и дело зарывается в кочку, бывший муравейник и даже просто пикирует в землю, мама терпеливо повторяет:
– На пяточку нажимай!
Я с большим старанием нажимал, и тогда случалось, что стальной носок лезвия косы взлетал выше головок лесных цветов, мама, бывало, аккуратно положит косу, свой бережно хранимый рабочий инструмент, на середину прокоса, подойдёт ко мне и покажет в какой уж раз, как с пяточки, чуть-чуть наклоняя носок книзу, вести косу по выгнутому полукругу, сбривая все до единой травинки, при этом не зарываясь в землю.
– Широко не бери, – видя, как вместо полукруга я стараюсь замахнуться на три четверти окружности, поправляла меня опытная Татьяна Ивановна, – быстро умаешься.
Два года прошло – к косе я привык, прирос, можно сказать, к её ручке и рукоятке. Вот ведь в какое ответственное дело включили. Только держись! Самый ценный по питательности луг нацелились сегодня убрать.
Встали вдоль дороги, бегущей к переезду через реку Лопасню. Сняли и бросили на траву верхнюю одежду. Перед тем как начать косьбу, бригадир для важности поплевал на ладони и сказал приготовившимся встать в цепь:
– Чтоб мне не отставать, не выбиваться из шеренги. Взялись! Ребятки, держитесь!
Последние слова явно относились ко мне и Витьке Муницыну. Меня и Витьку он поставил так, чтобы и спереди и сзади шли матёрые косари, деды. Все в цепи, кроме нас, двенадцатилетних, матёрые – мужчины непризывного возраста, а вот опыта, силы, сноровки им не занимать. Бригадир знал, что деды будут стараться показать себя, заткнуть за пояс «молокососов», и взял на себя заботу задать такой темп косьбе, чтобы не было в этом мирном бою потерь.
Лёшка-бригадир шёл передом, ведя широкий, как по шнурку отрезанный, ряд. Со стороны смотреть, он без усилий срезал высокую, густую, в венчиках распустившихся цветов луговую благодать. Мерный взмах косы – и целая охапка травы откладывается в пышный, высокий вал, образующийся у левого края прокоса. «Что ни взмах, то готова копна», – вспомнился не только мне одному Некрасов.
Один за другим косцы вступали в шеренгу. Взялись рьяно – свежие силы, утренняя прохлада, густая роса, как хорошая смазка, мягчила траву, облегчая ход лезвия косы. Косьба и весёлая, и трудная работа. Надо меньше полагаться на мышцы рук – больше работать корпусом, включать массу тела (впрочем, какая там масса у мальчишки, которому ещё не исполнилось двенадцати лет), и главное – сноровка.
Волнисто склоняющиеся под давлением идущего в откат длинного стального ножа стебли травы стоят перед устремлёнными на лезвие косы глазами. Вжик! Вжик! Вжик! Ряд при такой сосредоточенности выходит ровный, почти как у идущего впереди меня Константина Петровича. Важно не думать о движении косы, о том, как бы перед очередным вторжением лезвия в густоту травы не захватить тех самых, склонившихся волнисто стеблей больше, чем тебе по силам.
Бригадир, мах за махом, идёт передовым шеренги, не останавливаясь, не меняя темпа, словно он не устаёт вовсе. Лязг кос и сопровождающие его высокой частоты обертоны – музыкальное сопровождение сенокоса. Моя забота – далеко не отпустить Константина Петровича. Если упустишь, придётся подтягиваться до него, почитай, весь «перекур», а как хочется хотя бы на несколько минут повалиться на мягкий пахучий вал скошенной травы.
Митрич, подпирающий меня сзади, косой машет часто, наклонился вперёд, полусогнутый, навис надо мной – лучше не оглядываться. Подступает усталость. Кажется, вот-вот коса выпадет из рук. Когда же перекур? Но сдаваться нельзя. Приходится напрягать невеликие мальчишеские силы, чтобы из-за личной слабости, нестойкости не остановить движения всей шеренги косцов.
Бригадир остановился, отёр пучком травы лезвие, скомандовал:
– Перекур!
По прокосу своего ряда с косою на плече он прошёл в обратном направлении те сто шагов, что одолели мы. Алексей Иванович бросил косу в траву, сел на свою старенькую, засаленную телогрейку, скрутил цигарку, закурил. Любуясь его прокосом, приблизился к нему:
– Как красиво! Ровно, чисто…
– Да, косёнка чисто бреет… Ну как, Юрка, Митрич тебе ещё пятки на студень не обрезал?
– Висит на хвосте. Спасибо, ты косу мне отбил классно. Становится тяжело – остановлюсь и по косе: «Дзинь! Дзинь!» Направил лезвие и вперёд, бегом, бегом от Митрича, который косу медленно точит, по-стариковски.
– При косьбе не следует частить. Собьёшь дыхание, скапустишься – бабы засмеют.
Последующие ряды дались легче – пришло второе дыхание, как в беге на длинные дистанции или лыжных гонках.
К десяти часам утра роса испарилась со стеблей и листьев травы; косы по команде бригадира были подняты вверх и тут же уложены на полок прибывшей из колхоза с подкреплением телеги. Вооружившись привезёнными новенькими, свежеструганными граблями, принялись разбивать ряды. Посланные нам на подмогу бабы в ярких кофтах и длинных ситцевых юбках, раздувавшихся от ветра (они их поминутно гасили, как парашюты), ворошили, перетряхивали разбитые ряды, а мы зубоскалили, обмениваясь с ними солёными шутками, и не выпускали из рук новеньких граблей. С ними, полюбившимися граблями, разошлись по домам. Сиеста – полуденный отдых наступил? Для кого как…
Ещё не поднявшись на второй этаж, сидя на лавке у летнего рабочего стола, перочинным отцовским ножичком я вырезал на колодке граблей: «6 июля 1943 года». Эти грабли стали реликвией. Шестое июля – день начала исторической Орловско-Курской битвы.
Поднявшись наверх, застал бабушку в зале, слушающей радио. Особенно важный, значительный, подчёркнуто весомый голос диктора Юрия Левитана сообщал о танковых и воздушных сражениях небывалого масштаба. Впервые прозвучало – Орловско-Курская дуга. По названному в сообщении Совинформбюро, в течение одного дня, количеству подбитых танков и сбитых самолётов противника (это сотни единиц боевой техники) можно было понять, почувствовать, что там, на Орловско-Курской дуге, происходит решающая схватка двух противоборствующих армий. Как завершится сражение, можно только гадать? Нет! Тон сообщения Совинформбюро обнадёживал; видимо, исход сражения в Кремле был известен.
Бабушка, как только Левитан умолк, напомнила мне о нашей с ней ежедневной обязанности:
– На полдни пора идти.
Выйдя во двор, вылил на себя ведро воды, насухо вытерся махровым полотенцем и бодрым голосом прокричал:
– Ба, я готов!
Удивляюсь, как это бабушка и мама не научили меня доить корову. Тогда бы у насквозь больной, ветхой бабушки не было бы необходимости тащиться на полдни. Но вот не научили, поскольку такого и вообразить не могли. Мужчины в Лопасне отродясь коров не доили! Так-то вот. Предрассудок, да и только…
Мы шагаем вдвоём с отощавшей, изболевшей, в чём душа держится, Анной Игнатьевной вверх по Почтовой, идущей параллельно прямой как стрела Московской улице. В верхней своей части наша Почтовая, немощёная, вполне деревенская улица, поворачивает вправо и упирается в асфальтированное шоссе, центральную улицу райцентра Лопасня – Московскую улицу. Последние дома Почтовой стоят редко, отчего и справа и слева образовались лужайки с травой-муравой, на одну из которых мы присаживаемся отдохнуть. Бабушка заглядывает в подойник – не забыли ли чего. Вот угощение для Мурки – завёрнутый в чистую тряпку ломоть подового хлеба, посоленного крупной солью; там, в подойнике, ещё и ватрушка.
– Ватрушку съешь на полднях, пока я корову буду доить. Рассиживаться нам не следует. Смотри, Кирилловна уже за шоссейкой пылит, и Марья Тимофевна за ней ухлёстывает.
Я подаю бабушке руку. Она встаёт, благодарно целует меня в макушку:
– Юраша, подай мне палку, наклониться мочи нет.
Мы переходим пустынное шоссе; машины зелёного окраса, военные, теперь редкость, фронт далеко.
До полдней в Дубровке мы с бабушкой добираемся за полчаса. Пастухи облюбовали на окраине берёзовой рощи удобное для всех место. Хозяйка норовит на полднях поговорить с пастухом о своей коровёнке-кормилице. Ищут возможности завести такой разговор прежде всего те, у кого корова беспокойная, упрямая. Такой что кнут, что окрик, что ласка – знай себе прёт в чащобу и не выудить её оттуда. Наша Мурка – умная, послушная животинка. Её не приходится выискивать на полднях: стоит вблизи излюбленной ею большой берёзы и призывно мычит. Посоленную краюху в награду подаю ей я. Она заглатывает вкуснятину в мгновение ока и тёплым шершавым языком в благодарность лижет мою руку, заодно подбирает с ладони прилипшие хлебные крошки. Бабушка моет, протирает сухой, чистой тряпкой вымя коровы и, сев на раскладной стульчик, подвигает к себе подойник. Струи молока громко, гулко ударяют в жестяное дно, и вскоре под ловкими, привычными к дойке пальцами вскипает белая пенящаяся масса, молочная кипень.
Пока не у дел, обхожу по краю леса известные мне грибные места и вручаю закончившей дойку бабушке десяток отменных белых – столько смог донести в двух руках. Она нахваливает внука:
– Добытчик ты наш, Юраша! На жарево в пять минут собрал, – приговаривает и складывает грибы в ситцевый головной платок, связывает четыре конца крест-накрест.
Пускаемся в обратный путь. Каждый думает свою думу. О чём думает бабушка, можно догадаться: о прожитых годах, о детях и внуках, о тяготах войны, о своём, как она говорит, никудышнем здоровье. Лёгкие на ткацком производстве Анна Игнатьевна сгубила. Чуть что, малейшая простуда, и как следствие – воспаление лёгких. Единственное лекарство, дефицитное, конечно, это сульфадимезин, если правильно я выговариваю мудрёное латинское название.
У меня же в голове после полдней одно – грибы пошли! Надо как-то выгадать кусочек времени и сбегать в Дубровку за белыми. Где ещё такой лес встретишь! Чистый, прозрачный березняк в поре наступающей спелости одаривает лопасненцев несметным количеством белых грибов. Сущий грибной рай. Если удавалось выбраться в Дубровку на второй или третий день после тёплого июльского грибного дождя, то без полной, как у нас говорят, с краями, корзины белых я домой не возвращался. В мою, средней величины, корзину вмещалось 180–200 грибов. Это были классные белые грибы. Судят о качестве белых не по окрасу шляпок – многообразие оттенков коричневого тона не в счёт. Это радость для глаз, и только. С исподни, с изнанки шляпки белого гриба и нужно судить о его ценности. Из Дубровки (видимо, в стародавние времена здесь шумела широколистая дубрава – отсюда и название) в моей корзине прибывали на бабушкин кухонный стол белые грибы высшего качества. Выставишь их все разом на столе вверх ножками и любуйся: изнанки шляпок белые, с лёгким, едва различимым кремовым оттенком, а ножки – это другое дело, они обычно успевают слегка загореть на солнце. Грибы в Дубровке редко достигали перезрелого возраста, когда шляпка большущая, в пядь, а испод её уже начинает зеленеть или позеленел вовсе.