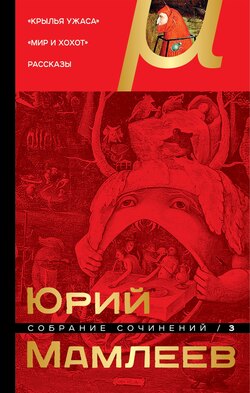Читать книгу Собрание сочинений. Том 3. Крылья ужаса. Мир и хохот. Рассказы - Юрий Мамлеев - Страница 9
Крылья ужаса
VIII
ОглавлениеГалюша решительно предложила зайти всем оставшимся (Люде и Петру) к ней домой, в ее квартиру из двух уютных комнат, благо мужа с сынишкой десяти лет она отправила в деревню – отдыхать.
Шли – даже по земле – осторожно. Лестница была скрипучая, деревянная, и квартирки, как норки, теснились здесь плотно друг к другу. Но у Гали оказалось очень родимое, вовлекающее гнездо, где можно было быть самим собой. Дружелюбно расселись за столиком с простой клеенкой, у окна, за которым трепетал клен.
Галя быстренько собрала – для уюта – маленький ужин под ту же наливочку, которая у нее была неиссякаемая.
Но внезапно – за стеной, в соседней квартире – раздался резкий истерический крик, послышалось падение чего-то тяжелого и затем не то ворчание, не то сдавленный стон.
– Ох, как раз с этой квартирой беда, – вздохнула Галя, – ведь там живет Ира.
И она посмотрела на Люду. Петр немного заволновался – по интеллигентской привычке.
– Ничего, ничего, Петр, – и Галюша сладко опрокинула в себя рюмку с наливочкой. – Люда знает, у нас в доме жильцы все смирные, бывалые, ну, конечно, Мефодий со странностями, но только одна эта семья Вольских не удалась. И как раз наши соседи.
Крик повторился.
– А что за Ира, что за суровая женщина? – спросил Петр.
– Какое! Девочка 13 лет.
– Ого!
– Она кого хошь на себя наведет, хотя сама в малых летах. Я, Люда, скажу, что нарочно своего Мишку в деревню сплавила. А то боюсь: Ирка попортит.
– Хороша! – вставила Люда.
– Да, у нее глаза-то какие, Люд, тяжелые и опять же безумные, ты сама мне говорила, – ответила Галюша, взглянув на невидимый во тьме клен. – Потом, Зойка, ее мачеха, мне рассказывала, что она крест нательный чей-то украла и оплевала… Ну, зачем это ребенку, она ж не понимает в этом, а так ненавидит крест изнутри. Тут что-то не то!
– Месть за детские крестовые походы, – рассмеялся Петр.
– И все-таки ее жалко, Ирку, – поправила Галюша.
Опять раздался истерический крик.
– Я б сынка своего и на лето при себе оставила, да боюсь Иркиного разврата. Хоть с квартиры съезжай, – совсем задумалась Галя.
История Иры – по большинству источников – была такова. В тяжелые, послевоенные годы ее мать-одиночка побиралась вместе с ней, с малолетней девочкой, по деревням и городам, где-то в запредельной глуши, в Сибири.
Однажды мать забрела на край маленького города, в какое-то общежитие, на отшибе, где жили рабочие какого-то далекого племени, собранные бог весть откуда. Хотела мать чего-нибудь попросить у них и сплясала для этого, по своему обыкновению. Но вместо отдачи рабочие эти, убив, съели ее, а про девочку-малютку позабыли. Ели они ее в большой общежитской столовой, сварив предварительно в котле. А забытая девочка ходила между ними, сторонилась и молчала, глядя, как они ели.
Потом один рабочий, наевшись, пожалел ее, спрятал и затем вывел в город. Говорили потом, что девочка все-таки не осознала в точности, что случилось с ее матушкой-плясуньей.
В городе ее приютили добрые люди, потом передали другим людям, потом официально выяснилось, что ее мать съели, и это было записано в закрытой Ириной характеристике, в детском доме. Прочитала как-то эту характеристику бездетная тридцатилетняя женщина Зоя Вольская, сама плясунья и шалунья, застрявшая в сибирском городке проездом из Москвы. И пожалев сиротку, особенно потому, что с ее матерью так обошлись, взяла девочку к себе, в Москву, в дом номер восемь.
Жила Зоя там в квартире вместе со своим оголтелым мужем Володей и со своей матерью Софьей Борисовной, старухой со скрытыми странностями.
И жизнь Иры потекла более или менее нормально, до тех пор, пока у нее самой не обнаружились – уже открытые – странности. Но до этого все шло хорошо. Зоя, правда, все больше и больше спивалась, лихо и неестественно: красавица она была, хотя и не нашедшая себя. Володя был чуть дурашлив, хотя в то же время чересчур строг; тайно сожительствовал он и со своей тещей, Софьей Борисовной, со старушкой, но это было как-то вне его сознания и мимоходом. Зато Софья Борисовна заботилась о нем. Зоя же об этом ничего не знала: ее и саму несло бог весть куда, и она нередко пропадала целыми ночами. Ира же росла здоровой девочкой. Жильцы были кругом тихие, радушные и проникновенные: Иру никто не обижал. Ненормальность у Иры обнаружилась как раз с того времени, когда у нее, у ребенка, появился почти взрослый ум. И вообще многое у нее было связано с умом. Все это достигло кульминации совсем недавно, когда Ира предложила Володе оставить Зою и сожительствовать с нею одной. Зоя потом, ругаясь, рассказывала об этой истории Гале. А до этого была дикая, неостановимая похоть, которая бросала Иру от мужика к мужику, в сад, в канаву, куда угодно…
Этим она совсем свела с ума своих новых радетелей. Была она девочка крупная, в теле, с брюшком, несмотря на детство, и с быстро развивающимся, как змея, острым умом. Уже в одиннадцать лет она страстно мечтала устроить свою жизнь, поскорее стать взрослой, чтобы пожить по-своему, в сладости и независимо.
В двенадцать лет она потеряла свое девство в пионерском лагере, с пионервожатым, которого умудрилась сама же соблазнить. Ее чудовищная безудержность в этом отношении переполошила весь двор, и все ее стали сторониться как чумы. Даже в школе недоумевали и не знали, что делать, стараясь не замечать…
Действительно, ее сладострастие не знало границ: даже во время приготовления домашних уроков она звала Володю и терлась около него, пока он, полупьяный, объяснял задачку.
Простая подушка превращалась для нее в стимул страсти, и пот наслаждения все время стекал по ее лбу.
Особенно выводило это из себя Зою. «Я когда-нибудь удушу ее», – думала она в тишине. Особенно бесила ее эта наглость и беспрерывность сладострастия любым путем, в соединении с детским пухлым личиком и невинными годами. Было и еще нечто тайное, что, может быть, больше всего изводило Зою изнутри.
А ум у девочки продолжал развиваться не по дням, а по часам. Она уже творила невероятные подлости. И во всем этом виделось желание жить, жить, чтобы расширить поле сладострастия, чтоб стать скорее взрослой, чтоб не упустить свое…
Детишки пугались Иры и удирали от нее. А ее расчетливость приводила в ужас жильцов, которые любили другую жизнь.
Люда познакомилась с Ирой почти сразу же, как переехала сюда, в дом номер восемь по Переходному переулку. Первым делом Ира попыталась и ее соблазнить: вообще ей было все равно, кого «соблазнять» и чего (хотя бы угол стола), и она уже имела опыт любви с девочками. Люда, утихомирив ее и отстранив, стала тем не менее страшно жалеть ее, сама не зная почему. Хотя жалеть ее было трудно: она непрерывно делала посильные подлости кому могла. Вот тут ее «расчетливость» разрушалась силою детской импульсивности и бесконтрольности, и она порой вызывала к себе ненависть и отвращение, хотя жильцы умудрялись ото всего быть отключенными.
Однако Мефодий пристально раскрывал на нее свой болотный зрак. Выл он только не раз, глядя на нее, а на других никогда не выл. Было в ней, ко всему, еще что-то тяжеловатое, страшное, и это «что-то» выражалось во взгляде, который одновременно был каменным и безумным, как определили этот взгляд Галюша с Людой.
– И чего она так мир етот любит, – ворчал пьяный инвалид Терентий. – Ведь в етом миру ее мать на ее глазах съели… Что ж у нее за глаза после этого такие жадные? Другие бы после такого ни на что не глядели, а у ей…
И он махал хмельной рукой.
Да, жадна была Ира до жизни, но любила «етот» мир Ира по-своему.
Такова была эта девочка, чей крик раздавался за непрочной стеной Галюшиной квартиры.
– Позвать милицию, что ли, – не выдержала наконец Люда.
– Ежели будет так дальше, то позовем, – неуверенно пробормотала Галя.
Однако вскоре шум затих, но потом дверь Галиной квартиры распахнулась, и на пороге появилась сама Зоечка, растерзанная и с папиросой в руке.
Она вся дрожала.
– Не могу я с ней, не могу! – проговорила она. – Дайте водки!
Галя плеснула наливочки.
– Вечная сластена, – недовольно взглянула на нее Зоя, но наливку залпом выпила. – Ух!
– Ну, что? – спросила Галя.
– Ничего не хочу говорить.
Видно, Ира так сексуально набедокурила, что Зоя не находила и слов или даже стыдилась. Закурив, она присела на стульчик и замолчала.
– Да отдайте вы ее куда-нибудь, хоть в детдом, – взмолилась Люда. – Добром это все не кончится!
– Не можем. Такое стечение обстоятельств. Долго рассказывать, но по документам теперь она наша подлинная дочь, и мы ее сдать государству не можем.
Зоя встала, походила по комнате и начала ругаться, проклиная свою судьбу, наговорила что-то нехорошее на ангелов и исчезла за дверью, хлопнув ею как следует, но перед этим выпив еще на прощание целый стакан наливки.
– Что ж она такое могла натворить? – вслух рассуждала Галя. – Ума не приложу. Кажется, уж чего она только не вытворяла, ко всему привыкать стали. Только что с собакой не спала, но у Вольских собак нету.
– Такая уж ее звезда, – вздохнула Люда.
– Из того, что ты говорила мне, Люда, думаю, крепкие знания тут нужны, чтоб помочь Ире. Но это неспроста, – проговорил Петр. – Это необычный случай. И простая медицина тут не поможет. Как ты считаешь, можно ли кого-нибудь найти в Москве из знатоков таких ситуаций?
– Надо подумать. Жаль девочку. Уж чересчур все это. Но в ней, в ней ведь все дело. И потому как можно изменить? Чужую звезду ей не привесешь. Но поискать надо, и ты поспрошай…
Шум за стеной стих, казалось, навсегда. Выпив по последнему глоточку, все наконец разбрелись: Люда спьяну осталась ночевать у Гали, а Петр уехал на такси домой.
Девочкам среди ночи казалось: что-то бьется и шевелится. Но ни о чем подумать было нельзя, сковывали сновидения.
Люда не хотела в этом признаваться даже Гале, но с Ирой ее связывал какой-то внутренний ночной союз, скорее даже не «союз», а, может быть, бред, точно ее темное «я», ее двойник, тянулся к Ире.
Помимо чисто внешних встреч – на улице, во дворе (в конце концов, девочка была ее соседка) – произошло еще что-то, но уже в душе Люды – только в ее душе. Никто кроме нее не знал об этом, лишь, может быть, сама Ира отдаленно чуть-чуть догадывалась, ничего не понимая в целом.
История была такова.
Несколько раз Люда, наблюдая за девочкой, поражалась ее внутреннему состоянию – вдруг в каких-то чертах очень сходному с ее собственным: так, по крайней мере, казалось Люде.
Однажды они вместе были на опушке леса. Ира лежала в траве, почти голенькая. Внезапно поднялась сильная буря. И сразу же одно дерево – видимо, гнилое – начало падать на землю, прямо на Иру. Она в ужасе отползла. А потом замерла, лежа, чуть приподнявшись. Глаза ее неподвижно впились в мертво-лежащее дерево, которое чудом не раздавило ее, как лягушку, наполненную человеческим бытием.
И Люда видела, как прозрачно-дрожащий пот покрывал ее лоб, плечи, как дрожали линии живота. Это не был обычный физический страх, а безмерный, отчаянный, как будто все мировое бытие соединилось – в ее лице – в одну точку, и эта точка могла быть раздавлена – навсегда. Ужас превосходил человеческий, хотя сама девочка, может быть, этого не осознавала. Люда видела только – особенно отчетливо – ее дрожащее, точно в воде, лицо и глаза, застывшие в безумном космическом непонимании за самое себя.
Во всяком случае, все это Люда мгновенно ощутила в подтексте ее страха.
«Девочка еще не может все осознать, – подумала Люда. – Но подтекст, подтекст. Я чувствую, это мой подтекст, мои прежние бездонные фобии за себя в детстве… Когда нет бога и вообще ничего нет, а есть только ты – одна как единый космос, – и ты должна быть раздавлена. Фобии плоти и «атеистических» парадоксов в детстве и ранней юности».
Потом Люде стало казаться: она преувеличивает, у Иры не может быть такой подтекст, потому что это слишком сложно для нее, и, наконец, не может быть такого поразительного сходства. Тем более во многом другом девочка отталкивала Люду и даже пугала ее. Ирины холодные глаза, с тяжеловатым бредом внутри, хохот, грубая открытая сексуальность вызывали отвращение.
«Какая это не-я», – говорила тогда самой себе Люда.
Но внезапно тождество опять всплывало, и самым странным образом.
Однажды Люда увидела, как Ира спала – одна на траве. Она замерла в трех шагах, глядя на нее. Ира спала как все равно молилась своей плоти (своей родной, дрожащей плоти), точнее, бытию плоти, и формой молитвы было ее дыхание – прерывистое, глубокое, страшное, идущее в глубь живота… (с бездонным оргазмом где-то внутри).
Все это вместе и отвращало и влекло Люду к ней: патологически влекло, точно она видела в ней свое второе «я» или темную сторону своего «я». «Но почему темную, – возмущалась в уме Люда, – просто… таинственную сторону… Боже, как она дрожит за свое бытие. (Ее смерть будет как мучительный прерыв оргазма.) Да-да, есть что-то общее у меня с ней, до сумасшествия, но в то же время и какое-то резкое различие, до отвращения к ней. А в чем, в чем дело на самом глубинном уровне – не пойму. Иногда мне хочется сжать ее и зацеловать, иногда – проклясть… Брр!»
И еще – один ее знакомый (словно день превратился в сон) сказал ей: «Да, да, вы очень, очень похожи…»
Ира стала даже сниться ей, словно девочка, как змея, вползала внутрь ее собственного бытия, слилась с ним, и обе они – Ира и Люда – выли вместе в ночи: от страха и блаженства быть, покрываясь смертным потом, словно приближался к ним – в ночи – грозный призрак, готовый остановить их сердца.
Люда и сама – в полусне, в полубреду – хотела бы съесть собственное сердце – от наслаждения жизнью и чтобы чувствовать в своем нежном рту его блаженный стук. «Кругленький ты, как земной шар», – стонала она во тьме, прижимая руки к груди, где билось оно.
Ируня пугала ее еще и некоторым сходством – духовным, конечно, – с тем мальчиком, в которого она была влюблена в детстве и который исчез. Тот-то вообще сошел с ума, надломился от чувства самобытия – и потому навеки пропал.
«Где мальчик-то, где мальчик?» – бредила Люда порой во сне. Тьма ночная тогда наступала на нее, и видения в мозгу путались с мистически-тревожным биением собственного сердца. Плоть превращалась в дрожащую воду, в которую смотрели звериные призраки. И только возвращение из сна к дневному блистательному «Я» – спасало ее от привидений.
Днем, конечно, Люда могла полностью контролировать себя, и собственный Свет сверху над головой (как у браминов – улыбалась она самой себе) умерял метания плоти и ночного «я», и она ужасалась Ириной извращенности и грубости.
– Она уже сложилась, она будет такой и взрослой, – думала Люда. – Что-то в ней есть такое глубокое и хорошее, но повернутое не в ту сторону и превратившееся в свою противоположность. – И она порой вздрагивала, глядя на Иру, от каких-то странных ассоциаций.