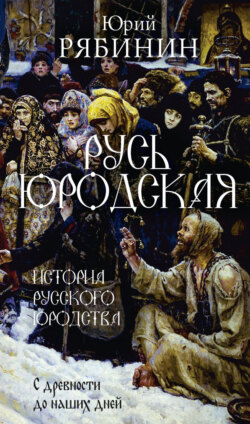Читать книгу Русь юродская - Юрий Рябинин - Страница 11
III. XVIII-XIX века
Скоро вся Hоссия будет печь блины!..
Ксения Gетербургская
ОглавлениеВ конце XVIII века в Петербурге на Смоленском кладбище строилась новая церковь. Большая. Соборная. В столице величайшей в мире империи и кладбищенская церковь должна быть величественной, монументальной, какими не во всяких епархиях и кафедральные соборы бывают. Уж как старались каменщики – от зари до зари на лесах копошились, – а все не очень-то дело у них подвигалось. И то сказать, они же не только стены работают, но и камень затаскивают на верхотуру, и известь замешивают, и леса наращивают. Да мало ли всяких забот на стройке. Но вот как-то утром приходят работные и видят: на самом верху, на лесах, полно кирпича лежит, только бери и клади в ряд. Обрадовались артельщики и ну за дело. Много больше обычного в этот день сделали. На другое утро та же история: приходят мастеровые, а леса уже ломятся от кирпича. Тогда придумали они остаться после работы тайком при храме и подкараулить, кто же это им помогает? И вот сидят они ночью в засаде и видят: пришла на стройку маленькая, худенькая старушка, простоволосая и босоногая, и давай таскать кирпичи. Много ей, конечно, не унести, но возьмет штучки три-четыре и бегом наверх. Работники признали добровольную свою подсобницу, это была известная всему Петербургу юродивая Ксения. Из жалости к несчастной блаженной они хотели было не позволять ей больше исполнять эту тяжелую и опасную работу, но потом решили: да пусть уж помогает, раз охота, все равно не спит сроду!..
О Ксении Петербургской, хотя она и жила относительно недавно, сохранилось сведений гораздо меньше, чем о некоторых юродивых, живших за века до нее. Неизвестно точно не только когда именно она родилась, но и – что удивительно! – когда святой не стало. Год ее смерти в разных источниках указывается в диапазоне до тридцати лет. Кстати, помогала на строительстве Смоленской церкви Ксения где-то через четверть века после самой ранней даты своей кончины. Поэтому в некоторых жизнеописаниях блаженной делается вывод: раз таскала кирпичи – значит, еще была жива. Но это вывод совершенно в духе отличников курса научного атеизма, не смеющих мысли допустить, что святой и после перехода в мир иной может как-то участвовать в жизни оставшихся на этом свете. Существуют свидетельства явлений св. Ксении – некоторым петербуржцам выпадало счастье повстречаться с блаженной и в XIX веке, и в XX, вплоть до нашего времени.
Родилась Ксения, как принято считать, в 1720-х годах. О родителях ее, кроме того, что они были, как и у большинства святых, людьми благочестивыми, ничего не известно. Но, скорее всего, Ксения принадлежала к сословию благородному. Об этом можно судить по ее замужеству. В старину межсословные браки были исключительно редкими. Ксения же вышла замуж за человека довольно высокопоставленного – за придворного певчего Андрея Федоровича Петрова. Они с мужем поселились в небольшом собственном домике на Петербургской стороне. И, казалось, для Ксении наступила беззаботная и веселая жизнь если не дамы света, то во всяком случае близкой к высшему обществу.
Но через три года вся эта так счастливо начавшаяся жизнь рухнула. С Андреем Федоровичем вдруг приключилась горячка, и он скоро умер. Перед смертью он завещал жене служить всегда Господу Богу и неизменно славить Всеблагое Имя Его…
Ксении в ту пору было 25 лет. Смерть любезного супруга стала для нее таким потрясением, что жить по-старому она уже не могла. Ксения не только отказалась от светских развлечений, от прежнего беззаботного существования, но, раздав бедным все имущество, в том числе и домик на Петербургской стороне, она стала бродяжничать и ночевать где придется, чаще всего прямо на улице. Казалось, несчастная лишилась рассудка, не снеся выпавшего на ее долю бедствия. Именно так многие и стали относиться к случившемуся.
Но, как скоро выяснилось, безумной Ксения отнюдь не была. Кто-то из ее близких подал начальству покойного Андрея Федоровича прошение, требуя воспрепятствовать, очевидно, неразумной вдове так безрассудно распоряжаться имуществом. Но после беседы с Ксенией начальство убедилось, что она вполне здорова и, следовательно, вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению.
Беда, в один миг перевернувшая всю ее жизнь, показала Ксении, насколько же непрочно, суетно, мелко все земное. Ей открылось, что существование человека от рождения до смерти является лишь испытанием на пути к жизни вечной. Как пройдешь его, этот путь, такова будет тебе и награда. А имущество, богатства, честолюбие, удовольствия, развлечения – весь этот тлен – только помеха, препятствие спасению души, достижению истинного счастья небесного.
И с этого времени Ксения приняла подвиг юродства. Из всего имущества она сохранила только мужнин мундир, и, надев его на себя, блаженная стала ходить по городу и всех уверять, что она и есть самый Андрей Федорович. Причем она вовсе не отзывалась на имя Ксения, если к ней кто-то так обращался. Представляясь Андреем Федоровичем, юродивая неизменно рассказывала всем о своей тяжкой утрате – о кончине… жены Ксении Григорьевны. В конце концов, все так и привыкли ее называть Андреем Федоровичем.
Но первое время блаженной приходилось нелегко. Вначале над ней многие надсмехались, издевались, и, прежде всего, конечно, дети. Но Ксения покорно и безропотно сносила все глумления.
Лишь однажды петербургские жители увидели ее в страшном гневе. К этому времени Ксения уже почиталась за угодницу Божию. Но почиталась так она преимущественно людьми совершенных лет – дети по-прежнему преследовали ее и всячески досаждали. Как-то увидев Ксению, уличные мальчишки стали дразнить блаженную, смеяться, поносить. Ксения вначале никакого внимания не обращала на забавников – не привыкать. Но дети в этот раз были, как никогда, усидчивы: видя, что слова их не приносят желаемого результата, они стали швырять в блаженную камни и комки грязи. Тут уже у Ксении терпение все вышло. Блаженная ходила по городу всегда с крепкой сучковатой палкой. Так она бросилась на малолетних злодеев с этой палкой, показывая, что сейчас им будет задана крепкая взбучка. Вряд ли она ударила бы кого-нибудь. Но проучить мазуриков надо же наконец! Попугать их хотя бы! Жители Петербурга с тех пор старались оберегать Ксению от подобных развлечений неразумных детей.
Под именем своего покойного мужа Ксения юродствовала, по всей видимости, недолго. Ровно столько, сколько позволяла исправность мундира Андрея Федоровича. А у юродивых, при их-то образе существования, одеяние, если еще оно имелось, обычно не долго выдерживало нагрузок. И когда мундир у Ксении развалился, истлев прямо на чреслах, она перестала изображать мужчину. Блаженная надела на себя в высшей степени аляповатую пару, цветастые юбку и кофту, обуви и платка она не носила вовсе, и она стала называться по-прежнему Ксенией. У нее, как и у большинства юродивых, с одеждою могло бы не быть проблем – многие состоятельные люди считали за счастье одарить ее чем-нибудь со своего плеча, – но она все немедленно раздавала нищим.
У Ксении в Петербурге было множество знакомых. Ее наперебой зазывали погостить то в один дом, то в другой. Это считалось большой удачей, счастьем, милостью, посланной небесами, принимать у себя юродивую.
Так однажды Ксения зашла к доброй своей знакомой Евгении Денисьевне Гайдуковой. А дело было в самый адмиральский час, как в Петербурге говорят, то есть в обеденное время. Хозяйка натурально просит дорогую гостью за стол на лучшее место, потчует ее, будто родную матушку, блюдо за блюдом подносит. Когда они на славу отобедали, Евгения Денисьевна принялась благодарить Ксению за оказанное внимание и извиняться за скромное угощение: «Не взыщи, – говорила она, – голубчик Андрей Федорович (Ксения еще ходила в мундире мужа), больше мне угостить тебя нечем, ничего не приготовила сегодня». – «Спасибо, Денисьевна, спасибо за хлеб за соль, – отвечала Ксения. – Наелась, как дурак на поминках. Сроду так не ела. Только лукавишь-то для чего? А? Уточки-то мне не дала! Побоялась предложить!» Изумилась Евгения Денисьевна, сконфузилась, – у нее в печи и правда стояла жареная утка, приготовленная для мужа. Бросилась она тотчас к печке, вынула утку и поставила ее перед Ксенией. Но блаженная остановила ее: «Не надо, не надо. Не хочу я утки. Я ведь знаю, что ты радехонька меня чем только ни на есть угостить, да боишься своей кобыльей головы». Кобыльей головой Ксения называла своевольного и деспотичного мужа Евгении Денисьевны.
В другой раз Ксению принимала некая купчиха Крапивина. Они сидели за столом, угощались, чем Бог послал, мирно беседовали. И вдруг блаженной, как это нередко с ней случалось, было явлено откровение. Она увидела, что дни хозяйки, этой пышущей, казалось, здоровьем женщины, сочтены. Ксения тогда вроде бы ни с того ни с сего напомнила ей и всем присутствующим о необходимости каждому встретить смертный час свой, как и подобает православному христианину, покаявшись и причастившись. А уходя, она сказала, будто бы сама себе: «Зелена крапива, а скоро завянет». Никто тогда не придал значения этим словам – блаженная вечно говорит загадками, поди разбери, что она имеет в виду… Однако когда несколько дней спустя Крапивина действительно завяла, то есть отдала Богу душу, все вспомнили вещие слова Ксении и о предсмертных таинствах, и о крапиве.
Свой домик на Петербургской стороне после смерти мужа Ксения отдала мещанке Параскеве Антоновой, которую блаженная очень любила. И потом частенько приходила туда в гости. Однажды она зашла к любезной Параскеве и говорит ей: «Вот ты сидишь тут да чулки штопаешь, и не знаешь, что тебе Бог сына послал! Иди скорее на Смоленское кладбище!» Удивилась Параскева: о каком еще сыне толкует Ксения? откуда? Но, хорошо зная, что блаженная никогда ничего не говорит напрасно, а каждое ее слово – это какая-то мудрость, какое-то иносказательное откровение, она немедленно поспешила пойти, куда было указано. Оказалось, что вблизи Смоленского кладбища извозчик сбил беременную женщину, которая тут же и родила, а сама скончалась. Тут Параскева и поняла, что имела в виду Ксения: вот он ее сын! это о нем говорила блаженная! Параскева взяла ребенка и оставила его у себя. Она вырастила его и прекрасно воспитала. Впоследствии этот человек стал крупным чиновником. Всю жизнь он с большой любовью и почтением относился к своей приемной матери.
Как ни велика была слава Ксении в Петербурге, но общения с царственными особами у нее, как у Василия Блаженного, быть не могло: прошло то время, когда повелитель полсветной державы мог пригласить к себе в палаты нищего разделить с ним царскую трапезу или сам выйти в люди, поговорить с народом о том о сем где-нибудь на торгу за кремлевской стеной, – в эпоху империи такое общение монарха с низами стало выходить за этические нормы, хотя порою случалось. И все-таки Ксения, несмотря на колоссальную дистанцию, отделяющую ее от царственных особ, знала о них решительно все и некоторые сведения обнародовала, причем обычно еще до того, как свершалось само событие.
Так она предсказала смерть Елизаветы Петровны. Накануне Рождества 1761 года блаженная бегала по Петербургу и кричала: пеките блины! пеките блины! скоро вся Россия будет печь блины! Блины в России традиционно пекут либо на Масленицу, либо на поминки. Кстати, заметим, блин стал главным угощением и символом мясопуста именно потому, что Масленица – это, в сущности, поминки: начинается этот русский карнавал с Вселенской субботы, или большой родительской, – дня, когда православные поминают всех своих усопших предков.
Но тем не менее вряд ли Ксения имела в виду Масленицу. До нее от Рождества срок немалый. А пророчествовала блаженная вот о чем: назавтра, 25-го числа декабря, ровно в самый праздник, по Петербургу разнеслась весть о кончине императрицы Елизаветы Петровны. Тут уже все поняли, о чем предупреждала Ксения. Так и пришлось столице, а за ней и всей России печь блины.
Еще более драматичное происшествие в царской фамилии Ксения предсказала спустя три года.
На престоле в это время уже находилась государыня Екатерина Алексеевна. Но, как ни удивительно, она была не единственной монаршей особой в России в то время. В течение целых двадцати трех лет в шлиссельбургской крепости находился еще один законный, и, пожалуй, даже более, чем Екатерина, законный, император – Иоанн Антонович. В младенчестве он был свергнут с престола Елизаветой Петровной и с тех пор томился в темнице.
Один из его стражей – поручик В. Я. Мирович – решился освободить царственного узника и возвести на престол; он, вероятно, рассчитывал в случае успеха сделаться особой приближенной к императору и быть обласканным последним столь же щедро, как этого удостоились Орловы от Екатерины. Но попытка Мировича освободить Иоанна Пятого не удалась – другие офицеры из шлиссельбургского караула не поддержали лихую авантюру своего однополчанина. Больше того, в возникшей потасовке поручик был заколот. Да на всякий случай, чтобы исключить возможность его воцарения когда-нибудь, убит и сам Иоанн Антонович.
А за три недели до этого события Ксения стала вдруг горько плакать всякий день. Все встречные, видя юродивую заплаканную, жалели ее, расспрашивали: что с ней? не обидел ли кто? Блаженная, показывая куда-то в сторону, отвечала невразумительно: «Там кровь! Кровь! Там реки налились кровью! Там каналы кровавые! Там кровь!» – и лила слезы пуще прежнего.
Никто не понимал, что же происходит с блаженной Ксенией, всегда такой спокойной, благодушной… Тем более непонятны были ее слова – вроде бы ничего такого кровавого в отечестве не происходило, о какой крови она говорит?
Все всем стало ясно через три недели, когда по Петербургу разнеслась молва о кровавой драме в Шлиссельбурге и о страдальческой кончине Иоанна Антоновича. Приглашали Ксению не только знакомые к себе домой. Петербургские лавочники обратили внимание, насколько лучше сразу шли их дела, если к ним в лавку заглядывала Ксения. Она, бывало, и не возьмет-то ничего – так, может быть, какой-нибудь пряничек, орешек. Но вслед за ней в лавку немедленно набивался народ – всем хотелось купить чего-нибудь именно у того торговца, к которому заходила юродивая Ксения. Поэтому петербургские торговцы часто стояли в дверях своих заведений и караулили Ксению. А завидев ее, старались зазвать в лавку.
Точно так же питерские извозчики старались провезти Ксению хоть несколько шагов – чуть увидят ее, сразу подают дрожки. Они верно знали: после Ксении у них седоков отбою не будет. Так извозчики и рыскали целый день по Петербургу, высматривали юродивую.
Матери малолетних детей заметили, что если Ксения благословит болящего ребенка, он непременно выздоравливает. Поэтому, когда Ксения шла по улице, к ней то и дело подходили матери и просили хотя бы прикоснуться к их детям. Понятно, подходили к Ксении не только с больными детьми – здоровому ребенку тоже полезно получить благословение блаженной.
Хотя Ксения и бывала во многих домах, подолгу сидела там, обедала, ужинала, но она ни у кого никогда не оставалась на ночь. Люди недоумевали: где же она ночует? Ну ладно летом, можно и на улице где-нибудь прикорнуть. Но как же лютой зимой, когда вечно сырой болотный, ледяной питерский воздух просто-таки сжигает кожу?! Как можно в этакую пору не оставаться хотя бы в какой-нибудь лачуге ветхой? Решили тогда любопытные петербуржцы выследить: где же все-таки Ксения проводит ночи? И вот как-то вечером несколько охотников незаметно пошли следом за юродивой: куда она – туда и они. Ксения вышла за город, встала посреди пустыря и принялась молиться. Иногда, чтобы, видимо, размять уставшие ноги, она совершала земные поклоны на четыре стороны. И так до самого утра юродивая не прерывала своего занятия. Узнав об этом, петербуржцы еще больше полюбили свою Ксению.
Как мы уже отмечали, год смерти блаженной Ксении неизвестен. Больше того, отсутствуют какие-либо сведения и о ее погребении. Считается, что юродивая похоронена на Смоленском кладбище. Но никаких документальных подтверждений этому нет. Когда в 1988 году поместный собор Русской православной церкви принял решение о причислении блаженной Ксении Петербургской к лику святых, мощи ее обретены не были. Впрочем, это далеко не всегда и делается. Мощи многих святых, после их прославления, так и почивают «под спудом», то есть остаются нетронутыми в месте их захоронения. Например, так и покоятся с момента похорон мощи св. Иоанна Кронштадтского в Свято-Иоанновском женском монастыре на Карповке в Петербурге. К тому же часто бывает, когда мощи обрести просто невозможно. В годы большевистского антирусского геноцида были казнены сотни подвижников веры. Недавно они канонизированы как новомученики и исповедники российские. Но кто знает, где их мощи? В какой безвестной братской могиле, в каком краю шестой части суши они лежат?
Совершенно не исключено, а скорее, даже вероятно, что часовня над могилой блаженной Ксении на Смоленском кладбище – это т. н. кенотаф, то есть символическое надгробие над несуществующим захоронением. В некоторых жизнеописаниях юродивой говорится, что-де «с уверенность можно думать» о торжественном ее погребении «всем Петербургом». Думать-то так, конечно, можно. Но все-таки хотелось бы иметь хоть какую-нибудь, пусть косвенную, фактическую опору. Вспомним, что Петербург рубежа XVIII—XIX веков был центром российской культуры – и, прежде всего, единственным в ту пору интеллектуальным центром. Екатерининский и Александровский период – это великая эпоха массового сочинительства, когда всякий образованный человек что-то писал: стихи, дневники, эпистолы к приятелю на соседнюю улицу и т. д. Так неужели никто из петербуржцев не оставил ни самого краткого письменного достоверного свидетельства о смерти знаменитой землячки? И никто из столичного духовенства не догадался заметить день ухода ко Господу великой праведницы, подвижницы, Божией угодницы, любимицы всей Северной Пальмиры – юродивой Христа ради? А старейшая в России газета – «Санкт-Петербургские ведомости» – тоже никак не упомянула события, собравшего «весь Петербург»?
Скорее всего, смерть Ксении осталась никем не замеченной. Она, судя по всему, исчезла, как, может быть, и прежде исчезала. И люди, привыкшие иногда не встречать в городе юродивую по неделе, по месяцу, и в этот раз не придали значения ее исчезновению: появится, куда она денется, ходит где-нибудь по другим сторонам… А когда хватились, что слишком долго что-то блаженная им не встречается, верно, преставилась раба Божия, то, вне всякого сомнения, все они – ее почитатели – непременно задались вопросом: где же могила нашей любезной Ксении? где она похоронена?
Как, опять же, говорится в некоторых ее жизнеописаниях, могила блаженной Ксении на Смоленском кладбище стала привлекать к себе паломников где-то только уже с 1820-х годов. Датой смерти Ксении чаще всего называется 1802 год. Таким образом, целых два десятилетия могила любимицы Петербурга, за которой весь город гонялся, чтобы заманить к себе домой, в лавку, в пролетку, прикоснуться к ней, получить благословение, минимум два десятилетия ее могила каким-то самым непостижимым образом оставалась или малопосещаемой, или вовсе забытой и заброшенной. А скорее, ни то и ни другое. Очень маловероятно, что бесчисленные почитатели Ксении первые двадцать лет после смерти блаженной не особенно-то навещали ее могилку, а с 1820-х годов вдруг опомнились и бросились все на Смоленское кладбище. Да, скорее всего, им просто нечего прежде было навещать – не было могилы вовсе! Рады бы сходить, да некуда!
А потом могила нашлась. Но что значит нашлась? И почему не находилась прежде? Неужели кто-то для чего-то хранил в тайне двадцать лет место захоронения Ксении? Все это, конечно, лишь наши предположения, но очень похоже, что в 1820-е годы петербуржцы выбрали произвольно какую-то могилку вблизи Смоленского собора, который Ксения, по поверью, сама строила, и стали ее почитать как последнее пристанище блаженной.
Так, может быть, блаженная, как Илия, не умирала вовсе, а была скрыта в таинственных мирах?
Заметим, отсутствие мощей святой Ксении в традиционно почитаемом месте ее захоронения на Смоленском кладбище – о чем мы лишь предполагаем, но отнюдь этого не утверждаем! – нисколько не уменьшает сакрального значения ее могилы, нисколько не делает это свято место менее святым. Гроб Господень в Иерусалиме, как известно, пуст – если бы было иначе, все вероучение христианское оказывалось бы лишенным смысла, – но при этом почитается главной христианской святыней.
С 1820-х годов началась уже как бы вторая жизнь блаженной Ксении: ей стали молиться как святой, она же, как святая, стала неизменно откликаться на молитвы и помогать своим молитвенникам.
На Смоленское кладбище стали приходить тысячи людей. Причем каждый паломник старался прихватить с могилки горстку земли. Считалось, что эта землица помогает от многих бедствий. О том, сколько народу приходило к могиле, можно судить по тому, что за год люди весь холмик разбирали по горстке. И его приходилось насыпать заново. Тогда кто-то придумал на могилу положить каменную плиту. Но ее растащили еще быстрее: всякий откалывал по кусочку, и скоро от плиты ничего не осталось. Новую плиту постигла та же участь.
Но паломники не только брали землю с могилы и откалывали по кусочку от надгробия, многие из них оставляли здесь же в кружке пожертвования на обустройство захоронения блаженной Ксении. Вскоре набралось достаточно средств, чтобы поставить над могилой небольшую часовню с иконостасом внутри. Теперь по желанию посетителей здесь в любое время суток можно было отслужить панихиды по блаженной. Для этого при часовне день и ночь дежурили священники из Смоленской церкви.
В 1901—1902 годах по проекту архитектора А. А. Всеславина была построена новая просторная часовня в модном тогда псевдорусском стиле. Внутри часовни находился мраморный иконостас, по стенам – иконы и мозаичный образ распятого Христа с неугасимой лампадой перед ним. Позади, за алтарем, находилась мраморная доска с надписью на ней: «Здесь покоится тело рабы Божией Ксении Григорьевны, жены придворного певчего в хоре, полковника Андрея Федоровича Петрова».
В советское время, в эпоху гонений на Церковь, часовня пришла в упадок. Перед войной ее закрыли. А во время войны стали использовать как склад. Все ценное было изъято, а то, что не представляло с точки зрения богоборцев никакой ценности – иконы, например, – уничтожено. Правда, после войны, когда Сталин стал покровительствовать Церкви, и угодливые его чиновные лакеи на местах мигом бросились исполнять невообразимую причуду хозяина – открывать в своих уделах храмы, – Ксенинская часовня также была возвращена верующим. Но ненадолго. Новый генсек-отступник начал гонения на Церковь почище ленинских. Часовню вновь закрыли. На этот раз на значительный срок – почти на четверть века.
В часовне устроили скульптурную мастерскую. Но для скульпторов, что там обосновались, наступили трудные времена, сродни творческому кризису. Они входили утром в свою мастерскую и обнаруживали «Девушку с веслом» без весла, а то и, как Венеру Милосскую, без рук. И это еще в лучшем случае. А чаще находили просто одни черепки на полу. Уж как ни запирали они часовню, каких только замков пудовых ни навешивали, каждое утро одна и та же картина – в мастерской погром, будто Мамай прошел. Кто так ополчился на их социалистический реализм, им выяснить не удалось, как они ни старались. Так и не стала часовня храмом искусства. Скульпторы помучились там сколько-то, да и съехали. Городская же власть хотя никак больше и не использовала часовню, но и верующим передавать ее не спешила.
Наконец, в 1984 году часовня была возвращена Церкви. Верующие всем миром восстанавливали ее. А в дни празднования тысячелетия крещения Руси митрополит Ленинградский Алексий, будущий святейший патриарх, перед этой самой заново отреставрированной часовней огласил решение Собора о причислении блаженной Ксении к лику святых.
Теперь на Смоленское кладбище в Петербург едут паломники со всей России. У часовни святой Ксении всегда люди и ни на минуту не смолкает молитва. Там все просят святую блаженную подсобить им в той или иной нужде. Там можно услышать множество историй о том, как Ксения уже помогла кому-то в какой-нибудь беде. Значительная часть этих историй записана и издана. Но все их обнародовать едва ли возможно. Их столько, что, как говорится, и самому миру не вместить бы написанных книг.
Вот некоторые из этих историй. Они взяты нами из книги «Блаженные старицы Санкт-Петербурга».
Одиннадцать лет читинец Дмитрий влачил парализованные ноги. Причем жил убогий со своей матушкой в условиях, совершенно не соответствующих его бедственному положению. Но вот вроде бы смилостивилась судьба: им вдруг дают в том же самом доме квартиру, что называется, за выездом. Слава Богу! Живет Дмитрий год в новой квартире – нарадоваться не может. Но однажды звонит им в дверь прежняя хозяйка. Она заявляет, что сын с матерью занимают ее квартиру незаконно, и просит очистить поскорее площадь. Начались суды. Год судятся стороны, другой пошел. А конца тяжбе не видно. Можно вообразить, каково жить людям, когда всякую минуту суд может принять решение в пользу истца и их попросят из квартиры вон! Это не жизнь, а натуральное мучение. И вот однажды какая-то знакомая сунула Дмитрию житие Ксении Петербургской. Прочитал он эту книжку. Подивился. А Дмитрий очень неплохо рисовал – окончил в свое время художественную школу. И почему-то ему вдруг захотелось нарисовать иконку св. Ксении. Взялся он за дело – и мигом вышел образок на загляденье. А тут очередной суд подошел. Обычно в заседание ходила матушка – самому-то Дмитрию невмочь. Он и дал маме с собой иконку: возьми, может быть, поможет нам Ксения. И вот идет слушанье. Судья задает тяжебщикам вопросы. Ответчица излагает дело четко, внятно, аргументированно, словно ей нашептывает ответы лучший в Забайкалье адвокат. А истица, напротив, отвечает как-то путано, сбивчиво, неуверенно. В конце концов, она так запуталась, что призналась в незаконном приобретении этой квартиры в свое время. Даже судья не выдержал и рассмеялся на такое откровение. Суд безоговорочно принял решение в пользу ответчиков. Дмитрий и его матушка верно знали, кто им покровительствовал, кто был их адвокатом. С тех пор иконка св. Ксении Петербургской стала у них главной семейной реликвией.
Татьяне из Брянской области был поставлен диагноз, требующий операции. Кто-то подсказал болящей читать акафист святой Ксении. Татьяна же, кроме того, что она добросовестно читала акафист, решила съездить прямо в самый Петербург на могилку к блаженной. Приехав в город на Неве, она заказала молебен на Смоленском кладбище, прихватила землицы с могилы и отлила масла из лампады в часовне. Вскоре, после возвращения домой, Таня снова пришла к врачу. Анализы показали, что никакого лечения ей не требуется. На ее медицинской карточке врач размашисто написал: «Выздоровела».