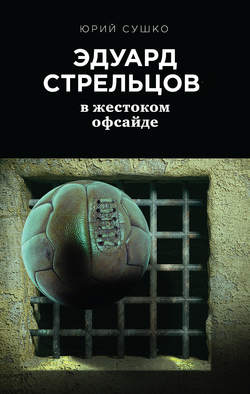Читать книгу Эдуард Стрельцов: в жестоком офсайде - Юрий Сушко - Страница 1
Москва, Бутырская тюрьма, конец мая 1958 года
ОглавлениеБольшой и добрый, в чем-то слабенький,
Он счастлив был не до конца.
Тень жгущей проволоки лагерной
Всплывала изнутри лица.
Евгений Евтушенко. «Эдуард Стрельцов»
– Ну что, футболёр, не спится? – раздался голос с нижней шконки. – Все возишься, слышу, ворочаешься… Совесть, что ли, покоя не дает?.. Да я шучу, не обижайся…
Почуяв табачный дымок и хрипловатый голос, Эдик спрыгнул со своего яруса.
– Здравствуйте, я – Эдик. Не пойму я что-то, то ли утро сейчас, то ли вечер.
– Ночь.
– Не угостите? А то я как-то… – помявшись, проговорил Стрелец.
– Поиздержался чуток? Бывает. Кури! – Сосед, cухопарый мужик лет сорока-сорока пяти, с коротким седоватым ежиком и колючими глазами, протянул пачку «Беломора». – Да, и учти на будущее: курево здесь – живые деньги. – И тут же спросил с усмешкой: – А как же спортивный режим?
– Так на кой он мне теперь? – Эдик присел рядом и всласть затянулся папироской. – Хорошо.
– Что, уже не думаешь вернуться к игре в мячик?
– Да разве от меня это зависит?
– Не скажи. Все должно в этой жизни от тебя самого зависеть. – Сосед протянул руку: – Николай Загорский, Загора… Не слыхал? А вот я о тебе много слышал и много знаю. Даже на поле тебя видел, чемпион. Красиво играешь, загляденье!.. – Он встал, прошелся по камере. – А знатные нам с тобой, Эдик, хоромы достались. Шконки двухъярусные. И больше – ни души! По соседству братва в очередь спать пытается… Вообще, Бутырка – самая старая тюрьма в Москве… Тут, знаешь, какие люди сиживали? Сам Емелька Пугачев, даже «железный Феликс», потом уже шушера: троцкисты, враги народа…
Загорский замолчал. Потом снова заговорил, сменив тему на то, что наболело:
– Статья тебе, парень, светит, конечно, кислая. Таких на зоне не жалуют. В момент «опетушить» запросто могут. Но ты не переживай. В Бутырках тебя никто тронуть не посмеет. А на зоны я нужные «малявы» зашлю. Я ведь дело твое следственное читал, знаю. Натуральная «подстава». Крепко кому-то ты насолил, паренек, очень крепко. Простить не могут.
– Да кому я мог насолить? – Эдик был в полной растерянности. – Кому дорогу перейти?
– Вот уж этого не знаю, – покачал головой Загорский. – Но кому-то из самых «верхних»… Ладно, Стрелец, давай напоследок еще разок курнем – и мне к своим пора возвращаться. Повидался с тобой, и ладно. А вертухаев я предупрежу, обижать не станут. Вот только «чистуху» ты все-таки зря написал. У нас как говорят? Чистосердечное признание – прямой путь к увеличению срока.
– Да это просто наваждение какое-то было. Следователь золотые горы обещал, вот я и поддался, дурачок…
– Они на это мастера.
– Николай, – подсел поближе Эдик, – вот вы человек, как я понимаю, опытный, бывалый. Как считаете, что меня ждет?
– Как известно, только одному Иисусу Христу было разрешено Господом Богом познать свою судьбу. Это, во-первых, – усмехнулся Загорский. – Во-вторых, я же не предсказатель, а просто человек, знающий жизнь и ее законы. Судьбу не обманешь, но если действовать с умом, от некоторых ее ударов можно увильнуть. Как уже сказал, кое-какие меры я предпринял, помогут. Кроме того, и адвоката я тебе нормального подгоню, доку. Зовут Миловский Сергей Александрович. Запомни. – Он покосился на молодого сокамерника и вдруг предложил: – Спиртика тяпнешь, Стрелец? Давай-ка кружки. Да и водички зачерпни. На запив. – Сам извлек откуда-то из-за пазухи плоскую металлическую фляжку, разлил понемногу: – Ну, Стрелец, удачи тебе. За встречу, за знакомство. – Опустив кружку, отставил ее в сторону и усмехнулся: – А ты веселый парень, Эдик. Мне твою «явку с повинной» показали, я до слез ухохотался. Это же надо такое сочинить: «Мы были на даче. Никакого изнасилования я не совершал и ничего про это не знаю…» Хорошо повинился. Не «явщик» из тебя, а чистый Зощенко…
Загорский спрятал фляжку, поднялся со шконки, оставив на ней пачку «Беломора» и спички, подошел к металлической двери и трижды негромко постучал. Эдик даже не услышал, настолько тихо она отворилась, и его таинственный ночной сосед выскользнул из камеры, затем так же беззвучно лязгнул замок.
Оставшись в одиночестве, Эдик взобрался назад, на свое лежбище. Впервые за последние дни на душе стало как-то легче, покойнее. Выпитое повлияло? Или новый знакомый своей уверенностью заразил? Может быть. Во всяком случае, дурные мысли потихоньку отступали, и появилась надежда, что не все так уж погано.
Он закрыл глаза, пытаясь заснуть. Но куда там! Он словно очутился в каком-то скоростном тоннеле памяти – мелькали живые картинки: вот он на заднем сиденье милицейской машины. Какой-то замкнутый двор. Охранники выталкивают его. Он что-то кричит, пытается вырваться из их цепких рук. Пока волокут по длинным коридорам и переходам Бутырки, он требует прокурора, но в ответ слышит только гулкое эхо каменных стен каземата. Лица охранников, повидавших в своей невеселой жизни и не такое, оставались непрошибаемыми. И когда захлопнулась дверь камеры, он принялся колотить кулаком в нее, объяснять кому-то невидимому, что у него совершенно нет ни возможности, ни времени сидеть тут, в тюрьме на нарах, по ошибке каких-то недоумков. И за все это кто-то обязательно ответит.
Только осознав, наконец, что его все равно никто не слышит и слышать не собирается, Эдик перестал тарабанить. Кожа на ребре ладони треснула от ударов по металлической двери и кровоточила. Он опустился на холодный бетонный пол и бездумно уставился в высокое зарешеченное окно. Так и сидел до тех пор, пока не загремел замок и раздался окрик:
– Стрельцов, на допрос!
Эдик обрадованно вскочил на ноги, слава богу, теперь все выяснится, быстро встанет на свои места. В плечо ему уперся жесткий камерный ключ, тычок которого он принял за ствол автомата или пистолета:
– Вперед! Не останавливаться!
И снова он шел по лабиринтам коридоров и переходов. Руки за спиной были жестко скованы наручниками…
А до того была Мытищинская прокуратура.
Когда Стрельцова впихнули в кабинет, сидевший за столом человек со скучающим видом взглянул на задержанного. В кабинете было невыносимо жарко. Дряхлый вентилятор с поникшими резиновыми лопастями был не в состоянии даже шевельнуть лист бумаги на столе.
– Присаживайтесь вот сюда. Я – Муретов, следователь Мытищинской районной прокуратуры. Давайте, Стрельцов, рассказывайте, что успели сотворить?
Когда? – пожал плечами Эдик.
– Сам знаешь. Не придуривайся. Сегодняшней ночью. – Следователь отвинтил колпачок авторучки, достал синий блокнот: – Давай, говори!
– А можно водички? – попросил Стрельцов.
– Успеешь, – понимающе усмехнулся Муретов, но, прикинув, все же сжалился над страждущим. Плеснул воды из мутного графина в такой же свежести стакан и протянул задержанному: – Извини, коньячку не держим.
Эдик одним глотком опорожнил теплую воду и выдохнул:
– Так что я вам должен рассказывать?
– Много вчера выпили?
– А какое это имеет значение? Никто не считал… И что, это преступление?
– Значение, гражданин Стрельцов, может иметь любая мелочь, даже на первый взгляд не относящаяся к делу. И если я задаю вопрос, на него следует отвечать. Это понятно?
– Понятно… По литру на брата точно было, – повинился Эдик. – Может, даже по полтора. Девушки, естественно, выпивали поменьше. Но все-таки, что именно я вам должен рассказывать? Не про эту гульку же… кто сколько выпил…
– Ой, только не говори мне, что ты ничегошеньки не помнишь, пьяный был в стельку и так далее. Я это уже столько раз слышал… – Муретов вновь взялся за авторучку. Повертел ее между пальцами, затем, так ничего и не записав, положил на стол. – Итак, кого ты вчера ночью драл?.. Не помнишь?.. Впрочем, это неважно. Главное – она помнит.
– Кто она?
– Потерпевшая, кто же еще? – Следователь поправил галстук и вдруг со всего маху стукнул кулаком по столу: – Та самая, которую ты изнасиловал как скот!
– Тут какая-то ошибка. Никого я не насиловал.
– Ага! Ты у нас безвинная овечка… В общем, мой тебе совет: пиши явку с повинной, зачтется. На даче в Правде вчера был?
– Где?
– В дачном поселке.
– Был. Не знал, что это Правда.
– Правда, Правда… Вот правду мне и пиши. Держи бумагу и ручку.
Стрельцов покорно начал писать под диктовку следователя:
«Прокурору Мытищинского района Московской области от Стрельцова Эдуарда Анатольевича»,
– Укажи свой год рождения и место жительства.
«1937 г.р., проживающего: г. Москва, ул. Автозаводская, корп. «Г», кв.55».
– Теперь обязательно обозначь – «Явка с повинной», – подсказал подобревший Муретов. – А дальше можно в произвольной форме обо всем, что произошло этой ночью на даче в Правде. Но со всеми мельчайшими подробностями.
Стрельцов вновь безропотно кивнул и принялся писать:
«Явка с повинной. 25 и 26 мая 1958 года мы были на даче в Правде. Никакого изнасилования я не совершал и ничего про это не знаю. Стрельцов».
Поставив подпись, протянул бумагу довольному следаку. Тот прочитал «явку» в несколько строк и вскипел:
– Ты совсем обалдел, что ли, «явщик» несчастный?! Идиот! Ты вообще имеешь представление, что такое явка с повинной?
– Нет, – чистосердечно признался Эдик.
– Ты добровольно и честно признаешься в совершении злостного преступления. А ты тут мне чушь всякую городишь! Олух! Шут гороховый! Или тебе мячиком совсем мозги отшибло? Но все равно эту твою «писульку» я приобщу к делу и обязательно доложу, что ты сознательно издеваешься над следствием…
…А потом эти воспоминания о злоключениях в Мытищинской прокуратуре неожиданно отступили, будто растаяли. И, словно на салазках по скользкой ледяной горке, память увлекла Эдика в далекий рабочий поселок…
Завод «Фрезер» породил небольшой подмосковный городок и даровал ему свое гордое имя – Фрезер. А заодно и клубу, и стадиончику, и лучшему магазину. Школа, в которой учились дети фрезеровщиков, естественно, тоже называлась «Фрезер» и была разделена на мужскую и женскую. В основном все взрослое население поселка трудилось на этом славном предприятии. «Фрезер» кормил людей, чтобы они приходили в его цеха и приводили в действие станки и механизмы. Все взаимосвязано. Только вопрос: кто кого кормил?
А однажды чья-то разумная голова решила, что, возможно, многим фрезеровщикам, и особенно фрезеровщицам, живущим на улице Фрезерной, недостает лирики в душе, и поселок получил старинное, художественно-легкомысленное название – «Перово». Нет-нет, к знаменитому художнику Перову населенный пункт не имел ровным счетом никакого отношения. Просто тут издревле обосновались великокняжеские тетеревники, промысловики и охотники. Облюбовав богатые птицей места, егери даже устраивали царские охоты. А потому по полному праву в официальный герб и на флаг городка вписалось изящное серебряное перышко.
Намереваясь сформировать принципально новую футбольную команду, главный тренер «Торпедо» Виктор Александрович Маслов уже тогда, в начале 50-х, стал настойчиво внедрять самые разнообразные формы и методы отбора перспективных игроков, то есть то, что ныне именуется «селекционной работой». Его помощники регулярно просматривали игры любительских заводских команд, подыскивая самородков среди мальчишек. Улов, конечно, был обычно невелик. Но упрямый Маслов не сдавался, верил в свою идею: закидывать широкий невод – и искать, искать, искать. От помощников требовал: хоть землю ройте. Однажды тренер Проворнов, возивший торпедовских юношей на товарищескую встречу с «Фрезером», сказал главному, что в заводской команде ему приглянулся один толковый, пробивной паренек и желательно, чтобы Виктор Александрович сам на него предварительно посмотрел в деле. Там как раз на днях намечается игра между цеховыми командами на первенство завода. А вдруг понравится?
…Неторопливо прогуливаясь вдоль поля небольшого стадиончика и исподволь посматривая на игроков, Маслов откровенно скучал. Ну, игра как игра, грубоватая, бестолковая и суетливая. Он уже собрался завершить свой выездной променад и в последний раз глянул на поле. В этот момент мяч попал к белокурому статному парню, который очень легко насквозь пронзил ряды защитников, по пути стряхнув одного из них со своих плеч, и от души врезал по воротам. Мяч задрожал и замер в сетке!
Виктор Александрович подошел поближе к кромке. Присел на скамеечку и стал следить лишь за одним игроком, этим крепким хлопцем. Вся остальная «художественная самодеятельность» его мало интересовала. После игры он подозвал парня к себе:
– Ты меня знаешь?
– Конечно! Вы – Виктор Александрович Маслов, да? Я же на все матчи «Торпедо» хожу. Всех игроков знаю. И тренеров тоже.
– Ну, а сам ты кто таков?
– Эдик Стрельцов.
– Работаешь?
– Да. Слесарем 4-го разряда на «Фрезере».
– Футболом давно занимаешься?
– Сколько себя помню, – гордо вскинул голову Эдик.
– И сколько же ты себя помнишь?
– Почти пятнадцать лет.
– Молодец! – улыбнулся Маслов. – Ладненько, пойдем поговорим. Где начинал?
– Во дворе, конечно. На опилках играли.
– Почему на опилках?
– Да у нас, в Перове, во дворе зимой каток обычно заливали. А весной его опилками засыпали, чтобы люди на льду не грохались. И долго потом эти опилки еще валялись… Вот мы и бегали по этим стружкам.
– А живешь ты где?
– Да тут, неподалеку, на Первомайской. С мамой.
Подбирая «ключики», Виктор Александрович деликатно расспрашивал о доме, о семье. Не зря в команде его называли «Дедом» – за умение создать в разношерстном коллективе теплую, чисто семейную атмосферу. Эдик это почувствовал и откровенно рассказывал, что отца он практически не знал, мама вспоминала, что работал тот столяром на «Фрезере», что руки у него были золотые, всю мебель в доме сам сделал. Потом ушел на фронт. В 1943-м приехал на побывку – и все, больше семья его не видела. Поговаривали, что якобы он перебрался в Киев, нашел себе зазнобу.
– А мама работает?
– Да. Раньше была воспитательницей в детском саду. Но платили там гроши. Сейчас пошла на «Фрезер»…
– А в заводской команде давно играешь?
– Второй год, – прикинув, ответил Эдик.
– И как, мужики тебя не обижают? За пивом не гоняют?
– Да что вы, Виктор Александрович! Совсем даже наоборот, подкармливают. После каждой игры трешку всегда суют – на мороженое. Но из пельменной, где они обычно собираются, гонят: «Гуляй, Эдик, не хрен тебе разговоры взрослых дядек слушать…». Ну, а сами водку трескают…
– В общем, как говорится, пивка – для рывка, водочки – для обводочки, – непроизвольно вырвались у Маслова слова старой присказки. – Впрочем, тебе эти «золотые» истины знать пока не обязательно. Но сознайся честно, водку уже пробовал? Так?
– Разок попробовал.
– И как тебе?
– Не понравилась. Лучше жабу в рот!
– Ну а бутсы у тебя откуда? – ушел от алкогольной темы Маслов.
– Так это дядя Зайцев подарил, директор нашего заводского стадиона. У нас тренера тогда не было, вот он за нами и присматривал. Я ему, видно, приглянулся, вот он мне их и отжалел.
– Ишь ты, словечко какое выискал – «отжалел»… А финтам, обводке кто учил?
– Да никто, сам присматривался…
Чем был футбол в ту пору, в послевоенные годы и в начале 50-х? Да всем на свете! Анатолий Макаров, добросовестный бытописатель Москвы тех лет, тонко подмечавший умонастроения земляков, с мальчишеским восторгом чувствовал в душе, а повзрослев, точно сформулировал коленопреклоненное признание в любви к футболу от имени своих современников:
«Вся полнота жизни, все богатство ее очарований, и нынешних и грядущих, вся ее праздность, торжествующая к тому же в результате мужественных устремлений, верности и братства, являлись нам в облике футбольного состязания. Выражаясь научно, нашими умами и душами овладела футбольная мифология… В той футбольной мифологии послевоенных лет была своя недосказанность, своя недоступность, своя тайна, которая всегда способствует рождению легенд…
Наши кумиры… казались небожителями, олимпийцами, богами, их манера играть – точнее, что-нибудь особенно характерное в этой манере: удар, рывок, обработка мяча, – поражала воображение, однако и в частной жизни за ними по пятам следовала слава, недостоверная, окутанная облаком греховности и блеска, красноречивых умолчаний и загадочных намеков, и оттого невыразимо притягательная…
Каждый из нас, вступая в игру, понимал вполне отчетливо, что приносит в жертву футбольному счастью свое домашнее благополучие, предвидел материнские слезы и разные жалкие слова и втайне увещевал свою совесть, что будет соизмерять силу удара с запасом прочности, гарантированным фабрикой «Скороход», – благоразумных этих намерений хватало на первые десять минут. Затем азарт игры захватывал нас своей кипящей волной, и тут уже не только обуви, жизни становилось не жалко, и никакие угрозы соседей не в силах были нас остановить, сознание же опасности и жертвенности лишь обостряло нашу радость, полузапретную, грешную, удалую».
А Евгений Евтушенко добавлял свой точный трагический мазок к картине Москвы послевоенной эпохи:
Незримые струпья от ран отдирая, Катили с медалями и орденами Обрубки войны к стадиону «Динамо» – В единственный действующий храм, Тогда заменявший религию нам…