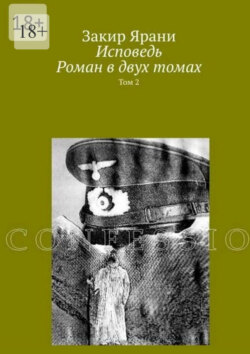Читать книгу Исповедь. Роман в двух томах - Закир Ярани - Страница 2
12
ОглавлениеРоссия, Ростов-на-Дону, ноябрь 1942 года
Холодный и сырой, промозглый ветер дул со стороны Азовского моря, качая серые голые ветви деревьев, а на некоторых шелестя остатками золотистой осенней листвы. Вокзальные постройки были отремонтированы, но весьма поверхностно, и метки войны – закрашенные выбоины от осколков в кирпичных кладках, куски фанеры вместо стекол в некоторых окнах, трещины по корпусам зданий, добавляли угрюмости в общий фон поздней осени. По небу низко плыла мутная серая хмарь; между серыми бетонными платформами пролегали темные рельсы на влажных от прошедшего недавно дождя деревянных шпалах. Железнодорожные пути несколько напоминали далеко вытянутые рыбьи скелеты. Пахло технической смолой и углем. По перрону, по щебню и укоротившейся к зиме темно-зеленой траве вдоль путей ходили занятые текущими делами рабочие, с лицами столь же угрюмыми, как и сам сегодняшний ноябрьский день. Вдоль зданий тут и там прохаживались в серых форменных шинелях и касках вооруженные винтовками и пистолет-пулеметами фельджандармы.
Охранение вокзала уже с месяц было усиленным, оснащенным пулеметами: в городе несказанно возросла интенсивность действий коммунистических партизан и подпольщиков. Впрочем, Ростов, который вот-вот должны были переименовать в Клейст, в этом отношении не был исключением: по своим давно налаженным тайным каналам русское подполье узнавало о трудностях, возникших у немецкой армии на фронте, и, воспрянув духом, пыталось развернуть полномасштабную войну в тылу. Сложная ситуация складывалась и в крупных, и в мелких русских городах, и даже в Украине и Белоруссии, которые уже давно были в руках Рейха, управлялись штатскими властями. Конечно, надежды партизан на эту заминку в немецком наступлении, произошедшую у Волги и на Кавказе, выглядели смешно, но тем не менее, в Ростове чуть ли не каждый день где-то стреляли в немецких, румынских и венгерских солдат, каждую неделю были жертвы. Гибель товарищей, соплеменников сама по себе была горькой утратой, но кроме того, создаваемое партизанами напряжение серьезно мешало функционированию инфраструктуры города – и военной, и штатской, затрудняло выполнение военными своих задач, не раз нарушало благополучную транспортировку через Ростов на фронт подкреплений, вооружения, продовольствия и медикаментов, требовало отвлечения на охрану стратегических объектов дополнительных сил и средств. В ГФП Ростова не так давно поступило оперативное сообщение от коллег из абвера, что в город из-за линии фронта направлен некий агент большевистской разведки под псевдонимом «Югов», который должен был установить связь с действующими тут разрозненными подпольными антинемецкими организациями и объединить их в единую структуру. Выявить этого «Югова» так до сих пор и не удалось, но судя по тому, что партизанские и подпольные акции стали более частыми, более дерзкими и более законспирированными, ему удалось проникнуть в город и полностью либо частично выполнить свое задание.
Тим в сопровождении Шрайбера, троих сотрудников вспомогательного отдела ГФП и коменданта вокзала вышел из вокзального здания на перрон, держа под мышкой кожаный портфель с документами. От холодного ветра возник соблазн поднять воротник шинели, однако Тим не любил, когда что-то хоть немного ограничивает боковой обзор, да еще в такой опасной обстановке, как теперь. Тим, Шрайбер и вспомогательные сотрудники производили осмотр имевшихся на вокзале пишущих машинок. Это мероприятие уже второй день велось по всему большому городу: на многих печатных листовках, которые расклеивали по стенам, заборам и щитам коммунистические подпольщики, в тексте отсутствовала русская буква С. Теперь ГФП и русская вспомогательная полиция проверяли все учреждения, в которых имелись русские пишущие машинки, чтобы отыскать ту, на которой отсутствовал или был поврежден рычажок с буквой С. Хотя и Тим, и многие другие сотрудники догадывались, что поврежденная машинка, скорее всего, списанная и хранится у кого-то из членов подполья на квартире. Уже подготавливались мероприятия по масштабному розыску в рядах тех, кто работает или когда-либо работал на пишущих машинках, но перспективы успеха тоже выглядели сомнительно и даже смешно: таких людей в Ростове сотни, если не тысячи, и на лбу у них не написано, поддерживают ли они коммунистов. Русские пишущие машинки в главном здании вокзала Тим с коллегами уже осмотрели и механизма без буквы С не нашли. Теперь надо было пройти в другое здание, где находился склад запасного и списанного инвентаря, и осмотреть еще три машинки, хранившиеся, по словам коменданта вокзала, там.
На дальнем перроне у охраняемого солдатами казарменного состава толпились люди, многие из которых были с вещевыми мешками и чемоданами: на запад отправлялся мобилизованный работный контингент из местных жителей. Под присмотром зябко прохаживавшихся по перрону, согреваясь, с винтовками за плечами вспомогательных полицейских отъезжающие – молодые люди лет от шестнадцати до двадцати пяти, прощались с пришедшими их провожать близкими обоих полов и разных возрастов: от детей до стариков, но преимущественно закутанными в теплые платки и шали женщинами средних лет. Слышались горестные причитания, женский плач; матери хватали сыновей за одежду, поправляли на них куртки и полушубки.
Офицеры подошли к зданию склада и прошли внутрь через узкую дверь, перед которой сидела испуганно убежавшая при их приближении в облетевшие кусты черная кошка. Комендант склада – унтер-офицер, звеня ключами, провел прибывших сотрудников ГФП и своего начальника по затхло пахнувшим коридорам к нумерованной двери хранилища неиспользуемой утвари. Тихо, чтобы не смутить старших по званию, чертыхаясь, отпер ключами трудно поддававшийся замок; скрипнула дверь, и унтер-офицер, щелкнув выключателем, зажег потолочную лампу в открывшемся помещении с рядами деревянных стеллажей, заставленных, заваленных различными предметами: пресс-папье, телефонными аппаратами, в том числе давно устаревших моделей, декоративными вазами, ящичками и прочим. Вслед за комендантом склада сотрудники ГФП и комендант вокзала прошли по пыльному полу между двумя стеллажами, мимо сложенной у дальней стены помещения различной мебели свернули вправо и остановились у края следующего стеллажа.
– Вот они! – сказал унтер-офицер, показывая рукой на стоявшие на втором ярусе с краю три пишущие машинки. Тим, шагнув к машинкам, нагнулся и стал их рассматривать. Да, это были машинки русской модели, с вытисненными на их металлических поверхностях русскими надписями. Даже не будучи специалистом по машинописной технике, Тим разобрал, что все три аппарата были неисправны: на них, вообще, едва ли что-то можно было напечатать. Но у всех трех рычажки с русской буквой С дефектов не имели: это выяснилось, когда Тим, поочередно нажав у каждой соответствующую клавишу, приподнял рычажки.
– Эти машинки были списаны при нас или еще при коммунистах? – поинтересовался он.
– Я, право, не знаю, – ответил комендант вокзала, пожав плечами в погонах гауптмана. – Не помню, чтобы за время моей службы здесь какая-то пишущая машинка выходила из строя, но вообще-то, это дело не мое, а моего заместителя по хозяйственной части. Может быть, он и заменял машинки.
– Понятно, – ответил Тим. – Других машинок точно нет больше на вокзале?
– Никак нет, – ответил комендант вокзала. – Весь инвентарь, который имеется, отображен в списке, я лично за этим всегда слежу.
– Ладно, – вздохнув, произнес Тим. – Опять мимо. Благодарю вас, товарищ соплеменник! Выходим!
Офицеры покинули душное помещение склада и вышли опять на свежий, но холодный и сырой, воздух к перронам. Локомотив стоявшего у дальнего перрона казарменного состава издал гудок. Хипо, сонно прохаживавшиеся или стоявшие по краям бетонной платформы, оживились, поправили удобнее винтовки за плечами и принялись торопливо подгонять прощавшихся с родными отъезжавших остарбайтеров к заходу в вагоны, помахивая руками и отстраняя женщин, которые обнимали своих, вероятно, сыновей, и пытались намертво вцепиться в одежду молодых людей. Раздались крики, отчаянные причитания и ругань на русском языке: как со стороны вспомогательных полицейских, с трудом разводивших особенно упорных женщин и тех, кого они провожали, так и со стороны провожавших.
– Шрайбер, – сказал Тим Шрайберу. – давай, пиши протокол… о нашем невезучем результате поиска этой чертовой машинки. И возвращайтесь на второй машине в управление. Поместитесь все?
– Поместимся, герр комиссар, – ответил Шрайбер, кивнув.
– Я с Хеллером поеду в тюрьму, чтобы к обеду разобраться с этими газетчиками. Дел невпроворот…
– Вас понял, герр комиссар! – сказал Шрайбер. Тим, забравшись в свой портфель, достал оттуда лист бумаги и отдал Шрайберу.
– Перо или карандаш возьмешь у товарищей, – он кивком указал на ожидавшего рядом коменданта вокзала.
– Есть, герр комиссар! – ответил Шрайбер.
Часть отъезжавших с дальнего перрона быстро погрузилась в вагоны, махая близким руками на прощание, другая часть то ли колебалась, то ли женщины, не желавшие с ними расставаться, не отпускали. К разгону провожавших присоединилсь охранявшие состав солдаты; в конце концов им и хипо удалось оторвать от мобилизованной молодежи матерей, сестер и прочих родственниц и оттеснить к другому краю перрона; все отъезжавшие зашли в вагоны, но еще продолжали оттуда – из дверей и в окна, махать руками и что-то выкрикивать на прощание. Солдаты принялись задвигать тяжелые двери вагонов. Две женщины на перроне свалились и забились в рыданиях, вокруг них, пытаясь успокоить, принялись суетиться другие провожавшие. Вопросы трудовой мобилизации не относились к ведению ГФП, кроме как розыск тех, кто пытался ее сорвать, но даже Тим обратил внимание на то, как немного мобилизованных по сравнению с положенным по плану количеством отбывало сегодня с вокзала. Сложившаяся на фронтах неоднозначная обстановка требовала усиления работы промышленности, но немецких, польских, украинских и прочих работников недоставало: невозможно же было каждого немца, поляка или украинца отправить на стратегический завод. Поэтому пришло постановление о мобилизации также трудоспособного русского населения, не дожидаясь, пока в России будут сформированы штатские структуры власти. Однако русские врачи, которые осматривали местных людей соответствующего возраста, писали такие заключения, что выходило, будто половина населения города состоит из хронически больных и калек. А немецкие врачи были в связи с возросшим потоком раненых все отправлены в немецкие госпитали, прежде всего, на фронт. В результате масштаб трудовой мобилизации на запад оказывался более чем скромным и едва ли мог удовлетворить промышленные потребности Рейха.
Паровоз снова дал гудок, и состав под рыдания и крики провожавших тронулся, залязгал металлическими конструкциями и, стуча с нараставшей частотой колесами, стал уезжать. Тим, на прощание пожав руку коменданту вокзала, вышел за главное здание и подошел к ожидавшим тут двум «Фольксвагенам» – «родному», который водил старина Хеллер, и еще одному, который водил недавно поступивший на службу в ГФП Ростова молодой шофер Хайнц Зассе. С Хеллером Тим сейчас собирался ехать в тюрьму продолжать допрос арестованных пять дней назад распространителей русских коммунистических газет, а на втором «Фольксвагене» с Зассе Шрайбер и вспомогательные сотрудники ГФП должны были после составления протокола осмотра пишущих машинок на вокзале возвращаться в полицейское управление.
Сбоку от Тима неожиданно и близко кто-то мелькнул, и Тим, вздрогнув, уже механически приготовился отражать нападение, двинул рукой в сторону висевшей на портупее кобуры, но в следующий миг увидел, что это была просто русская старуха в рваной телогрейке, в небрежно закутывавшей седоволосую голову и плечи теплой шали.
– Господин! – жалобно произнесла она, протягивая трясущуюся руку. – Со вчерашнего утра ничего не ела, пожалейте!..
Тим сунул руку, только что готовую было схватиться за пистолет, в карман шинели, извлек оттуда первые попавшиеся денежные купюры и, не разбирая, сколько их и какой ценности, вложил в руку старухе. Морщинистое лицо той сначала просияло, затем заблестело слезами.
– Дай Господь здоровья вам, господин!.. – заговорила она, однако Тиму некогда было выслушивать русские слова благодарности. Подойдя к автомобилю, он открыл переднюю дверцу, уселся, подобрав полы шинели, рядом с Хеллером и, захлопнув дверцу, сказал шоферу:
– Поехали в тюрьму. Шрайбер вернется в управление на второй машине.
– Прямо в тюрьму? – проговорил Хеллер будто с некоторым удивлением в голосе, поворачивая ключ зажигания. Мотор завелся и заворчал, автомобиль мелко завибрировал.
– Да, – сказал Тим. – У нас на сегодня еще много дел. Хочу до обеда разобраться кое с кем.
– Есть! – ответил Хеллер и, нажав на газ, стал выруливать от здания вокзала. И, прибавив скорости, помчал автомобиль по угрюмым улицам полуразрушенного войной осеннего города.
Как Тим в глубине души и надеялся, хотя эсэсовцу не к лицу было испытывать недовольство заданной работой, его не оставили служить в Майкопе, где ему пришлось бы заново вникать в оперативную обстановку и наращивать агентурный аппарат, а отозвали после месяца кавказской службы обратно в Ростов-на-Дону, как оказалось, по особой просьбе директора ростовского управления ГФП. Зибах же был оставлен в зондеркоманде SD-11. И теперь Тим снова ездил в «родном» «Фольксвагене» по привычным ростовским улицам, которые ему уже были знакомы едва ли не как улицы, действительно, родного Штутгарта. Только по мере наступления осени и приближения зимы улицы будущего Клейста-на-Дону становились все более мрачными и неприветливыми – еще мрачнее, чем выглядели летом, потому что после опадания с городских деревьев листвы особенно отчетливо стали видны уродливо громоздящиеся повсюду развалины домов, нагромождения обрушившихся под взрывными волнами бетонных блоков, кирпичных кладок, деревянных балок, стальной арматуры, и на уцелевших зданиях броско темнели кривые трещины, пустые глазницы лишившихся стекла окон, выбоины от осколков авиабомб и снарядов. Все так же между строениями и руинами зияли желтые бомбовые воронки, вдоль улиц лежали скошенные взрывами мертвые деревья. И осенняя пасмурность, затягивавшие небо низкие серые облака добавляли мертвенной тоски этой каждодневной картине; сырой холод с промозглыми ветрами, монотонно двигавшиеся вдоль руин по тротуарам зябнущие молчаливые прохожие придавали ощущение какой-то неестественной, фантастической антиутопии, словно и не было в этом многотысячном городе никакой жизни, а были лишь пустота и серый мрак, и местные жители, вечно утомленные, занятые своими насущными делами, пропитанием и обогревом, тоже казались не более человеческими существами, чем порхавшие среди развалин голуби и вороны.
Прошло лето, подходила к концу и осень, а Ростов стоял все такой же мертвенно-угрюмый, искореженный боями, неприветливый, а теперь еще и холодный. За все месяцы, прошедшие с момента занятия города немецкой армией, город не был восстановлен даже на четверть. До сих пор в нем не работал водопровод, и по-прежнему даже в немецкие военно-административные здания, в том числе в полицейское управление, в немецкие жилые кварталы воду подвозили в бочках из Дона. На берегу большой реки постоянно толпились женщины с ведрами и коромыслами. Электричество тоже отсутствовало в большей части города, и немногие заново отстроенные, отремонтированные здания не вносили существенных изменений в общую картину военных разрушений. Даже открывшиеся во многих местах, особенно в населенной предприимчивыми людьми Нахичевани на востоке города, магазины, кафе, пивные, закусочные не оживляли сурового военного бытия, а скорее смешно и аляповато смотрелись на общем мертвенно-сумрачном фоне.
Местные жители упорно не хотели работать, поэтому восстановление города шло крайне медленно и буксовало. Каждый день мобилизованные горожане шли толпами на расчистку сора и отстройку разрушенных зданий, потом расходились по домам, но изо дня в день почти ничего не изменялось, словно работники просто сидели на своих объектах и ничего не делали. Когда хозяйственный отдел комендатуры города требовал объяснений у непосредственно ответственных за гражданские работы русских служащих, те оправдывались, говоря, что не хватило нужных материалов, что повреждения зданий оказались более значительными, чем вначале предполагалось, что цемент на холоде застыл, и придумывая прочие подобные отговорки. Было ясно, что местные категорически не желают работать под властью немцев, даже на собственное благо, и предпочитают этому жить в руинах, таскать через полгорода воду из реки, коченеть от холода по ночам. Вспомогательные полицейские же кто-то боялся мести со стороны соплеменников, особенно после того как стало известно о трудностях для немецкой армии на фронтах, кто-то был заодно со своими сородичами, а в полицию поступил только ради сытной жизни. Поэтому и решительно принудить местных жителей трудиться добросовестно было фактически некому. Местные старались прямо не выказывать своей ненависти к немцам, держались обычно подчеркнуто равнодушно, однако агентура доносила о том, что все больше здешних людей: и русских, и казаков, и украинцев, и армян, и даже фольксдойче, ждут возвращения власти коммунистов.
Тима, который в начале своей службы собственно в России не раз идиллически воображал себе, как местный народ, увидев сильную руку немцев, оставит свою злобу и начнет жить с немецкой Нацией в благоприятном симбиозе, помогая распространить и возвысить немецкую культуру, немецкий дух, взамен же получая заботу и справедливое управление, теперь начинали раздражать эти упрямые, способные повиноваться только себе подобным бездельникам люди. Тим был наслышан о том, что в руководстве СС разрабатывается план по переселению большинства славян после окончания войны на восток за Урал – туда, где малопригодные для хозяйствования земли все равно не привлекут немецких поселенцев, но находятся обильные запасы полезных ископаемых и промышленного леса, к разработке которых как раз следовало бы привлечь не способные к высоким чувствам и интересам низшие народы. Им будет все равно, где жить, лишь бы получать кормежку, и Тим теперь поддержал бы этот проект: чтобы земли на Дону были расчищены для немцев, и здесь можно было бы жить и работать, не опасаясь стрелковой очереди из каждого городского окна. И наконец, привести этот большой и бывший когда-то красивым город, важный промышленный центр и транспортный узел, в надлежащий вид.
Управляемый Хеллером автомобиль снова подъехал к глухим стальным воротам тюрьмы, которые отворились после того как начальник караульной смены проверил у Тима, хотя давно знал его в лицо, документы. Оставив, как обычно, Хеллера дожидаться в машине на парковке тюремного двора, Тим, неся под мышкой портфель, прошел в узкую дверь штабного корпуса, оставил шинель служащему гардероба и поднялся в кабинет коменданта тюрьмы. После приветствия и обмена любезностями комендант позвонил начальнику охраны корпуса, в котором содержались арестованные «газетчики», предупредил, что тех сейчас надо будет по очереди отводить на допрос и сразу же приказал по просьбе Тима доставить в допросную камеру арестованную девушку. Тим прошел по мрачным тюремным коридорам через посты приветствовавших его сотрудников внутренней охраны и двери в стальных решетчатых перегородках к допросным камерам, обменявшись приветствиями с прохаживавшимися по коридору возле тех охранниками, прошел в ту, где сейчас предполагалось проводить допрос. В сумрачном помещении с толстыми кирпичными стенами и высоким потолком, с высоко расположенным зарешеченным окошком, он сел за привинченный к полу стол, снял и положил на край того фуражку, не спеша извлек из портфеля два листа бумаги, которые положил на крышку стола, а портфель убрал на полку под крышкой. Дважды щелкнул выключателем настольной лампы, убеждаясь, что та работает, проверил состояние ручки и наличие чернил в чернильнице. Тяжело скрипнула дверь, и двое конвойных ввели в допросную камеру юную русскую девушку – красивую, со светлой кожей и правильными чертами лица; она шла, пошатываясь, в измятой и полурасстегнутой из-за отсутствия нескольких пуговиц, вероятно, оторвавшихся во время прошлого допроса, рубахе, с распущенными и не убранными светло-русыми волосами, напоминая Жанну д’Арк после пыток англичанами. Сразу следом за арестанткой и конвоирами вошел тюремный переводчик Репьев. Шаги вошедших гулко раздавались в мрачных кирпичных стенах.
– Хайль Гитлер! – поприветствовали Тима конвойные.
– Хайль Гитлер! – ответил Тим.
– Заковать арестованную? – спросил старший конвоир.
– Не надо, – сказал Тим. – Так сажайте: с девчонкой как-нибудь справлюсь, если набросится, – он усмехнулся.
Конвойные весьма резко усадили бледную, простоволосую девушку в растрепанной одежде и с лиловыми синяками на портретно красивом лице на стул с высокой спинкой напротив Тима перед столом. Репьев, обойдя конвойных и стол, сел на стул рядом с Тимом. Тим за год с лишним своей службы в отвоеванных у русских коммунистов землях овладел русским языком в достаточной степени, чтобы в общем понимать речь местных жителей и объясняться, но при ведении допроса могла возникать необходимость употребления либо заслушивания нечастых в разговорном общении, специальных или все-таки еще не выученных слов, поэтому переводчик все-таки требовался. Конвойные вышли, закрыли стальную дверь, и лязгнул замок.
Тим, положив руки на стол поверх письменных листов и поигрывая ручкой, посмотрел на сидевшую напротив арестованную девушку. Та сидела, несколько сжавшись, и пыталась прикрыть верхнюю часть своей белой груди лишенными пуговиц бортами рубахи. Густые и спутанные волнистые волосы ее светло-русого цвета частично были закинуты назад, частично свисали на плечо, грудь и придерживавшую отпадавший борт рубахи руку. Светло-голубые глаза смотрели, в свою очередь, на Тима: одновременно с боязнью, ненавистью и стоическим упрямством. Прелестная девица, картинной внешности которой растрепанный общий вид и синяки на белом лице добавляли только особого своеобразия, была напряжена, ожидая то ли новых побоев, то ли вопросов, на которые она категорически решилась не отвечать, и молчала. Тим заметил, как ее сжатые губы – с изящной складкой, умеренной толщины, нервно шевелились, словно, будучи сомкнутыми, еще перетирали что-то внутри. Примерно так и представлял он себе эту девушку со слов Эмана, который производил ее первый допрос.
– Корйенйева Стйепанида Константиновна, правильно? – спросил Тим.
– Да… – глухо ответила девушка. – Коренева.
В связи с резко возросшей в городе активностью коммунистических партизан и подпольщиков рук в ГФП стало не хватать, и тогда на совещании руководства штандарта и высших должностных лиц комендатуры было решено создать в местной вспомогательной полиции собственный политический отдел под кураторством ГФП. Делами импровизированных агитаторов и активных выразителей недовольства существующими порядками стали целиком заниматься русские же полицейские, имевшие намного лучший контакт с населением, чем кое-как способные объясняться на русском языке немцы. В этот отдел постарались набрать наиболее благонадежных русских сыщиков: глубоко и искренне ненавидевших большевистскую власть и тех, кто уже сам снискал ненависть к себе сородичей, а потому вынужден был усердно работать на власть немецкую. Теперь при обнаружении где-нибудь антинемецких листовок, выявлении какого-нибудь тайного пропагандиста, шепотом и на приятельских посиделках призывавшего к поддержке коммунистов, сначала разбиралась вспомогательная полиция, и если возникало обоснованное подозрение на связь дела с организованным подпольем, дело передавалось в ГФП. Конечно, не было гарантий ни того, что русские полицейские подойдут к делу спустя рукава, ни того, что сами же прикроют по-настоящему опасных лиц, но на просеивание всех случавшихся по нескольку раз на дню эпизодов тайной антинемецкой и коммунистической агитации в городе у немецкой военной полиции просто не хватало кадров.
Именно сотрудники политического отдела вспомогательной полиции по своим агентурным каналам выяснили, что восемнадцатилетняя Степанида Коренева, студентка открывшегося недавно токарного училища, хранит в квартире, где живет со своей матерью, большевистские листовки. Под каким-то предлогом хипо провели в той квартире обыск, листовок не нашли, зато нашли большую пачку недавнего номера коммунистической газеты «Известия», по которой сразу стало ясно, что Коренева распространяет эти газеты в городе. Недавние номера разных большевистских газет, в том числе «Известий», постоянно появилялись раскиданными по почтовым ящикам, разложенные по городским скамейкам, даже расклеенные в развернутом виде по стенам и щитам, в разных частях Ростова. Они могли поступать только из-за линии фронта, а значит, их распространители, в том числе Коренева, несомненно, были связаны с русской военной агентурой, и скорее всего, с сетью Югова. Поэтому вспомогательные сыщики, арестовав Кореневу-младшую, а заодно до окончания разбирательства и ее мать, передали дело в ГФП. Директор распорядился сразу отправить женщин в тюрьму, так как опасался, что среди охранявших арестный блок полицейского управления хипо могут быть агенты подполья, а дело поручил расследовать Тиму с командой.
Используя тактику устрашения сходу, Тим не стал самолично проводить первый допрос дочери и матери Кореневых, чтобы раньше времени не вызвать у тех слишком резкой неприязни, а отправил допрашивать женщин Эмана – старшего полицейского секретаря, поступившего в его команду после отбытия под Сталинград Веделя. На первом допросе Степанида Коренева ничего не показала, говорила, что ничего не знает и отвечать не хочет. Ее мать сначала тоже отговаривалась, обвиняла вспомогательных полицейских в том, что подложили им в квартиру газеты, но когда по указанию Эмана казаки из тюремной бригады принялись сечь Степаниду плетьми в присутствии матери, та обвинила во всем некоего Ваську – друга Степаниды, часто бывавшего в их квартире, когда-то состоявшего в Комсомоле, потом выбросившего комсомольский билет. По мнению Кореневой-старшей, именно этот Васька мог склонить ее дочь к вредительству немецким властям.
Получив отчет Эмана, Тим связался с политическим отделом хипо и велел установить негласное наблюдение за Кореневой-старшей, после чего позвонил в тюрьму и распорядился освободить мать подпольщицы. Затем навел справки и выяснил, что некий юноша Василий Сотников учится вместе со Степанидой, и он, действительно, еще до вступления немецкой армии в Ростов неизвестно по какой причине ушел из Комсомола. За Сотниковым также было немедленно установлено негласное наблюдение. Тем временем русские сыщики, наблюдавшие за отправившейся на рынок покупать передачу в тюрьму для дочери матерью Степаниды, увидел, как возле рынка к той подошел очень молодой человек, о чем-то с ней переговорил, и женщина весьма громко обвинила его и еще кого-то в том, что Степанида сейчас под следствием. Один из сыщиков незаметно отправился вслед за тем парнем, и через час тот привел его к квартире, где жил Василий Сотников, после чего вошел внутрь. Затем вышел обратно и отправился, как оказалось, уже к себе домой на юго-восточную окраину города; хипо проследил за ним, и по открывшемуся адресу удалось установить его личность: это был шестнадцатилетний Анатолий Мухин. В течение следующего дня ничего подозрительного в поведении ни Кореневой-старшей, ни Сотникова, ни Мухина замечено не было: женщина относила передачу дочери в тюрьму, Сотников занимался в училище, Мухин был на мобилизационных работах по расчистке улиц. Агентам политического отдела хипо тем временем удалось как бы невзначай побеседовать с разными знакомыми этих находившихся в оперативной разработке людей. Оказалось, что Сотников раньше был убежденным приверженцем идеологии Маркса и Ленина, в Комсомол вступил не ради всяких социальных льгот, как делали при большевиках многие русские молодые люди, а по искреннему желанию, но покинул ряды коммунистической молодежной организации из-за крупной ссоры с каким-то ее руководителем. У Мухина же отец был офицером-красноармейцем, служил где-то на советской границе и погиб в июне 1941 года в результате наступления немецкой армии.
Тим посовещался с директором, и оба они пришли к выводу, что Сотников был, без сомнения, тайным большевистским агентом, которого подполье, зная о его в целом глубокой приверженности марксистскому учению, решило использовать в своей деятельности. Мухин, конечно, был озлоблен на немцев за смерть своего отца, поэтому тоже охотно присоединился к подполью. Также директор предположил, что подпольщики наверняка уже успели незаметно для вспомогательных сыщиков дать знать соратникам об аресте Кореневой-младшей, и остальные члены организации или организационной ветви залегли на дно, поэтому посчитал нужным не тянуть с арестом тех, кто был уже выявлен. Дождавшись, когда Мухин снова явится в квартиру Сотникова, Тим отдал распоряжение об их аресте там же, а также об аресте всех взрослых лиц, проживавших с ними на одной жилищной площади. Так в тюрьму, кроме Сотникова и Мухина, были еще доставлены оба родителя первого и мать второго. В квартире, где проживал с родителями Сотников, было при обыске обнаружено еще несколько экземпляров коммунистических газет «Известия» и «Комсомольская правда». Первый допрос снова проводил Эман. Несмотря на внушительные жесткие меры воздействия, оба юноши отрицали свою причастность к подполью, хотя Сотников вроде начинал слабо поддаваться, говорить, что газеты попросил его подержать у себя некто Романов, работающий на вокзале, и что сам он эти газеты не читал, разочаровался в коммунистических идеях, потому и ушел из Комсомола. Проверка, однако, показала, что этот Романов был просто выдуман подследственным. Родителей подпольщиков жестким методам допроса не подвергали, хотя некоторое словесное давление было на них оказано, впрочем, по всему было видно, что старшие Сотниковы и Мухина, действительно, не имели представления о том, чем занимались их сыновья, хотя и не выказывали никакого раскаяния за своих коммунистических отпрысков, грубили полицейским и грозили тем некой скорой, правда, неопределенной, карой. Снова посовещавшись с директором, Тим распорядился отпустить родителей подпольщиков под тайное наблюдение.
И вот, теперь Тим прибыл в тюрьму для самоличного допроса молодых людей. После нескольких дней в тюремных стенах у них должен был наступить период апатии и тоски по свободе, по солнцу и свежему воздуху, по близким и друзьям, и у них было достаточно времени, чтобы задуматься, стоит ли дело, которое они себе выбрали, таких жертв. И первой перед Тимом сидела Степанида Коренева, у которой было найдено основное количество изъятых коммунистических газет.
– Как ви себйа чууствойте? – спросил Тим у избитой и растрепанной, но все равно красивой, девушки.
– Какая вам разница? – невнятно проговорила, точно выдавливая слова из-под смыкавшихся губ, юная подпольщица. – Вы доктор, что ли?
– Ви полючат подарки от ваш мат?
– Я всё получаю, – ответила Коренева, потупив глаза.
– Sehr gut! – проговорил Тим. – Ми начнем наш разговор. Да?
– Мне все равно нечего вам сказать, – будто с робостью, не поднимая глаз, но все же твердо ответила девушка.
– Почему ви не хотит говорит со мной? – спросил Тим.
– Мне просто нечего вам сказать, – повторила уже более решительно Коренева.
– У вас йест, што мне говорит, – мягко, но упорно возразил Тим. – Ваш Quartier биль много газет от Коммунисти-чески партиа. Ви один… одна из люди, кто распространйат эти газета в город. Эти газета очен новийе… они очен недавно из печат. На наша сторона kommunistische газета не печатат. Где ви эти газета взйали?
Девушка молчала, чуть склонив вперед голову со спутанными волосами, и нервно мяла пальцами беспуговичные края бортов рубашки на груди.
– Ви понимат менйа? – спросил Тим. – Или надо казат перевоччик?
Девушка не отвечала, Тим видел только, как еще сильнее стали сжиматься и вновь расслабляться, будто перетирая что-то во рту, ее губы.
– Ви всйо понйали! – уверенно сказал Тим, откидываясь на спинку кресла, в котором сидел. – Ви не хотите одат нам ваши товариши или не хотите делат нам помош просто? Да, ми фашисти, ми войеват за traditionelle… э-э… System. Но ви не правильно думат, што traditionelle System это плохо. Ви молодайа, ви не знат шизн до kommunistische Revolution, но комунисти вас обману́т. До kommunistische Revolution не биль… э-э… гóлёд, красни Terror, рабство от комунисти. Ми войеват против комунисти – поэтому ми приходили ваш страна. Ми хотим убират комунистически власт… штоби гóлёд, красни Terror и рабство больше не билё. Но пока идйот война ми дольшен войеват против любой враг. Ви помогат комунисти – значит, ви тоше враг. Ви молодайа, длйа чево вам надо войеват против Germania? Буд мирнайа – и ми будем мирни до вас!
Коренева по-прежнему молчала, сидела на привинченном к полу стуле с высокой спинкой и слабо покачивалась взад-вперед. Переводчик Репьев сидел на стуле рядом с Тимом, от долгого безделья обмякнув и прикрыв глаза, будто задремал.
– Ми не звери совсем, – продолжал Тим убеждать подследственную. – Ми не хотим, штоби ви умирали. Покаши нам, што ви не хотите дольше войеват против Germania. Говорите, кто даль вам эти газети, – Тим выпрямился, сидя в кресле. – Ви всйо чесно говорите – и ми не думат, што ви длйа нас враг. По ваш дело вам будет наказанийе – ви будете Lager делат Strafarbeit времйа, сколько дават вам суд, затем ви будете свободнайа. Ви понимайете менйа?
Девушка будто сильнее сжалась на стуле и снова ничего не ответила.
– А йесли ви мольчите, – продолжал Тим. – то по наш приказ ви длйа Germania враг. Наш Kommandantur тогда дольшен одат приказ растрелйат вас, – помолчав, он добавил:
– И это дело не в мой власт: йа только веду следствиэ… Ви мне показат, кто даль вам газета, и йа писат, – он выразительно поводил сухим пером ручки по бумаге. – што ви дат показанийе – ви не враг длйа нас. Йесли йа не писат – ви будете как враг – и Kommandantur вас растрелйат. Говорите мне, што би́лё, кто даваль вам газета, штоби йа мог писат это!
Коренева так и сидела, сжавшаяся, растрепанная, с синяками на своем картинном девичьем лице, и молчала, слабо покачиваясь на стуле.
– Идйот война, – сказал Тим. – Kommandantur дольго шдат не будет. Йесли ви будете упрйамайа – ви дольго не будете шит. Tribunal нет, показоват… Gerichtsurteil не будет. Ви один рас ходит… из ваш Kamera… не знат, куда – и вас растрелйат. Спасайте свой мóлёдост и шизн, не давайте Germania йешо рас убиват челёвéка! Ми тоше не хотим убиват! Говорите, кто даль вам газета?
Тим не блефовал: ввиду резко возросшей активности антинемецких сил в тылу и нехватки средств на содержание заключенных поступил верховный приказ о казни всех арестованных партизан и подпольщиков, которые в течение установленного для следствия срока не дают исчерпывающих и правдивых показаний. Вести долгое расследование, планомерно выявлять и изобличать целые подпольные организации в сложившейся обстановке уже не представлялось возможным, и руководство армии и СС теперь предпочитало хотя бы подрывать силу и организованность подполья простым уничтожением выявленных участников того, заодно эффективнее устрашая местных жителей, которые еще не успели совершить каких-либо действий против немецких армии, власти или союзников, но были склонны к противодействию. Об этой стратегии Тим уже слышал от шефа зондеркоманды Кюбека во время командировки на Кавказ.
– Ви мольчите, – вздохнув, произнес Тим, и, продолжая поигрывать ручкой, снова откинулся на спинку кресла. – Йесли ви не будете говорит несколько ден йешо – ви убиват сйэбйа так. Йа предупрешдаль вас! Думайте о ваша молодост, о ваши роднийе люди, о ваш шизн… што у вас на переди польни… у вас йест времйа делат всйо хороши способ и шит на шастйе. Но ви, пока вас не растрелйат, дольшен говорит мнйе, кто даль вам газети! Или ви сйебйа не спасат!
Коренева молчала.
– Девушка думает, что своим молчанием она спасет своих друзей! – как бы невзначай сказал Тим уже почти уснувшему рядом на стуле переводчику Репьеву по-немецки. Тот разом встрепенулся и, посмотрев на Тима, спутанно проговорил:
– Д-да…
– А ее друг Анатолий Мухин наверняка будет сговорчивее, – продолжил Тим, открыто обращаясь теперь к переводчику. – он-то уж точно не идейный коммунист, а просто наивно решил свести с нами счеты за своего отца-офицера. Так ведь, дорогой друг?
Коренева, ничего не поняв, конечно, по-немецки, но услышав знакомые имя и фамилию, встрепенулась на арестантском стуле: ведь она еще не знала, что Мухин и Сотников арестованы, причем на Мухина и ее мать при первом допросе не указывала.
– Да, вы правы! – ответил Тиму Репьев, еще плохо соображавший, о чем идет речь.
– Мухин – коммунистический сынок, его давно следовало бы отправить в Люблин, в лагерь, – продолжал Тим будто бы разговаривать с переводчиком. – но сначала надо выяснить у него всю известную ему информацию по этим проклятым газетам.
– Будем сегодня его допрашивать? – спросил Репьев.
– Обязательно! – сказал Тим, кивнув. – Какие все-таки у вас, русских, простите, тяжелые для произношения имена! – и как мог отчетливее, чтобы подследственная слышала, выговорил:
– Анатолий Мухин!
Девушка невольно приподняла голову, обрамленную пышными спутанными волосами. На ее красивом, несмотря на синяки и бледность, лице появилось мучительное выражение. Вероятно, она думала, не ослышалась ли, не в руках ли немцев находится ее юный друг, и если да, то не выдал ли кто-нибудь его немцам. И не сам ли Мухин оказался провокатором, выдавшим немцам ее. Если все так – это ведь горе, предательство, позор, а главное, ей теперь никак не отвертеться от обвинений, раз кто-то сдал ее с потрохами, да и других ее приятелей, наверняка, тоже выдал. И впереди – конец всему. Тогда Тим перешел в более решительное наступление и снова задал Кореневой вопрос:
– Не Мухин, ваш друг, даль вам газета? Так? Мухин молёдóй. Кто даль вам газети?
– Откуда вы его знаете? – не выдержав, произнесла девушка.
– Ваш друг Сотникоф говориль, – вывалил Тим на подследственную следующую шокирующую информацию. Теперь девушка будет думать, что Сотников выдал всю их компанию, и конечно, рассказал все и про нее тоже.
– Мама, зачем ты сказала им!.. – мучительным полушепотом проговорила Коренева, прикрыв глаза и сначала чуть вскинув, затем снова опустив голову. Она явно думала, что это ее мать указала на Сотникова, а тот, не выдержав на допросе, все выдал. Затем опять подняла голову и уже другим – сквозящим лютой злобой, взглядом посмотрела на Тима.
– А где он теперь?
– Кто? – спросил Тим.
– Толик, – ответила девушка.
– Пока полицейски управлениэ, – ответил Тим, не желая сообщать подследственной, что ее подельник тоже находится в этой тюрьме.
Коренева, снова прикрыв глаза и напрягши мышцы лица, издала какое-то злобно-отчаянное мычание.
– Это ваш Kavalier? – спросил Тим. Девушка широко раскрыла светло-голубые глаза, вспыхнувшие яростью.
– Скоро Красная Армия покажет вам кавалера, фашистские мрази! – вдруг визгливо заорала она, и голос ее гулко отдался в высоких стенах допросной камеры. – Душегубы!.. Убейте всех нас, но вы ничего не узнаете!.. Не взять вам нашей земли!.. – она начала всхлипывать, и на прекрасном лице ее заблестели слезы. – Убирайтесь в свою Германию! Здесь вы пропадете!.. Все пропадете!.. – она зарыдала на несколько секунд, а затем замолчала и уставилась в свои колени.
– Пейте вода! – сказал Тим, из стоявшего на столе с левой стороны графина налил воды в стакан и протянул девушке.
– Уберите свою руку! – злобно выговорила она, вскинув голову и тряхнув распущенными в беспорядке, как у русалки, светлыми волосами.
– Хорошо, – сказал Тим и отставил стакан. – Йесли ви говорит всйо што биль, ви помогат сйебйе и ваш друзйа. Йа обешайу вам.
Коренева покачала головой. Плечи ее нервно вздрагивали, губы что-то беззвучно лепетали.
– Нет… – наконец, проговорила она. – Нет… не скажу ничего…
– У вас йест несколько ден, штоби думат по другой, – спокойно сказал Тим и нажал на кнопку вызова конвоя. – Думай! Спасите сйебйа и ваши друзйа! Когда будйет растрель – ничево не делат!.. Позно!
Лязгнул замок, скрипнула тяжелая металлическая дверь, и в помещение, гулко стуча сапогами, вошли двое конвойных.
– В камеру! – приказал Тим. – И ведите сюда Мухина.
– Есть!
– Есть! – ответили конвойные и подошли к девушке.
– Встать! – приказал старший. Покачиваясь и все придерживая распахивавшиеся на груди борта рубашки, Коренева встала.
– Вперед! – конвоир подтолкнул ее в сторону открытой двери. Девушка направилась к выходу, ступила в тюремный коридор; за ней вышла и охрана.
– Теперь послушаем, что следующий скажет, – произнес Тим, обращаясь к Репьеву.
– Да! – сказал тот, кивнув.
Достаточно быстро конвойные вернулись и ввели в допросную камеру Мухина со скованными за спиной руками. У стола отстегнув ему один наручник, юношу посадили на стул подследственных и вновь заковали руки уже за спинкой того. Мухин обмяк на стуле, полусогнувшись со скованными за спинкой руками, косо склонив голову, в то же время слабо пытаясь глядеть на Тима и Репьева. Это был светловолосый худощавый подросток с еще выраженными детскими чертами бледного изможденного лица, одетый в мятую и полностью расстегнутую рубаху зеленого цвета и серые брюки. Оставив подследственного скованным на стуле перед столом, за которым сидели Тим и переводчик, охранники вышли, закрыли и заперли стальную дверь.
– Мухин, ви впорйадке? – спросил Тим, видя, что подследственный юноша совсем обессилен.
– Мне плохо… – пролепетал Мухин. – Позовите врача…
– Хорошо! – сказал Тим и, сняв трубку телефона внутренней связи, запросил тюремного дежурного вызвать в камеру врача из лазарета. Вскоре снова лязгнул замок, стальная скрипучая дверь отворилась, и в полутемное помещение вместе с охранниками вошел в белой спецодежде врач с медицинским чемоданчиком.
– Что случилось? – с готовностью приступить к своему делу спросил он.
– Сделайте так, чтобы этот молодой русский человек мог бодро отвечать на вопросы, – сказал Тим, кивком указав на обвисшего в наручниках на стуле Мухина.
– Разрешите! – сказал медик, ставя чемоданчик на стол перед листами бумаги из портфеля Тима.
– Пожалуйста! – сказал Тим, чуть отодвигая листы назад.
Охранники вновь расковали Мухина, и врач через шприц ввел что-то в вену юноше. Тот дрогнул веками, заморгал глазами и, тяжело вздохнув как простонав, сел на стуле несколько прямее.
– Не надо его заковывать! – сказал Тим охранникам, махнув рукой. – Все равно вряд ли он сейчас в боевом состоянии.
– Есть! – ответил старший охранник.
Врач и охранники вышли, дверь вновь закрылась. Мухин сидел на стуле для допрашиваемых в расстегнутой рубашке поверх не заправленной белой майки, обессиленно склонившись набок, часто дышал и мутным, но озлобленным взглядом из-под приподнятых век смотрел на Тима.
– Кто вы? – тяжело выговорил он.
– Йа Feldpolizeikommissar, – ответил Тим. – Йа веду ваше дéлё о свйаз со преступнайа группа. И ваши подйельники Сотникоф и Корйенйева.
Изможденный подросток промолчал, закрыл глаза и опустил голову.
– Они говорйат нам разнойе, – Тим снова перешел к блефу, чтобы создать у этого юнца впечатление, будто его товарищи уже все рассказывают, и ему бессмысленно отпираться. – кашди показат на другой. Сотникоф говорит, Корйенйева сама полючат комунистически газети и носи́т йево Quartier, а Корйенйева говорит, полючат газети от Сотникоф. И йешо много они говорили, но не всйо йасно.
Мухин издал тяжелый стон.
– Ваше самочуствиэ опйат плёхóй? – с деланным участием спросил Тим, наклонившись чуть вперед – к подследственному. Снова приоткрыв глаза, юноша ответил:
– Можно мне в камеру, где есть, где лежать… Я в своей могу только сидеть… в ней даже ноги не вытянуть… У меня все болит… один ваш… когда нас взяли… приказал меня бить… у меня кожа пооторвалась сзади, и никто меня не лечил… Я уже столько дней в камере сижу на полу, а лечь не могу, потому что места нет… и там холодно…
– Йа буду говорит Kommandant от эта тюрма о болейе хороший место длйа вас, – сказал Тим, кивнув. – Хотите вода? – он подвинул к подследственному наполненный водой стакан, который отказалась принять Коренева. Трясущейся от слабости рукой юноша взял стакан, поднес, согнувшись, к губам, отпил несколько глотков, закашлялся, потом еще дважды сглотнул и, опустив стакан на стол, обессиленно откинулся на высокую спинку допросного стула.
– Ви думат, што ми злёйе звери, – Тим начал повторять Мухину то же, что говорил Кореневой. – Вам так говориль комунистически Agitator. Ми не злёйе люди. Ми войеват против комунистически партиа, потому што она делайет злё наша страна. Ви не шиль врйемйа до kommunistische Revolution, ви знат о то врйемйа только от Agitatoren. Комунисти вас обмановали: то врйемйа биль хороший врйемйа. Росиа биль не гóлёд, бйез красни Terror, бйез рабство от комунисти. Ви менйа понимайете?
– Понимаю, – глухо произнес юноша, чуть двинув светловолосой головой.
– Ми ходили ваш страна только потому што ми война делайем против комунисти… по другой они нам тоше будут делат гóлёд, Terror и злё. Ми побешдайем комунисти – и ваш страна будет опйат сити и свободни. Но идйот война, и наш Kommandantur дольшен знат все люди, кто помогат комунисту, как враг. Йесли ви помогат комунисту – ви тоше враг. Против враг наш Reich дольшен зло срашаца. Ми не плёхóйе люди, и йесли ви показойте длйа нас, што ви не враг, ми будем длйа вас menschlich… э-э… хорошо… Ви говорите нам, кто говориль вам ходи́т до мат от ваша подруга Корйенйева у ринок, и што ви говорили длйа этот шеншина. Тогда ми будем вйерит, што ви не враг. Ви будете имйет наказаниэ по ваш дéлё, но ви молодой, наказаниэ строги не будет. Ви йехат Lager in Lublin делат Strafarbeit времйа, сколько дават вам суд, затем ви будете свободни. Переведите ему, – обратился Тим к Репьеву по-немецки. – что если он правидиво расскажет, кто посылал его к матери Кореневой возле рынка, и что велел ей передать, то он докажет, что не является для нас врагом. В таком случае с ним обойдутся по суду и, учитывая его молодость, строго не накажут. Он отбудет штрафные работы в лагере в Люблине и затем будет освобожден, вернется в свой город и сможет зажить честно и спокойно.
Репьев довольно равнодушным тоном перевел бессильно осевшему на стуле юноше слова Тима. Затем Тим заговорил, снова обращаясь к переводчику:
– Но если он честно не скажет, кто послал его к матери Кореневой, и что велел передать ей, наша комендатура будет вынуждена считать его врагом – соответственно приказу, и тогда он просто будет расстрелян как военный противник. Разъясните ему, что я просто веду следствие, и если я запишу его правдивые показания – на их основании суд вынесет мягкий приговор. Если же мне нечего будет записать – комендатура уже без всякого суда отправит его под расстрел. Тогда он даже не узнает время казни: просто в один день его выведут из камеры и расстреляют. Пока он может, он должен спасти себя и своих друзей, рассказать правдиво все, как было.
Репьев снова перевел Мухину. Юноша слабо качнул поникшей головой и произнес:
– Я же сказал… Я правду говорил вашим людям, клянусь… Я просто спросил у Фени, что со Стешей – и всё… Почему вы мне не верите?
– Потому што ви говорите не правда! – без угрожающей интонации, но прямолинейно сказал подследственному Тим. И снова обратился к переводчику:
– Объясните ему, что его друзья уже рассказали, что он тоже помогал им в их делах… Они испугались, что он не выдержит и расскажет о них раньше. Коммунистические активисты только на словах герои, а когда приходит время расплачиваться – никто из них не торопится приносить себя в жертву. Мне только надо устранить противоречия в их показаниях и узнать, кто конкретно отправил этого мальчика к матери Кореневой.
Репьев перевел Мухину. Юноша простонал и, приподняв голову, томно-измученным взглядом посмотрел на Тима. Тим сразу уловил, что Мухин сейчас в сомнениях: подросток догадывался, конечно, что Тим может блефовать, и что никто из приятелей его не выдавал, но был еще наивен и внимательно воспринимал убедительно обставленную речь, а желание хоть как-то облегчить свое положение после жесткого допроса Эманом и нескольких дней в строгой камере подталкивало его против воли поверить обнадеживающим словам Тима. Наверняка он уже не раз пожалел, что поддался бессмысленному искушению отплатить немцам за погибшего отца, тем более, вряд ли он сам лично успел нанести своим врагам какой-либо существенный ущерб, но он, конечно, не хотел становиться предателем в глазах друзей или опасался, что если он выдаст кого-либо, еще не попавшего в руки полиции, тот будет убит. Однако юноше, несомненно, и самому хотелось жить: шестнадцать лет – не слишком подходящий возраст для завершения жизненного пути. Если в бою нет времени думать о смерти, то в тюрьме – предостаточно.
– Обманывают они… – проговорил Мухин.
– Ваш друг говорйат не правда о вас? – с деланной иронией переспросил Тим.
– Неправду, – сказал Мухин и снова обессиленно склонил голову.
– Хорошо, – нарочито злорадно усмехнувшись, сказал Тим. – Ми сечас зват их сйуда, – он поводил в воздухе пальцем, как бы очерчивая допросную камеру. – и спрашиват, почему они говорйат против ви… э-э… лёшни слёво… почему они говорйат, што ви их подельник, а ви… чисти челёвéк. И ви сам их спрашиват, почему они о вас говорйат не правда! – Тим снял трубку телефона внутренней связи, поднес к уху. И обратился как бы между делом к переводчику:
– Скажите молодому человеку, что сейчас будет очная ставка. Если ему есть, что сказать, до ее начала, пусть говорит. Если сейчас его приятели расскажут все до него – ему уже трудно будет оправдаться, а мне со своей стороны – спасти его жизнь.
Репьев, придав голосу категоричной суровости, перевел Мухину. Тим же связался с командиром внутренней охраны тюрьмы и предупредил, что скоро закончит допрос Мухина, чтобы конвой был готов доставить в допросную камеру Сотникова.
– Конечно, герр комиссар! – ответил по телефону удивленный, зачем Тиму понадобилось делать дополнительные предупреждения, когда и так было понятно, кого вести на допрос следующим, командир охраны. – Все уже готовы.
– Ждите моего звонка! – сказал Тим.
– Есть! – ответил командир охраны, и Тим повесил трубку.
Мухин не понимал немецкую речь и не мог еще критически мыслить в должной степени, чтобы распознать искусный блеф опытного полицейского дознавателя. Тяжело выдохнув, юноша проговорил, измученным взглядом вопросительно посмотрев не на Тима, а на более понятного ему, потому выглядевшего менее устрашающим, своего соплеменника переводчика Репьева:
– Они что, правда… обо мне всё рассказали?
– А вы как думали, молодой человек? – серьезно ответил Репьев. – Вас еще пожалели, допрашивали не так сурово. Одно дело – играть в войнушку, а другое – в самом деле сидеть на допросе. Вы сами, наверное, в этом убедились.
Мухин снова уронил голову, взялся за нее рукой и стал нервно теребить пальцами взлохмаченные светлые волосы. Тим подумал, что подросток, вероятно, одновременно и рад, и не рад известию, которое он, по неопытности или несознательности заглотив детективную наживку, принял за правду: с одной стороны, ему горько от якобы предательства друзей, с другой – можно теперь не выгораживать их, а дать требуемые показания, попытаться все-таки спасти свою оказавшуюся вдруг бесценной жизнь.
– Junge, komm schon!* – сказал Тим несколько смягченным тоном. – У вас нет причина не дават показаниэ!
– Да, я… немного помогал им, – хрипло произнес Мухин. – Воды… можно…
– Bitte! – Тим снова придвинул к нему стакан с водой. Выпив все остатки воды и поставив стакан обратно на стол, Мухин сказал:
– Я почти ничего не делал… в некоторые места относил листовки – и всё.
– Корйенйева или Сотникоф даваль вам листовка? – спросил Тим, обмакивая ручку в чернила.
– Не знаю… – Мухин снова замялся. Было видно, что он чего-то категорически не желает говорить, даже несмотря на то, что друзья его предали, как ему казалось, и ищет способа представить все не совсем так, как было на самом деле. – Мы собирались – разбирали листовки и шли их раскладывать по ящикам…
– Где ви собиралис? – спросил Тим.
– У Васи… дома…
– Дом у Сотникоф? – спросил Тим.
– Да… – ответил Мухин, секунду подумав. Тим принялся записывать на лист бумаги по-немецки то, что узнал со слов юноши.
– Спросите его, что было написано в листовках, – обратился Тим к переводчику. Репьев перевел вопрос, и Мухин, продолжая колебаться, все же ответил:
– Что-то про Партию… что советская власть… ну… борется…
– В листовках были призывы причинять вред немцам или немецкой власти? – спросил Тим, боком взглянув на переводчика. Тот перевел подследственному.
– Да… – Мухин слабо и робко кивнул. Тим записал на листе, что в листовках содержались призывы к вредительству против немецких властей.
– А стрелять в немцев, убивать их, взрывать немецкие автомобили и поезда? Или полицейские? – спросил Тим. Репьев перевел.
– Воевать… – проговорил Мухин. – А как – не было… написано…
Тим записал, что в листовках содержались призывы к войне с немецкой армией.
– Кто составлял текст листовок? – спросил Тим. Репьев перевел.
– Не знаю… – ответил Мухин. – Правда, не знаю! Они дома у Васи всегда лежали… ну, когда мы приходили, он нам их давал… – юноша осекся и замолчал, видимо, решив, что сказал лишнее.
– Ми понимайем, што Сотникоф даваль вам листовка, – ободрительно кивнув, сказал Тим, держа смоченную в чернилах ручку над бумагой. – Ми йешо ранше это понимат. И Корйенйева это говорит. Продольшайте, Junge.
Мухин молчал.
– Где Сотникоф браль листовка? – спросил Тим.
– Не знаю… – вяло ответил Мухин, слабо пожав плечами.
– Што йешо ви делаль против немйецки власт? – спросил Тим. – Листовка – йешо што?
________________________
*Ну же, мальчик! (нем.)
Мухин опять промолчал.
– Газети? – спросил Тим. Мухин покачал головой.
– Газеты Стеша разносила, я только листовки, – ответил он. – И иногда ходил, проверял, сколько полицаев… ну, там, куда Стеша ходила с газетами… чтобы она не попалась…
– Что он говорит? – спросил Тим, посмотрев на Репьева.
– Он говорит, что газеты разносила Стеша… – сказал переводчик.
– Понятно: Коренева, – сказал, кивнув, Тим.
– А он, – сказал Репьев. – только распространял листовки и иногда ходил по тем местам, где она разносила газеты, чтобы проверить, сколько там полицейских. Чтобы ее не арестовали.
– Понятно, – снова кивнул Тим, отвернувшись от переводчика и опустив глаза на свежезаписанный текст показаний на бумаге. – Спросите его, где он распространял листовки.
Выслушав перевод Репьева, Мухин ответил:
– Ну, у больницы было… у ипподрома… еще на Суворовской…
– Когда? – спросил Тим.
– Не помню, – Мухин неуверенно пожал плечами. – Как-то неделю, наверное, назад… еще раньше в разное время… не помню всего…
– Когда он начал заниматься распространением листовок? – спросил Тим переводчика, одновременно записывая только что прозвучавший ответ Мухина в протокол уже на немецком языке. Репьев задал очередной вопрос по-русски Мухину.
– Не помню… – снова сказал юноша. – Летом… или весной…
– Плёхóй памйат здес делат большой вред, Junge! – предупредил Тим, чуть сдвинув брови. И снова обратился к переводчику:
– Спросите его, как именно он распространял листовки. Расклеивал? Подбрасывал в почтовые ящики?
Когда Репьев перевел вопрос Тима Мухину, подросток кивнул и ответил:
– Бросал в ящики… один раз в телегу бросил…
– Што ви йешо делат против немйецки власт? – спросил Тим подследственного, записав предыдущие показания.
– Ничего, – ответил Мухин. – Больше я ничего не делал.
– Спросите его, как он начал этим заниматься, – обратился Тим к Репьеву. – Как решил бороться против немецкой власти, как пришел в группу к Сотникову, кто его позвал, откуда он узнал, что его приятели занимаются вредительством против нас.
Выслушав переводчика, Мухин ответил:
– Мы все боролись против немцев… как могли… когда началась война. Мы же комсомольцы. Вася мой старый друг, когда немцы пришли сюда, он… мы решили, что надо дальше бороться. И мы стали к нему ходить, он давал нам листовки – и мы их разносили по ящикам всяким…
Выслушав перевод, Тим спросил:
– «Мы» – это кто? Кто еще разносил листовки, кроме него?
Репьев перевел подследственному. Юноша ответил:
– Я и Стеша.
– Так Коренева тоже распространяла листовки? – спросил Тим. Репьев перевел.
– Нет, – Мухин на этот раз сильно поматал головой, вероятно, не желая слишком компрометировать свою подельницу. – Стеша только газеты разносила, а я – листовки.
– Кому она раздавала газеты? И как?
– Я не знаю, – сказал Мухин. – Я с ней не ходил.
– Ну, Сотников же объяснял что-то? Как надо лучше распространить? Как не попасться полиции?
– Он только давал листовки и говорил: будь осторожен.
– Кто еще, кроме Кореневой, работал с вами?
– Да… никого не было… – нерешительно произнес Мухин и нервно задергал рукой. Тиму сразу стало ясно, что теперь юноша снова говорит неправду. – Я и Стеша – всё…
Ухмыльнувшись углом рта, Тим покачал головой.
– Ви думайете, што Сотникоф и Корйенйева не говориль?.. – произнес он. – Не говориль, што ви биль на их в-стреча на другой преступник? Друг, переведите ему, что его друзья рассказали, что он тоже присутствовал при их контактах с другими участниками их группы, – сказал Тим переводчику. Тот перевел Мухину. Мальчик сник, затем сказал:
– Я же не разговаривал с ними сам. Ну, были какие-то еще люди у Васи, но я не знаю, что они там делали… что говорили… не знаю…
– А кто вам говориль ходи́т до мат ваша подруга Корйенйева? – спросил Тим. – У ринок?
– Что?.. – переспросил Мухин. – Да говорю же вам: случайно я ее встретил, вот и подошел спросить, что со Стешей! Феню же тоже арестовывали!..
– А зачем ви ходи́т потом дом Сотникоф?
– Ну, сказать ему, что Стеша в тюрьме…
– Он не зналь это?
– Знал… но… но… – Мухин шумно сглотнул, преодолевая нервный спазм в горле. – Феню ведь отпустили… я и сказал, что Стеша еще в тюрьме…
Тим уже сделал определенные выводы: и Коренева, и Сотников, и, естественно, Мухин были рядовыми членами подпольной организации. И на свободе еще оставались их подельники, в том числе, вероятно, и их руководитель. Мухин дал показания на уже практически изобличенных Кореневу и Сотникова, но пытался спасти тех, кто еще не попался полиции.
– Сечас, – сказал Тим, в упор глядя на подследственного. – эта комната будет Сотникоф. Он будет говорит, знат ви или не знат о людех, котори бит его Quartier. Ви не правда говориль, што спрашиват мат у Корйенйева только один Information о Arrest йево доч. Ви не говорит правда о это дéлё. По это ми делат Arrest мат у Корйенйева и делат йей допрос. Йесли она не говорит тоше, длйа чего ви ходи́т до нэйо в ринок, наш Kommandantur дайот приказ стрелйат йево… йейо после ваш растрель!
– Что, вы и Феню расстреляете?! – произнес ошеломленно юноша. Тим молча кивнул и сделал вид, что перечитывает его записанные на бумагу показания.
– Но она совсем ничего не делала! Я вам истину говорю!..
– Йесли она не делат, но она зналь, што ви делат вред длйа немци! – ответил Тим. – И мольчаль… Она не хотель говорит нам о йейо доч… gut! Aber ваш дéлё она не говориль тоше. Она вас, – Тим ткнул в сторону Мухина ручкой. – тоше скриват. И ваш друг Сотникоф. Она мольчаль о вас оба. И она преступник тоше.
Подросток молчал, не зная, как ему поступить дальше. Тим же придвинул протокол допроса к Репьеву и сказал по-немецки:
– Дайте ему письменно указать, что текст протокола составлен верно. И пусть подпишет.
Переводчик, чуть подавшись вперед, положил лист бумаги перед подследственным и развернул соответствующим краем, после чего стал объяснять Мухину, что тот должен делать. Юноша, будто впавший в ступор, механическим движением взял из рук Тима ручку, дрожащим почерком вывел под немецким протоколом под диктовку Репьева русские слова и поставил нечеткую – от того, что чернил на пере осталось мало, роспись.
– Молодец! – сказал Репьев и, забрав у него лист с протоколом и ручку, вернул все Тиму. Тим взял пресс-бювар и стал не спеша промокать текст, одновременно говоря переводчику:
– Скажите ему, что показания, которые он дал, ничего существенного в дело не добавляют. Поэтому вряд ли они смогут служить смягчающим обстоятельством, когда в комендатуре станут рассматривать его дело. И объясните ему, что исполнение приговора от меня не зависит, но на все про все уйдет несколько дней… может быть, три, а может быть, пять… Может быть, я еще приеду его допрашивать. Но если он за то время, пока его не поведут на казнь, передумает и решит рассказать всю правду… прежде всего, кто руководил их группой и где того найти, он всегда может через охрану позвать коменданта тюрьмы или помощника коменданта, чтобы связаться со мной. Тогда у него будут шансы выжить.
Репьев стал объяснять по-русски Мухину. Тот выслушал, опустив голову, и сказал лихорадочно, с появившимися в голосе какими-то визгливыми нотками:
– Да не знаю я, кто главный!.. Разные люди к Васе ходили… мне не говорили, кто они, правда…
Положив лист с протоколом под крышку стола на свой лежавший на полке портфель, Тим встал с кресла и, разминая ноги, небрежно зашагал вокруг стола и сидевшего на допросном стуле, пытаясь оправдаться Репьеву, подследственного.
– У вас малой времйа думат йешо йест, – сказал комиссар. – И ви дольшен думат. От этот ден сразу!
Как бы невзначай зайдя за высокую спинку стула, на котором сидел Мухин, Тим внезапно схватил подростка пальцами за светлые волосы на затылке и, резко двинув рукой, гулко ударил лицом о крышку стола. Изможденный Мухин не вскрикнул, а скорее громко простонал; левая рука его судорожно дернулась вбок; на дереве стола остались пятна крови. Стиснув в напряжении зубы, Тим снова ударил подследственного лицом об стол, юноша снова не то вскрикнул протяжно, не то застонал, и Тим с силой сунул его окровавленное осунувшееся лицо в крышку стола в третий раз. Затем отпустил его волосы и быстро вернулся за стол в кресло. Переводчик Репьев с непроницаемым видом наблюдал за происходящим. Подследственный юноша с тяжелыми стонами отстранился от стола, хотя ударять его уже было некому, и, откинувшись на высокую спинку допросного стула, обмяк. Лицо его было в крови, текущей из разбитого носа, треснувших губ и ссадин на подбородке и у бровей; кровь запятнала и белую майку в распахе зеленой рубашки.
– Йа даль вам этот удар, – сказал Тим, подавшись через стол к подследственному и глядя в его окровавленное с бессильно отвисшей челюстью и закрытыми глазами лицо. – штоби ви знат: немйецки власт шутка не люби́т. Но йа помнит мой Garantie: ви говорит правда – йа писат правда. И ваш шизн ми спасат! Думай! Йест йешо времйа – думай! – Тим нажал на кнопку вызова.
Залязгал отпираемый замок, скрипнула стальная дверь, и два охранника вошли в кабинет.
– В камеру его, – распорядился Тим. – Ведите того, который остался.
Конвойные подошли к допросному стулу и принялись поднимать с того оглушенного и изможденного Мухина. Бранясь, охранники тянули и дергали юношу за руки и под мышки, мяли и задирали его и без того измятую одежду, но он не мог стоять на ногах, виснул на их руках и что-то тихо и невнятно произносил, безвольно мотая головой и будто всхлипывая: какую-то одну и ту же фразу.
– Что он говорит? – поинтересовался Тим.
– «Я комсомолец», – равнодушно ответил Репьев. Тим махнул рукой и снова достал из-под крышки стола протокол допроса Мухина. Охранники, так и не сумев поставить подследственого на ноги, просто поволокли его из допросной камеры. Скрипнула и закрылась тяжелая дверь; мрачные голоса конвойных и их коллег, стороживших тюремный коридор, стук сапогов растворились и заглохли. Тим, от не схлынувшего внутреннего напряжения напевая простую швабскую песенку о крестьянке под тополем у реки, еще раз перечитал записанные им показания Мухина. Он надеялся, что Сотников, о котором Эман говорил, что тот на первом допросе начал давать слабину, скажет больше и ценнее информации, чем этот подросток, роль которого в организации, конечно, не была сколь-либо велика.
– Как тяжело вести эти допросы, друг! – сказал Тим Репьеву.
– Я вас понимаю, герр комиссар! – ответил переводчик.
– Я сейчас с удовольствием выпил бы чашечку кофе, но некогда: у меня еще множество дел на сегодня.
– Я бы тоже, герр комиссар, – сказал Репьев, улыбнувшись в рыжие усы. – Мы потерпим до обеда?
– Придется потерпеть! – согласно кивнул Тим.
Вскоре дверь снова скрипнула, и конвойные ввели в допросную камеру очередного подследственного, одетого в светло-коричневые брюки, а выше пояса лишь в помятую майку. Тот шел, заваливаясь от изможения набок и оступаясь. Конвойные практически подтащили его к привинченному к полу стулу, усадили на тот перед столом и сковали ему руки за спинкой стула наручниками, после чего вышли. Скрипнула и грохнула, закрывшись, стальная дверь, лязгнул несколько раз запираемый замок. Подследственный – восемнадцатилетний парень, обмяк на допросном стуле с закованными за высокой спинкой руками, уронив голову с осунувшимся худощавым лицом на грудь.
– Ви Василий Сотникоф? – спросил его Тим, пристально на него глядя.
– Ну… я… – слабым и равнодушным голосом ответил измученный первым допросом и несколькими днями сидения в строгой камере подследственный.
– Ви знат, што против… ви йест показаниэ о тйашком преступлениэ?
– Вы уже видели всё… – невнятно произнес Сотников, не поднимая головы и не открывая глаз.
– Вот, ви знат, кто это писаль? – Тим протянул в его сторону шелестнувший лист бумаги с протоколом допроса Мухина, приподнял над противоположным краем стола. Сотников тяжело приподнял голову и открыл мутно глядевшие серые глаза.
– Почем мне знать, что это… – выговорил он. – Не владею я вашим языком.
– Ви смотрет… э-э… подпис в низ.
Сотников с усилием, беззвучно шевеля губами, но прочитал заявление Мухина, что текст протокола был верен.
– И что? – спросил он.
– Это подпис от ваш друг Мухин, – сказал Тим.
– Пускай… – выдохнул, вновь бессильно опустив голову, Сотников. – Я все равно… не знаю его почерка…
Тим вновь положил протокол допроса Мухина перед собой – сбоку от второго чистого листа, на котором он собирался записывать показания Сотникова.
– Скажите этому человеку, – обратился Тим к Репьеву. – что его друг Мухин показал здесь, что это он вовлек его и их общую подругу Кореневу во вредительскую деятельность против немецкой власти, в том числе давал Мухину распространять листовки с призывами убивать немецких солдат и взрывать немецкий транспорт. И объясните ему, что за такие действия его ждет только одно наказание – смертная казнь, без всяких оговорок и всякого снисхождения.
Репьев стал переводить подследственному слова Тима. Сотников снова тяжело приподнял голову и посмотрел на пятна уже загустевавшей крови Мухина на краю стола перед ним. Судорожно и мрачно рассмеявшись, точно откашливаясь, он произнес:
– Я не дивлюсь, что Тошка вам все рассказал… что было и чего не было… – обессиленно выругавшись, Сотников вновь опустил голову.
– Мухин не один даль показаниэ, – сказал Тим. – Ваша подруга Корйенйева тоше говориль это. Но это, Junge, мáлё вашни. У нас йест Protokoll, и наш Kommandantur дават приказ растрелйат вас. Йа только делат запис. Но йа думат, што ви не глауни челёвéк ваша Gruppe. Ваш друзйа Мухин и Корйенйева даваль показаниэ против вас, штоби спасат ваш глауни челёвéк. Йесли ви говорит, кто этот глауни челёвéк у ваш Gruppe, йа это писат и дават Kommandantur. Ми будем искат ваш глауни челёвéк, а ви как не глауни, буде йехат Lager работат как наказаниэ, но буде у вас шизн. Тогда ми не убиват вас, а потом ви буде свободни. Ви понимат менйа?
Секунду Сотников, безвольно обмякший на стуле с опущенной головой и скованными за спинкой стула руками был, казалось, безучастен. Затем негромко, но тяжело застонал, еще будто всхлипнул и произнес:
– Да не было… – будто подавившись, он оборвал речь, шумно вздохнул. – Дайте воды…
Тим снова налил из графина воды в опустевший стакан, встал из-за стола и подойдя, к Сотникову, дал тому напиться из собственных рук. Затем поставил стакан на стол и снова сел в кресло.
– Йа слюшайу вас! – сказал он.
– Не было у нас никого больше, – сказал Сотников с обреченным равнодушием. – Я, Тошка и Стеша… ну… – он снова запнулся, но в следующую секунду выговорил. – Андрей… Болкунов.
Стараясь скрыть охватившие его азартное волнение и чувство обнадеженности, что получится выявить хотя бы еще одну подпольную большевистскую группу, Тим взял ручку, макнул перо в чернила и принялся записывать на чистом листе бумаги имя и фамилию остававшегося не пойманным члена этой организации.
– Скажите ему, чтобы произнес фамилию по слогам, – обратился Тим к Репьеву. Тот перевел подследственному, и Сотников все тем же измученно-равнодушным тоном по слогам выговорил фамилию подельника.
– Теперь спросите, чем занимался этот Болкунов в их группе, – сказал Тим переводчику, чувствуя, как часто и гулко бьется в груди сердце. Репьев перевел, и Сотников ответил:
– Связь держал он… со старшими. Он и газеты нам приносил.
– Кто такие эти «старшие»? – спросил Тим, выслушав перевод Репьева. Тот снова перевел Сотникову.
– Я не знаю… мы их вообще не знали… и не видели… – ответил подследственный. – Болкунов говорил, что это необходимо для конспирации.
Тим и прежде, чем Репьев перевел ему ответ, понял, что в очередной раз полиция сталкивается со стандартной схемой: из всей подпольной ячейки только один человек, а именно – руководитель, знает вышестоящих кураторов и поддерживает с ними связь, остальные же действуют по его указаниям, не имея представления о том, кто их направляет и снабжает всем нужным. Поэтому, пока не изловлен руководитель группы, невозможно выйти на всю сеть подпольщиков и даже на сегмент сети, поскольку у вышестоящего звена тоже могут быть еще более высокие кураторы, с которыми связь поддерживает только руководитель. А руководители звеньев соблюдают максимальные меры предосторожности, поэтому их захватить труднее всего, и в случае ареста рядовых членов они моментально меняют место своей дислокации, обрывают связь с оставшимися на свободе соратниками, пока обстановка не изменится в благоприятную для них сторону. Так и было до сих пор: полиция время от времени захватывала низшие ячейки подпольщиков, иногда удавалось выйти и на среднюю, но всю сеть, во главе которой восседал этот злосчастный Югов, разгромить никак не удавалось: схваченные подпольщики, как правило, знали только о действиях и квартирах своей собственной ячейки, но о других ячейках и о своих кураторах не имели никакого представления.
– Болкунов – ваш глауни челёвéк? – спросил Тим подследственного.
– Ну, считайте так… – выговорил бледный и обессиленный Сотников.
– Где он шивйот?
– Я не знаю… – проговорил Сотников. – Он ушел со своего старого адреса… Когда… когда мы стали работать… он сказал, что переселится… тоже для конспирации… И нам запретил приходить друг к другу… – подследственный шумно сглотнул и с нотками горечи произнес:
– А мы не послушались… – и тихо выругался, будто простонал.
– Спросите его, где раньше жил Болкунов, – обратился Тим к переводчику, быстро записывая в общем смысле показания юноши. Репьев перевел, и Сотников ответил:
– Адреса не назову… не запоминал никогда… могу показать на месте… дом и… квартиру… по Первой Мурлычевской…
Репьев перевел Тиму, и комиссар спросил:
– Он женат? У него есть семья?
– Жена есть у него, – ответил Сотников, когда переводчик задал ему вопрос по-русски. – но я всего раза три – четыре разговаривал с ней… Аня ее зовут…
– Как они познакомились? – спросил Тим, обращаясь к переводчику и записывая предыдущий ответ подследственного. – В смысле, он и Болкунов.
Выслушав вопрос от Репьева, Сотников ответил:
– Мы с детства дружили… жили напротив друг друга… потом разъехались… перед войной опять сдружились…
– Как начали заниматься вредительством против немецкой власти?
Репьев перевел, Сотников ответил:
– Андрей мне сказал: ты духом все равно комсомолец… между людьми всякое бывает… Отсутствие значка не снимает с тебя долга… ну… надо противиться врагам честных людей… надо Родину защищать, надо помогать Красной Армии сражаться… вот…
– Он говориль, што ви тогда опйат буде Комсомоль? – спросил Тим юношу.
– Говорил… – ответил на выдохе Сотников. Он еще сильнее побледнел, точнее, посерел, вновь закрыл глаза и дышал часто и поверхностно.
– Спросите, он ли привел в их группу Кореневу, – обратился Тим к Репьеву. Тот перевел, и обмякший на стуле Сотников, не открывая глаз, слабым и сбивчивым голосом ответил:
– Стешу я позвал… она плакала и жаловалась мне, что хочет бороться… против… немцев… но не знает, как… Вот… я позвал ее… мне ее жалко стало…
– Мухин? – спросил Тим.
– Тошка… он Стеши друг… она его познакомила со мной… и Андрюхой… Андрей сказал… ну хорошо, возьмем…
– Спросите, это Болкунов послал Мухина к матери Кореневой возле рынка? – обратился Тим к Репьеву. Переводчик пересказал вопрос подследственному по-русски.
– Да, это Андрюха его послал… – тяжело произнес Сотников. – узнать… что и как…
– Болкунов всем руководил в их компании? – спросил Тим. – Он ли распределял обязанности, говорил, что именно надо делать?
– Андрей… был у нас главный… – выговорил Сотников, выслушав перевод Репьева. – Он давал всё… мне листовки, Стеше газеты и говорил, в каком районе надо распространить…
– Где они встречались с ним? – спросил Тим.
– Мы встречались в парке… в Нахичевани… – ответил Сотников, выслушав перевод Репьева. – будто гуляли…
– Откуда они знали, когда надо идти на их встречи? – спросил Тим. Репьев перевел.
– Мы приходили на дорожку каждый выходной день… так было условлено… – ответил Сотников. – Там мы обсуждали все дела… и если было дело… Андрей давал нам листовки… и газеты…
– Откуда он их брал? – спросил Тим.
– Этого я не знаю… – ответил Сотников, выслушав перевод. – Он ничего не говорил… просто приносил – и отдавал… говорил… распространить…
– Што йешо ви делат? – спросил Тим у подследственного напрямую.
– Мы должны были считать посты и патрули полицаев и жандармов… в районах, где живем… и где работаем… – проговорил Сотников. – где они находятся, сколько человек в них, чем вооружены… и всё говорить Андрею… Зачем – он не рассказывал…
– Болкунов говорил что-либо о людях, с которыми он работает? – Тим взглянул на Репьева. Переводчик повторил вопрос по-русски подследственному.
– О его группе?.. – переспросил Сотников. – Нет… только говорил, что состоит в боевой группе от Партии и Комсомола… Он объяснял, что чем меньше людей, даже своих, знает о делах… об организации – тем безопаснее…
– Да, верно говорил! – кивнув, произнес Тим, когда Репьев перевел ему ответ допрашиваемого юноши. – Уточните у него, что он еще знает о людях, которые действуют против нашей власти и армии, кроме него самого, Болкунова и тех двоих, кто тоже арестован.
Репьев перевел Сотникову. Тот шумно вздохнул и ответил:
– Мы больше никого не знаем… и о нас никто больше не знает… я думаю…
– Скажите ему, что если он поможет нам найти этого Болкунова, я даю гарантию, что обеспечу ему сохранение жизни, – сказал Тим Репьеву с невольными просящими нотками в голосе. – Он будет отправлен в лагерь – в Генерал-губернаторство, там тоже можно найти общий язык с руководством. Отработает свою вину – и будет освобожден… в конце концов, он сам никого не убивал.
Репьев перевел Сотникову. Подследственный, снова шумно вздохнув, сказал:
– Чем… чем я могу помочь?.. Андрей говорил, что нам надо расходиться, раз Стешу взяли, и когда все успокоится, он сам нас найдет… он и Тошку встретил на улице… чтобы к Стешиной мамке отправить…
Репьев перевел Тиму.
– А Мухин где его нашел, чтобы передать ответ от старшей Кореневой? – спросил Тим. Репьев перевел.
– Ничего Тошка не передал, – ответил Сотников. – Тошка ко мне пришел… поболтать… тут нас и взяли…
– Но где-то же должен был Мухин найти Болкунова, – сказал Тим. – Где?
Репьев перевел подследственному.
– Не знаю… – проговорил Сотников. – Мы подробностями своих заданий не делились… и друг с другом тоже…
«Ясно! – подумал Тим. – Вот, кого не хотел выдавать этот мальчишка!». Он снял трубку телефона и связался с комендантом тюрьмы. Когда тот спросил, что ему угодно, Тим сказал:
– Можно ли Мухина – юнца, которого я сейчас допрашивал, поместить в лазарет и довести до такого состояния, чтобы он при следующем допросе вдруг не умер?
– Вы хотите вылечить арестанта? – спросил комендант.
– Да, – сказал Тим. – У меня к нему еще много вопросов, но он в таком состоянии, что я боюсь, как бы он не отправился на тот свет до окончания следствия или не лишился способности отвечать.
– Без проблем, – ответил комендант. – сейчас отдам указание. Мухин, да?
– Да, Мухин, – сказал Тим. – мальчишка.
– Мы всё сделаем! – сказал комендант.
– Благодарю! – сказал Тим. – Конец связи, – и положил трубку.
Посмотрев снова на изможденного Сотникова напротив, он напористо спросил:
– Но где, где ми мошем йешё искат Болькунофа? Помоги мнйе – йа помогат тебйе!
– Не знаю… – выдохнул будто уже теряющий от слабости сознание Сотников. – Мы с ним… просто так… не виделись… Только по делу… как было условлено… У него… родственница в Александровской… может быть, у нее он…
Тим видел, что сломленный Сотников уже ничего, похоже, не хочет и не может скрывать, только желает, чтобы поскорее все закончилось. Может быть, даже чтобы его быстрее расстреляли – и тогда уже будет безразлично, что о нем станут говорить соратники. Тим вызвал охрану и распорядился увести подследственного, также отпустил Репьева, а сам, убрав протоколы допроса «газетчиков» в портфель, поднялся в кабинет коменданта тюрьмы, который встретил его сообщением, что уже приказал положить подростка Мухина в лазарет.
– Спасибо! – сказал Тим, кивнув. – Мне нужно позвонить в полицейское управление.
– Пожалуйста! – комендант показал на стоявший на его рабочем столе рыжий телефонный аппарат для внешней связи.
Тим позвонил напрямую в свой с командой кабинет и отдал указание поднявшему на том конце провода трубку Эману, чтобы старший подчиненный немедленно связался, в свою очередь, с регистрационным отделом комендатуры города и выяснил адрес проживания Андрея Болкунова, а также, по возможности, адрес некой родственницы Болкунова в соседней с Ростовом деревне Александровской, после чего организовал тайное наблюдение за обеими квартирами. Затем, попрощавшись с комендантом тюрьмы, спустился в тюремный двор, где его дожидался в открытом автомобиле зябко кутавшийся в теплую форменную куртку старина Хеллер. Поодаль у другой отворенной стальной двери корпуса – где производился прием арестованных, стоял еще автомобиль с закрытым кузовом и зарешеченными окнами, от которого до входа в корпус выстроились двумя рядами лицом друг к другу конвойные казаки с винтовками. Из раскрытых дверей кузова двое вспомогательных полицейских в штатском с нарукавными повязками, двое охранников тюрьмы и коллега из вспомогательного отдела ГФП выводили прибывшую новую партию арестантов: двоих юношей со скованными за спиной руками, и уже знакомую Тиму «партизанскую семейку», то есть, уличенных в антинемецкой агитации женщину и двух ее сыновей девятнадцати и пятнадцати лет. Делом этой женщины и ее отпрыков занимался недавно командированный в Ростов комиссар полевой полиции Хомайер: она сама составляла текст призывающих к борьбе против немецкой армии и ее помощников, к ожиданию скорого прихода Красной Армии листовок, вместе со своим старшим сыном вручную копировала их, после чего старший и младший братья расклеивали их на стенах и фонарных столбах в городе, а кроме того, младший мелом писал на стенах угрозы и оскорбления в адрес немцев. В конце концов младшего брата с поличным арестовала вспомогательная полиция, в тот же день со всеми уликами были взяты и старший брат с матерью, но ГФП быстро установила, что действовала эта германоненавистническая семейка сама по себе, контактов с другими подпольными группами и организациями иметь не могла. Другие двое юношей Тиму знакомы не были, значит, не проходили через ГФП: вероятно, находились под следствием либо за уголовные преступления, либо за какие-нибудь одиночные акции против немецких властей или даже просто за слишком неприкрытую ненависть к немцам. Арестованных между рядами конвойных казаков заводили в тюремный корпус на регистрацию и обыск.
– Не сильно замерз? – спросил Тим Хеллера, открывая дверцу «родного» «Фольксвагена» и усаживаясь на привычное место рядом с шофером.
– Я не мерзну! – весело ответил Хеллер. – Это я так… прохлаждаюсь…
– Замечательно! – сказал Тим. – Давай в управление.
– Есть! – ответил Хеллер и повернул ключ зажигания…
Когда Тим, вернувшись в полицейское управление, поднялся в свой с командой кабинет и, сняв шинель, поместил ее на вешалку, после чего расправил на себе китель, к нему из приветственно вставших со своих мест коллег шагнул старший секретарь Эман. Это был австриец, командированный в Ростов с юга Украины и вскоре – после перевода Веделя в 6-ю армию, назначенный в команду Тима. Он был рослый, хотя немного нескладен, смугловат, с шатеновыми волосами, носил по-аристократически длинноватые усы; глаза его были броско-серого цвета.
– Герр комиссар, – стал докладывать он. – ваше указание исполнено, – и протянул Тиму листок бумаги с написанным чернилами адресом. – вот адрес Андрея Болкунова. К сожалению, адреса его родственницы в комендатуре не нашли: возможно, у нее другая фамилия. По адресу этого человека хипо направили двух агентов: один будет вести наблюдение, другой постарается негласно разузнать, живет ли он там вообще, и где его можно найти.
– Ага, спасибо! – сказал Тим и, взяв у старшего секретаря бумагу с адресом, прошел за свой рабочий стол. Остальные офицеры тоже сели на свои места.
– Шрайбер, ты с протоколом закончил? – спросил Тим Шрайбера – единственного из сотрудников, оставшихся тут в его подчинении из первого состава команды.
– Так точно! – ответил Шрайбер.
– До обеда… – произнес Тим, взглянув на часы. – одиннадцать минут! Отлично я успел! А после обеда ты, Эман, снова будешь тут за главного: я уезжаю на встречу.
– Есть! – ответил, кивнув, Эман, сидевший за своим столом, где раньше сидел Ведель. Тим убрал пока свой портфель на полку под крышку стола.
– Послезавтра приезжают генералы из Южного штаба, – произнес он. – Пока директор ничего не говорил, кто будет направлен в охранение. Однако ясно, что рук послезавтра у нас будет не хватать: крупную часть всех полицейских сил направят к комендатуре и потом еще к театру.
– Почему к театру? – спросил Шрайбер. – Они пойдут в театр?
– Да, – Тим кивнул. – Местные там какое-то представление готовят для наших гостей.
– Было бы неплохо нам в охранение пойти, – улыбнувшись, сказал Эман. – Тогда тоже, возможно, побываем в театре и посмотрим спектакль… Эх, как давно я в театре не был! – мечтательно проговорил он, откинувшсь на спинку своего кресла и заложив руки за голову. – Да!.. С начала войны!..
– А у нас тут любителей театра, наверное, и нет? – усмехнулся Шрайбер и обвел глазами товарищей. – Я в театре ни разу не был, а ты, Кёст? – спросил он сидевшего на бывшем месте Зибаха секретаря Вальтера Кёста – молодого человека с худощавым лицом, узким подбородком и островатым носом, имеющего скрытно-злой взгляд голубых глаз с удлиненным разрезом.
– Был, конечно, – ответил Кёст. – но я предпочитаю радио, – он улыбнулся бледными тонкими губами.
– А вы, герр комиссар? – спросил Шрайбер Тима.
– Я когда-то смотрел оперетту, – ответил Тим. – «Княгиня чардаша». По правде признаться, она на меня большого впечатления не произвела, только пели там красиво. А так… всё про какую-то любовь… при этом военные сборы…
– Неплохое произведение! – заметил Эман.
– Ну, я не разбираюсь особенно в этом: меня туда повела моя тогдашняя подруга, – сказал Тим, махнув рукой.
– Эта оперетта была написана и впервые поставлена в Вене во время первой войны, – сказал Эман.
– Да, я помню, что там кто-то уезжал на фронт, – согласно кивнул Тим.
– Против русских или против французов? – спросил Шрайбер.
– Я не помню, – ответил Тим.
– Никто там на войну не уезжает, – сказал Эман, усмехнувшись. – просто офицер отправляется на службу, а его подруга-певица – на гастроли в Америку.
– Офицер дружит со скоморошкой… – произнес Шрайбер. – вот – нравственность монархизма!
– На слишком сложные темы ты рассуждаешь, товарищ соплеменник! – заметил Тим. – Не забывай, что и Фридрих Великий был монархом.
– Я говорю о монархизме последнего периода, – сказал Шрайбер.
– Героиня произведения, которое мы обсуждаем, товарищи, не «скоморошка», как ты говоришь, а артистка варьете, – сказал Эман. – Уличная певичка, наверное, не ездила бы с выступлениями в Америку.
– По-моему, разница между шансонетками и примами только в том, что одни поют в забегаловках, другие – в театрах, – ответил Шрайбер. – Куда я все равно не хожу! – он улыбнулся. – И вообще, как раз в Америке им всем и место – среди жидов и дикарей, а не в цивилизованной Европе! Вы поддерживаете, герр комиссар? Или нет?
– Тебе обязательно нужно спросить моего мнения? – усмехнувшись, проговорил Тим.
– Вы же наш руководитель, – ответил Шрайбер.
– Ну, так вот мое мнение, – сказал Тим. – вы, товарищи соплеменники, обсуждаете какой-то вздор. Я вас предупреждаю о том, что послезавтра крупная часть всего полицейского контингента в городе будет направлена на охранение инспекторов из высшего штаба, поэтому резко возрастет опасность диверсий: прикрытие объектов существенно уменьшится. А вы тут говорите о любви и певицах.
– Да мы так, к слову, герр комиссар, – произнес Эман, сложив руки домиком над столом. – Конечно, понятно, что придется быть настороже, и работы прибавится.
– Мы и так все время настороже, – мрачно сказал Кёст.
– А будем еще больше настороже! – категорично произнес Тим. – И так – пока не победим… сколько надо, столько и будем вставать по тревоге.
– Победе хайль! – воскликнул Шрайбер.
– Хайль! – произнес Тим.
– Хайль!
– Хайль! – сказали Эман и Кёст…
После обеда, который в этот раз прошел без музыки, потому что в столовой вышел из строя граммофон, Тим, вернувшись с командой в кабинет, извлек из шкафа выданную им с наступлением холодов новую штатскую одежду: коричневое пальто и теплую серую шляпу, добытые где-то на местном государственном складе, оставленном коммунистами при отступлении. Тим надел пальто поверх униформы, расправил и застегнул его перед зеркалом и убедился, что китель и галифе из-под него не видны: на встрече с агентом не следовало выглядеть как военный человек, чтобы кто-нибудь не стал догадываться, что агент беседует с Тимом не просто так.
– Вам очень идет этот костюм, герр комиссар! – заметил Шрайбер, частично присевший на крышку своего стола и наблюдавший за перевоплощением Тима в штатское лицо.
– Спасибо! – сказал Тим, улыбнувшись, и, надев шляпу, еще раз внимательно осмотрел себя в зеркале. – Кажется, теперь я похож на настоящего детектива!
– Детектив всегда похож на детектива, – проговорил от своего стола Эман.
– Правда? – произнес Тим. – Ладно, пора ехать! – он прошел к своему столу и взял портфель с документами. Портфель был трофейный, раздобытый на Украине в брошенном коммунистами здании заседаний их городского комитета, поэтому Тим не опасался, что по портфелю в нем узнают немецкого служащего.
Под пожелания удачи, звучавшие от товарищей, Тим в пальто и шляпе вышел из кабинета, спустился на задний двор управления, снова сел с Хеллером в «Фольксваген». Шофер завел двигатель, вывел автомобиль за открытые охранением ворота, и помчал «Фольксваген» в южную часть города по унылым позднеосенним улицам мимо руин зданий, мимо шедших по тротуарам по своим насущным делам прохожих, групп детей, с заплечными сумками возвращавшихся из нескольких школ, которые, несмотря на все трудности, с наступлением осени удалось открыть.
Проехав центр города, Хеллер и Тим миновали на «Фольксвагене» театр и парк при том – место, в окрестностях которого в августе проводилась операция по ликвидации опасного бандита Ваньки-Муромца, когда молодчина Зибах проявил достойную слуги Германии и члена СС отвагу. За театром еще немного проехали вдоль трамвайных путей, и Тим велел Хеллеру свернуть направо в короткий проезд. Шофер исполнил указание, и сразу за проездом Тим сказал повернуть налево. Хеллер вырулил налево, проведши автомобиль мимо посторонившейся старухи в телогрейке и серой шали, державшей в руках накрытую сверху белым полотном корзину. Когда справа открылся зазед на улицу Ломоносовскую, Тим приказал сворачивать туда, пересечь улицу и остановить автомобиль на краю ближайшего квартала слева. Хеллер выполнил указание, развернул автомобиль у южной стороны улицы и перед входом в ближний городской двор припарковал «Фольксваген» на обочине.
– Ну, дожидайся! – сказал Тим, открывая дверцу и выходя из автомобиля.
– Есть! – ответил Хеллер, откидываясь на спинку водительского сиденья.
Тим захлопнул за собой дверцу и зашагал во двор мимо крупной бомбовой воронки, в которой среди желтого грунта копошились мобилизованные работники, починяя поврежденную былой бомбардировкой водопроводную трубу. За воронкой, хотя обеденное время уже закончилось, стояла подвода с остывшей уже полевой кухней, в которую были впряжены две щипавшие жидкую городскую траву лошади. На краю повозки сидели, упершись во что-то ногами в грязных сапогах и спустив на землю прикладами свои винтовки, двое сонных хипо, а на передке будто тоже дремал, согнувшись в теплом сером полушубке и надвинув на глаза темную кепку, возница. Несколько оборванных изголодавшихся детей с бледными лицами, привлеченных, видимо, оставшимся от обеда работников запахом горячей пищи, подбирались к кухне, однако когда они подошли слишком близко, воспрянувший возница угрожающе щелкнул своим кнутом, и дети тут же поспешно отступили назад. Тим прошел во двор, ступая по рассыпанным кругом комьям вывороченной взрывом бомбы земли, по кирпичу от обвалившегося, обнажив интерьер расположенных внутри квартир, торца ближнего дома. Во дворе у того же дома, только дальше, стояла еще одна повозка, у которой толпились женщины разных возрастов, забиравшие из нее дровяные поленья по нескольку штук, сначала что-то отдав стоявшему тут же крепко сбитому мужичку-коротышке: может быть, деньги, может быть, продукты. Где-то звучала чья-то громкая, игривая песня. Тим прошел через двор мимо безлистных насаждений декоративных деревьев, мимо пустой деревянной детской горки и сваленного в кучу какого-то разносортного хлама. Там стало видно, кто же это здесь поет: поодаль вдоль стены дома, противоположного первому, прохаживалась молодая женщина в плаще и, будучи то ли не в своем уме, то ли просто в приподнятом настроении, заливалась какой-то веселой русской песней. Через узкий проезд Тим вышел со двора с противоположной стороны и оказался на тоже узкой в этом месте улице Очаковской, где по тротуарам шли по своим делам горожане. Перейдя улицу с трамвайными путями, Тим остановился под развесистым деревом и стал ждать.
Дожидаясь агента, одетый в штатские пальто и шляпу, Тим будто бы сейчас находился на привычной детективной службе в родном Вюртемберге и даже почувствовал прилив какой-то ностальгии. Мимо, стуча сапогами по тротуару, прошли два румынских солдата, о чем-то громко беседуя на своем языке. Шутливо Тим даже подумал, не захотят ли они проверить у него документы: все-таки человек в недешевом пальто, явно ждущий кого-то с портфелем в руках в оскудевшем военном городе вполне мог вызвать подозрения. Но солдаты, конечно, не были полицейскими, поэтому спокойно стали удаляться по улице. Застучали подковы по мостовой, и на проезжей части показалась уже немецкая подвода, которую тащили белогривые лошади. Подвода была пустой, правил ей возница в немецкой военной шинели, однако сам себе что-то говоривший по-русски: это был служащий-хиви. Скрипя колесами, эта повозка удалилась, и за ней следом прогрохотала двухколесная телега с дровами, которой правил пожилой мужчина в меховой казачьей шапке и фабричной куртке на вате. В стороне вдоль по улице громоздилась темная куча то ли земли, то ли строительного песка, по которой весело прыгали два маленьких мальчика в грязных пальтишках и шапках-ушанках, самозабвенно распевая: «Гнило-ой фашистской нечисти Заго-оним пулю в лоб! Отро-одью человечества Сколо-отим крепкий гроб…».
Сбоку послышались приближающиеся шаги. Тим посмотрел туда и увидел своего человека: одетого в ухоженную шинель лейтенанта Брехта, заместителя коменданта одного из шталагов в окрестностях Ростова, откуда на днях совершили побег аж тринадцать военнопленных, затем будто растворившиеся в степи, поскольку, несмотря на масштабные интенсивные розыски, даже следов их найти не удалось. Удалось только установить, что сбежали они через подкоп в ограждении лагеря, сделанный в плохо просматривавшемся изнутри месте, к которому, однако, пленных вообще не допускали. Было ясно, что побег являлся хорошо спланированным и организованным, и беглецам помогали как кто-то снаружи – предоставив им надежное убежище от розыска, так и изнутри – обеспечив им доступ к укрытому от глаз постоянной охраны участку ограждения. Подкоп, безусловно, готовился не одну ночь: слишком длинный он был, днем же копателей все равно могли в любой момент обнаружить. Кто-то всякий раз позволял беглецам пройти туда: либо сама охрана, либо тот, кто мог незаметно провести их мимо постов. Внутреннюю охрану шталага, как оказалось, осуществляли местные казаки-хиви, которые, конечно, при желании легко могли вступать в контакт с коммунистическим подпольем и договориться с подпольщиками о совместных действиях. Комендант шталага, испугавшись ответственности за халатность, клялся, что охрана лагеря организована первоклассно, и что здесь не обошлось без чьего-то предательства. Все охранявшие тот злополучный участок лагеря казаки из разных смен, в том числе из той, во время дежурства которой произошел побег, понятное дело, тоже заверяли высшее командование и полицию в своих ненависти к большевикам и служебной добросовестности. Поэтому расследование побега по горячим следам, в сущности, ничего не дало. Теперь Тим собирался поговорить с заместителем коменданта шталага, которого завербовал когда-то заместитель директора ГФП штурмбаннфюрер Мюллер и назначил агентом к Тиму. Надо было выяснить, что же реально происходит в этом лагере, а конкретнее – кто именно из сотрудников мог помочь военнопленным осуществить побег.
– Хайль Гитлер! – произнес лейтенант Брехт, протягивая руку Тиму.
– Хайль Гитлер! – сказал Тим, кивнув, и пожал ему руку. – У вас холодная рука! – заметил он, улыбнувшись. – Неужели в пивной так холодно?
Брехт, как было условлено, пришел навстречу из расположенной недалеко пивной, которую регулярно посещал в свободные от службы часы. Эта была та самая пивная на краю площади, возле которой оборвалась никчемная жизнь бандита Ваньки-Муромца.
– Я еще постоял у выхода, покурил, – ответил лейтенант, улыбнувшись. – поэтому руки немного замерзли.
– Курить очень вредно для здоровья, товарищ соплеменник! – сказал Тим.
– Пить тоже, – ответил Брехт.
– А у хозяина пивной как дела? – спросил Тим. – Предприятие процветает?
– Я давно с ним не разговаривал, – ответил лейтенант, пожав плечами в блестящих погонах на шинели. – Вряд ли у него есть причины жаловаться: все солдаты любят пиво, – он засмеялся. – и отдохнуть тоже любят.
– А местных гражданских много заходит? – поинтересовался Тим.
– Заходят, конечно, но они не так много выпивают: для них дорого много пить.
– Ну, будут здоровее! – проговорил Тим. – Ладно, а что по нашему делу?
– Да в общем ничего такого подозрительного не заметно, – сказал Брехт. – Шеф рвет на себе волосы, орет на хиви: из-за вас, значит, я под трибунал пойду. Говорит им: лучше молчите, если узнаю, кто помог тем тринадцати сбежать, дам остальным пленным лопаты и прикажу им вас закопать живыми. Хиви ходят перепуганные, злые, шепчутся…
– О чем шепчутся? – спросил Тим.
– Винят во всем один свой взвод, – ответил Брехт. – Есть у нас один взвод казаков, без конца его люди получают взыскания: то на посту спят или в карты играют, то заступают на дежурство подвыпившими, то слоняются без дела по лагерю – там, куда доступ и охране в том числе ограничен. Вот, остальные казаки ворчат, что это только в их дежурство пленные могли сделать подкоп, а за их разгильдяйство теперь все страдают.
– Интересно! – произнес Тим. – Это не те охранники, которые дежурили в ночь побега?
– Нет, – покачал головой Брехт. – Как раз те, кто тогда дежурил, больше других злы: им же теперь проблемы грозят, наверху поговаривают, чтобы их отправить в действующие казачьи подразделения. Я видел, их командир ругался с командиром того разгильдяйского взвода и обвинял… в этих проблемах.
– Какой это взвод? – спросил Тим. – Тот, который все время нарушает…
– Второй, – ответил лейтенант. – Раньше не было к ним особых претензий, а когда назначили им нового командира – начала разлагаться у них дисциплина ужасно. Шеф уже решил, что отстранит его от командования.
– А кто командир? – спросил Тим.
– Аксенов, урядник. Нет, он сам никогда никаких нареканий не имел. Поэтому его и назначили командиром взвода: порядочный, исполнительный, непьющий. Но, похоже, как руководитель он мало способный… не справился с этими разгульными людьми. При нем дисциплина во взводе стала падать.
Тим сразу почувствовал, что эта деталь стоит более пристального разбора: дисциплина в подразделении падает именно тогда, когда в него назначается дисциплинированный командир. Но он по профессиональной привычке не подал виду, что всерьез этим заинтересовался, и спокойно спросил Брехта:
– А как с дисциплиной на самом деле во взводе, в дежурство которого сбежали пленные?
– Обыкновенно, – лейтенант махнул рукой. – Бывают и нарушения, бывает и пьянство, но не больше и не меньше, чем в большинстве казачьих подразделений. Видимых нарушений с их стороны в тот день не было зарегистрировано. Хотя… они же сами за своим порядком следят… вы понимаете, это же казаки, они не любят, когда кто-то чужой над ними стоит…
– Да, – кивнув, сказал Тим. – есть у них такое.
– Конечно, они систематически закрывают глаза на грехи своих.
– А ничего не обсуждают, кто мог бы быть прямо причастен к побегу пленных?
– Может быть, и обсуждают, – сказал Брехт, пожав плечами. – Но мне лично никто из них своих соображений не высказывал, а их языком я не владею в такой степени, чтобы с точностью понять, о чем они болтают между собой…
Тим еще немного поговорил с агентом и, убедившись, что больше ничего не выяснить, спросил в свою очередь, нет ли у лейтенанта каких-либо пожеланий. В основе агентурной работы всегда лежит принцип: услуга за услугу. Брехт поблагодарил Тима и ответил, что в данный момент ему не о чем просить. Попрощавшись и пожелав друг другу удачи, офицеры разошлись: Брехт направился обратно в сторону площади при театре, Тим – снова через Очаковскую и городской двор к ожидавшему его на соседней улице в автомобиле Хеллеру. Он уже выстроил в голове примерный план дальнейших действий: узнать биографию командира взвода шталага, доведшего свое подразделение до глубокого дисциплинарного упадка, и вплотную допросить командира взвода, в дежурство которого сбежали военнопленные. И дальше действовать по обстоятельствам.
Стоило Тиму, возвратившись в полицейское управление и поднявшись на этаж ГФП, войти в свой с командой кабинет, как он увидел, что Эман и Шрайбер, оживленно разговаривая, надевают шинели и поправляют их на себе перед зеркалом. Кёст сидел на своем месте, откинувшись в кресле, и поигрывал в руках карандашом.
– Что за сборы? – удивившись, спросил Тим.
– О, герр комиссар, как хорошо, что вы вернулись! – воскликнул Эман. – Нам позвонил помощник директора: тревога, нападение на патруль вспомогательной полиции. Надо ехать к селекционной станции, а я даже не знаю, где это.
– А Шрайбер что, тоже не знает? – проговорил Тим, снимая шляпу и пальто.
– Примерно знаю, – ответил Шрайбер. – По карте.
– В общих чертах, что там произошло?
– Обстрелян конный патруль хипо, – ответил Эман. – на дороге возле полей, есть погибшие. Туда уже выслали жандармов.
– Так… – произнес Тим, задумавшись и поставив портфель на стол возле шкафа, чтобы проще было открыть шкафную дверцу. – Данные по Болкунову не приходили?
– Пока нет, – ответил Эман.
– Эман, – сказал Тим. – останься здесь и жди, когда доставят информацию по этим газетчикам: мы со Шрайбером сами управимся там в полях.
– Есть, герр комиссар! – ответил Эман и тут же стал снимать уже надетую шинель. Тим же убрал в шкаф штатские пальто и шляпу, закрыл шкаф, подошел к вешалке, взял с нее, надел и тщательно выправил перед зеркалом свою шинель. Теперь он снова был во всех отношениях военный полицейский. Надев фуражку и взяв со стола у шкафа свой портфель с документами, он вновь направился к выходу из кабинета, сказав Шрайберу:
– Поехали, товарищ соплеменник!
Когда Тим, Шрайбер и переводчик Шмидт прибыли с шофером Хеллером к полям бывшей селекционной станции между северной окраиной города и поселком Северный, на сырой и грязной грунтовой дороге, справа от которой тянулись до отдаленных плоских холмов давно убранные поля в желтых остатках стерни, слева – обширный травянистый пустырь до далеких деревенских домов и деревьев, перед ними предстала типичная, много раз виданая Тимом картина тревожных будней прифронтового тыла. Дорога впереди была перегорожена собравшимися фельджандармами в шинелях, касках и с тускло блестящими при пасмурном дне шевронами, а также несколькими вспомогательными полицейскими в штатских куртках и полушубках, с уставными повязками на рукавах. Тут же на обочине у поля стояло две машины: жандармский грузовик-молния с открытым кузовом и русский трофейный легковой автомобиль вспомогательной полиции. В самом поле перед автомобилями громоздилась на боку разбитая и опаленная подвода без колес на торчавшем вверх борте, вероятно, во время боев за город попавшая под авиабомбу или снаряд. По пустырю с другой стороны дороги две оседланных, но без седоков, лошади щипали невысокую, но сочную от пропитавшей осеннюю землю дождевой влаги, траву. Хеллер припарковал «Фольксваген» на обчине сзади автомобиля хипо, Тим, Шрайбер и Шмидт вышли и, ступая сапогами по сырому грязному грунту дороги, невольно чуть поджимая плечи от особенно вольно гулявшего здесь – среди открытых просторов, холодного и влажного ветра, направились к собравшимся товарищам по оружию и службе.
– Внимание! – послышался голос. Фельджандармы, прервав свои разговоры, развернулись лицом к сотрудникам ГФП, одновременно расступаясь и давая им проход, вскинули в приветствии руки, бряцая винтовками, и воскликнули: «Хайль Гитлер!».
– Хайль Гитлер! – поприветствовал их Тим, тоже вскинув правую руку, для чего ему пришлось переложить портфель с документами в левую, а затем он, опустив правую, снова взял ею под мышку портфель. Он прошел к неподвижно лежавшим на дорожной грязи на некотором расстоянии одно от другого телам, издали напоминавшим какие-то безжизненные тряпичные кули неопределенной формы. Но близко стало видно, что это – казаки-хипо в теплых оливково-зеленых бушлатах и меховых шапках цилиндрической формы с кокардами, оба при саблях, вложенных в ножны.
Тим бегло оглядел сначала один труп – у правого края дороги: это был молодой мужчина, с уже смазанными смертной маской чертами лица, подернутого безжизненной бледностью; вытекшая изо рта и обагрившая подбородок, щеку, сырой дорожный грунт рядом кровь указывала на то, что у казака было пробито легкое. Однако между кровавым пятном на грунте и окровавленной нижней частью лица трупа виднелась полоска незапятнанной кровью земли. По опыту Тим догадался, что после того как убитый хипо-казак упал, кто-то еще осуществлял манипуляции с его телом: приподнял и снова положил или бросил, поэтому голова его несколько сместилась относительного первоначального положения при падении. Правая рука убитого, одетая в пухловатый оливково-зеленый рукав бушлата и полусогнутая в локте, была будто оттопырена вбок. Тиму стало ясно: с казака снимали его винтовку. Не было при нем и разгрузочного пояса с патронами. Тим перешел к другому трупу, лежавшему несколько дальше первого и у другого края дороги. Это был уже седоволосый казак, с усами, тоже седыми; лежал он с закрытыми глазами и еле заметно приоткрытым ртом, и если бы не смертная бледность, сошел бы за спящего или пьяного. Тиму стало ясно, что смерть застигла этого хипо, который, судя по более украшенным погонам на бушлате, и был командиром подвергшегося нападению патруля, внезапно. Об этом говорил и след прошедшей пули на груди бушлата: возможно, та угодила казаку прямо в сердце. Правая рука старшего казака была так же будто оттопырена вбок, как и у другого: с него тоже сняли винтовку и пояс с патронами. Другая рука и ноги лежали более-менее ровно: значит, командир хипо не пытался уклониться от нападения или занять удобную для обороны позиции, следовательно, его атаковали внезапно, а соответственно, первым из группы. Именно же: сразили внезапным выстрелом. Но откуда? Тим поднял голову и посмотрел в ту сторону, откуда должна была прилететь сразившая казака пуля. Там несколько впереди между дорогой и пустырем стоял маленький домик, точнее даже будка, с облезшей побелкой на мазаных стенах, крышей с полуоблетевшей соломой. Ограды у домика не было; рядом громоздилась куча какого-то непонятного хлама, чернели узкий проем открытой деревянной двери и небольшое окошко в деревянной раме, но без стекол. Несомненно, в этом построенном по местной крестьянской технологии домике-будке и находился стрелок, и именно из этого окошка он уложил несчастного хипо. Других построек поблизости не было.
Тим вернулся к Шрайберу, Шмидту и фельджандармам с русскими хипо. Кто-то смотрел на него, ожидая, что он скажет, кто-то из полицейских, уже привычных к этим чуть ли не ежедневным происшествиям, продолжал свою беседу, не обращая внимания на ход следственных действий.
– Шрайбер, вот тебе объекты, – Тим показал подчиненному коллеге на трупы убитых казаков. – начинай делать протокол…
– Есть! – ответил Шрайбер, кивнув.
– А я поболтаю тут, – сказал Тим.
Шрайбер, шагнув к трупу молодого казака, стал доставать бумагу из своего портфеля. Тим же подошел к жандармскому фельдфебелю – рослому и крепкому детине с квадратным лицом.
– Ну, что здесь произошло, товарищ соплеменник? – спросил он.
– Вот, сейчас расскажут! – ответил фельдфебель и махнул кому-то рукой. Подошли хипо в штатском с нарукавной повязкой и молодой казак с черными усами, одетый в такую же униформу, как два лежавших на дороге трупа, возле одного из которых Шрайбер сейчас писал начальные строки протокола. Тим понял, что это – уцелевший участник того же патруля. Ошеломленный вид казака, его карие глаза, со страхом метавшиеся то в одну, то в другую сторону, это подтверждали.
– Sprechen Sie Deutsch?* – спросил Тим. Казак молча и безучастно уставился на него.
– Командир спрашивает, говоришь ли ты по-немецки, – сказал по-русски хипо в штатском, зябко приподнимая на себе серую утепленную куртку.
– Н-не… – пробормотал казак, качнув головой в цилиндрической меховой шапке с кокардой.
– Шмидт! – позвал Тим. Подошел переводчик, держа руки в карманах своего серого плаща.
– Спросите имя, фамилию, звание, должность и подразделение у этого человека, – Тим кивком указал на казака и полез в портфель за бумагой и химическим карандашом.
Шмидт перевел, и казак, будто опомнившись, представился.
___________________
*Вы говорите по-немецки? (нем.)
Не будучи уверенным, что пишет без ошибок сложные славянские имя и фамилию, Тим занес его данные на бумагу. Это был рядовой конный полицейский из союзного казачьего корпуса.
– Скажите теперь, чтобы он рассказал, как было дело, – сказал Тим.
Шмидт перевел. Казак принялся говорить – сбивчиво и невнятно, все время запинаясь и повторяя слова. Шмидт переводил Тиму. Жандармский фельдфебель и хипо в штатском стояли рядом и равнодушно глядели то в сырой дорожный грунт, то куда-то в пустырь, иногда притоптывая ногами, чтобы согреться, и поправляя перекинутые через плечо ремни своего оружия: пистолет-пулемета у фельдфебеля и винтовки за спиной вспомогательного полицейского.
По словам уцелевшего конного полицейского, их группа из четырех всадников совершала обычный объезд вокруг полей. Он сам и их командир следовали впереди, сзади рядом друг с другом – еще двое казаков. На этом участке дороги командир чуть выехал вперед, и тут же началась стрельба: сначала два выстрела из винтовок с разных сторон, затем – автоматическая очередь. Командир упал сразу же после первого выстрела. Уцелевший казак сделал бросок на лошади в сторону, чтобы не попасть под следующую пулю, и увидел рядом с собой одного из своих товарищей, следовавших сзади: тяжелораненого, но державшегося в седле. Он смог ухватить лошадь товарища под уздцы, и так они вместе ускакали из-под обстрела в поле. Сделав по полю крюк, они выехали к окраине города, добрались до фельджандармского поста, и уцелевший казак поднял тревогу. Постовые жандармы вызвали подкрепление и санитарный автомобиль, чтобы доставить раненого конного полицейского в госпиталь. Самих нападавших уцелевший хипо не заметил.
Тим понимал, что степные партизаны едва ли осмелились бы напасть в этом месте на патруль днем: вокруг города было много постов фельджандармерии и вспомогательной полиции. К тому же, не столь важным для них объектом атаки был обычный конный патруль из четырех казаков, чтобы они стали долго и кропотливо разведывать график и маршрут его движения. Несомненно, нападение совершили городские партизаны, которые либо сами регулярно наблюдали, как казаки патрулируют этот район, либо это делали связанные с ними местные жители. И которые могли, совершив нападение и забрав у убитых полицейских оружие и боеприпасы, быстро скрыться в ближайшем жилом массиве. Отпустив все еще ошеломленного внезапной партизанской атакой уцелевшего казака-полицейского, Тим сначала оглядел отдаленную линию деревьев и строений поселка Северный на западе, затем – протянувшуюся на юге через весь горизонт серую полоску города. Городские партизаны могли отходить после нападения либо в поселок, либо в город, потому что в открытой степи их, скорее всего, увидели бы постовые. Вдоль городской окраины тоже постоянно курсировали патрули, которые могли легко заметить приближающихся к городу через открытые поле или пустырь партизан, соответственно, те наверняка отступили по пустырю в поселок, где патрулей было меньше. Однако едва ли они отходили пешком, так как поселок находился достаточно далеко, и они могли не успеть уйти с открытого места до прибытия по тревоге сильных полицейских подразделений. Значит, они уходили на лошадях, и скорее всего, к месту своей засады тоже прибыли на лошадях. Возможно, они все еще в поселке: затаились или просто не успели уйти. Тогда надо тщательно прочесать поселок, особенное внимание обращая на людей с лошадьми, если таковые там встретятся.
– Шрайбер! – подозвал Тим младшего коллегу, убирая бумагу с протоколом допроса уцелевшего участника атакованного патруля в портфель.
– Я здесь! – ответил Шрайбер, подойдя. Ветер трепал в его руке шуршащий лист с текстом общего протокола.
– Опросишь жандармов… ну, вот, их командира, – Тим кивнул в сторону зябко кутавшегося рядом в шинель здоровяка-фельдфебеля. – Я сейчас с Хеллером сгоняю на ближний пост, позвоню шефу. Перешерстим эту деревню… вон, вдали которая. Думаю, что бандиты ушли туда.
– Есть! – ответил Шрайбер, кивнув.
– Всё, не скучай! Время дорого! – Тим мимо расступившихся перед ним фельджандармов и вспомогательных полицейских зашагал к стоявшему на обочине дороги за грузовиком-молнией и русским автомобилем «Фольксвагену», возле которого прогуливался, сунув руки в карманы и от холодного ветра поджав плечи, Хеллер.
– Хеллер! – подходя, окликнул Тим шофера. Тот остановился и обернулся. – Садись, быстро едем к городу – и налево: там жандармский пост. Надо немедленно звонить директору.
Они сели в «Фольксваген», Хеллер завел двигатель, резко вырулил назад и помчал автомобиль по сырой дорожной грязи к серевшим на юге деревьям и постройкам города. Уже скоро они припарковались на защищенном валами из мешков с песком и оснащенном пулеметом посту фельджандармерии. Собравшиеся жандармы приветствовали вышедшего из автомобиля Тима вскидыванием рук и возгласом «Хайль Гитлер!». Ответив на приветствие, Тим подошел к здешнему фельдфебелю и, представившись, попросил отвести его к телефону. Начальник поста пригласил зайти в дощатую караульную будку, просто, но уютно убранную внутри. Там на столике стоял телефонный аппарат. Присев рядом на стул, Тим снял трубку и набрал номер директора ГФП. Когда в трубке послышался голос того, Тим сказал:
– Хайль Гитлер! Герр директор, это Шёнфельд!
– Хайль Гитлер! – ответил директор на том конце провода. – Что у вас, Шёнфельд?
– Я у места нападения партизан на конную вспомогательную полицию. В стороне селекционной станции…
– Да, понял, – ответил директор. – Какая обстановка?
– Убиты двое полицейских, один тяжело ранен, один остался цел, но сильно напуган. Герр директор, по моим соображения, партизаны напали на этих хипо из засады, а затем отступили в поселок Северный верхом на лошадях. Возможно, что они там, в Северном, и осели, чтобы переждать тревогу. А может быть, не успели оттуда уйти. Я думаю, надо провести в Северном полные розыскные мероприятия, прочесать все дома и закутки. В том числе искать людей с верховыми лошадьми… или хотя бы самих лошадей…
– Я понял вас, Шёнфельд! – сказал директор. – Так… кто у нас свободен… Как не хватает кадров!.. У нас Майлингер сейчас не сильно занят, кажется. Я подниму тревогу, оторву ребят Майлингера пока от дел наших… пораженцев и предателей, пусть они займутся Северным. Вы же продолжайте основное следствие.
– Вас понял! – сказал Тим.
– Приступайте к вашему делу!
– Есть! – Тим повесил телефонную трубку.
Вернувшись с Хеллером обратно к месту нападения на конных казаков-хипо, он со Шрайбером, уже закончившим опрос жандармского командира, принялся дальше обследовать место, чтобы с точностью реконструировать в протоколе ход партизанской атаки. Зашли они со Шрайбером и в мазаную постройку между дорогой и пустырем, и там на земляном полу, усеянном старыми окурками и прочим сором, сразу нашли свежестреляную гильзу от русской винтовки Мосина. Еще гильзу – уже от немецкого Маузера, внимательный Шрайбер нашел на тягучей черной и сырой земле поля – за лежавшей у дороги разбитой подводой, и там же в рыхлой почве отчетливо отпечатались следы обуви одного человека. А фельджандармы, обследуя росшие почти на одном уровне с подводой кусты по другую сторону дороги – у начала пустыря, среди травы и желтых опавших листьев вокруг нашли несколько гильз от патронов для русского пистолет-пулемета Шпагина. Картина окончательно сложилась: партизаны, зная, в какое время по дороге проезжает конный патруль, заняли позиции в мазаном домике и за кустами слева от дороги и за опрокинутой подводой справа. В домике и за подводой засело, вероятно, по одному стрелку с винтовкой, а в кустах – стрелок с пистолет-пулеметом. Стрелки за подводой и кустами дали патрулю проехать вперед, после чего стрелок, укрывшийся в мазанке, пустил пулю в грудь казачьему командиру, и тут же партизан, укрывшийся за подводой, уложил другого полицейского казака выстрелом в спину, а по оставшимся двум открыл стрельбу автоматчик, ранив третьего. После того как уцелевший казак ускакал в поле и утянул за собой лошадь с раненым, партизаны вышли из своих укрытий, забрали у убитых казаков оружие и патроны, сели на своих лошадей и ускакали в поселок.
Как раз пока Тим, Шрайбер и фельджандармы занимались поиском улик, вдалеке послышался шум многих моторов, а затем стало видно, как вдоль кромки поселка за пустырем растягиваются цепи солдат. Значит, Майлингер по указанию директора начал в поселке розыскные мероприятия. Затем шум автомобильных моторов возле поселка был на минуту перекрыт раздавшимся с пасмурного неба разливистым гулом пролетавших на восток – к фронту, нескольких транспортных самолетов. К месту нападения на патруль же подкатила небольшая расхлябанная подвода, которую тащила бурая лошадь, управляемая вспомогательным полицейским, вооруженным только Люгером. Возница и еще один хипо – в штатском, спрыгнули с повозки и по указанию Тима пошли забирать тела погибших казаков. Фельджандармы, которым тоже больше нечего было здесь делать, стали погружаться в кузов своего автомобиля. Тим и Шрайбер же, закончив писать протоколы, сели вместе с Хеллером и Шмидтом в свой «Фольксваген».
– Поехали в тот поселок! – Тим движением ладони показал в сторону оцепленного солдатами поселка Северный. – Поможем товарищу Майлингеру.
– Есть! – сказал Хеллер и повернул ключ зажигания…
В поселке шла суета. Улицы были повсюду перекрыты группами фельджандармов, по дворам ходили вспомогательные полицейские в казачьей и штатской форме. Остервенело гавкали собаки из-за деревянных заборов и плетеных оград, тут и там слышались рассерженные крики и причитания местных женщин, недовольных тем, что полицейские врывались в их подворья. Хипо кто-то пытался что-то объяснить возмущавшимся хозяйкам, кто-то просто грубо рявкал на русском языке. Автомобиль Майлингера Тим, Хеллер, Шрайбер и Шмидт заметили на улице недалеко от въезда в поселок. Хеллер припарковался рядом. Вышедших Тима и Шрайбера встретил сам Майлингер.
– Хайль Гитлер! – поздоровался он.
– Хайль Гитлер!
– Хайль Гитлер! – поздоровались Тим и Шрайбер.
– Уже виделись сегодня утром на совещании, – заметил Тим.
– Лишний раз прославить Фюрера не помешает! – сказал Майлингер, улыбаясь. Он стоял с портфелем под мышкой, сунув руки в карманы шинели. На голове его вместо фуражки была натянутая от холодного ветра на уши пилотка.
– Ну, есть ли результаты? – спросил Тим.
– Какие результаты! – ответил Майлингер, пожав плечами. Блеснули его гауптштурмфюрерские, как и у Тима, погоны. – Пока только успели оцепить эту деревню и немного пройти… Ну вот, те дома, – он кивком указал в сторону. – хипо проверили. Никого подозрительных там нет: бабы, дети да два седых старика, которые еле передвигаются. Никто никого как бы не видел, – он усмехнулся. Да, большинство местных жителей даже если бы видели партизан – говорить об этом полиции не стали бы, а инициативные, рвущиеся помогать из-за своей собачьей пресмыкательской натуры, больше обращали внимание на всякую ерунду, а действительно серьезных деталей и фактов не замечали. Впрочем, большинство людей вообще не слишком наблюдательно: это было хорошо известно Тиму по опыту службы еще начиная от родного Вюртемберга. Бывает, что только после изобличения и ареста преступника неожиданно находится много свидетелей, на начальном этапе расследования пожимавших плечами и уверявших, что ничего не видели, не слышали и не знают, а теперь вдруг вспоминающих, что преступник, оказывается, сам чуть ли не прямо признавался им в своем злодеянии, да они не придали значения его словам и благополучно о тех забыли…
Розыск в поселке Северном продолжался несколько часов, и чтобы совсем не закостенеть на сыром холодном ветру, офицерам пришлось перебраться в маленькое здание поселковой лавки, которая не работала, наверное, с начала войны. Время от времени приходили хипо, жандармские командиры, коллеги – подчиненные Майлингера, и докладывали обстановку. За все время операции так и не удалось нигде найти ни партизан, ни их оружия, ни кого-нибудь, кто хотя бы их видел. Только на окраине поселка фельджандармы выловили четырех бесхозных лошадей, укрывавшихся от ветра за деревьями небольшого садика и щипавших траву. Тим распорядился перегнать лошадей в конюшню полицейского управления, чтобы позже выяснить, не были ли они украдены откуда-нибудь: ведь партизаны могли где-то выкрасть лошадей перед проведением своей атаки. Местные жители, которых опрашивали хипо и ребята Майлингера, как один утверждали, что ничего не видели и не слышали. И на вопросы о стрельбе со стороны дороги на селекционную станцию отвечали, что кругом часто слышится стрельба, поэтому даже если и было что-то – они бы не обратили внимания. Да, здесь придраться было не к чему: в окрестностях города регулярно проводились учебные стрельбы, часто случались партизанские нападения, а бывало, что недобросовестные солдаты развлекались стрельбой из личного оружия, не заботясь о сохранности боевого запаса. Все же Тим чувствовал, что партизаны были в поселке, и именно они бросили здесь четырех лошадей. Либо они очень хорошо спрятались, что полиция сейчас ходит практически по их головам и не замечает, либо вспомогательные полицейские делают вид, что не замечают их укрытия, и нарочно уводят от них немецких сотрудников, либо они уже ушли в город. Но где-то же они оставили свое оружие? А затем Тим вдруг подумал: ну, даже если они пошли в город прямо с оружием, им достаточно будет лишь обойти военные и полицейские посты и патрули, если же они попадутся на глаза местным жителям, те, скорее всего, просто примут их за вспомогательных полицейских. Ведь хипо тоже ходят преимущественно в штатском, а нарукавные повязки могут не надеть по небрежности. Тим припоминал, что в бытность его службы на Украине уже бывали такие случаи: партизаны появлялись среди местных с оружием, а те думали, что это полиция.
К вечеру, ничего не добившись, кроме обнаружения четырех подозрительных лошадей, офицеры, усталые и продрогшие, возвратились в полицейское управление. Там Тима ждал отчет Эмана, который сообщил, что наблюдение за квартирой, в которой, согласно регистрационным данным, проживает Андрей Болкунов с семьей, установлено, и что агенту политического отдела вспомогательной полиции удалось пообщаться с соседями руководителя «газетчиков», которые показали, что ни его самого, ни его жены и ребенка давно там не видно, куда они пропали и могут ли когда-нибудь вернуться – неизвестно. Также Эман доложил, что был звонок из регистрационного отдела комендатуры: секретарь того сообщил, что ни о каких родных и близких Болкунова, кроме жены, ребенка и умершей год назад матери, в комендатуре никаких сведений не содержится.
– Ладно, будем искать дальше! – тяжело вздохнул Тим, вешая шинель на крючок.
Вскоре настало время ужина. Спустившись в столовую, освещенную электрическими лампами, так как сейчас темнело рано, Тим, Эман, Шрайбер и Кёст ели за своим столом салат из колбасы, зеленого горошка и шпината с сырными бутербродами – под гомон других ужинавших сотрудников, звон посуды и смех рассказывавших веселые истории. Граммофон до сих пор не работал. В разгар ужина откуда-то снаружи помещения разнесся отдаленный, но отчетливо слышный грохот взрыва. Принимавшие за своими столиками пищу полицейские еще оживленнее загомонили, взялись за обсуждение и предположения о происхождении этого обычного вблизи фронта звука.
– Опять нас выдернут сейчас на диверсию! – произнес Шрайбер.
– Ну, и что, – сказал Тим. – это твоя служба, – и запил проглоченный кусок бутерброда с сыром глотком светлого пива.
– Вся эта страна – сплошной коммунистический рассадник! – произнес Эман, отправляя в рот очередную вилку с салатом.
– Ну, понадеемся, что зимой русские, наконец, вымерзнут, – сказал Тим. – И на Кавказе, и на Волге. И большевизма больше не будет.
– Будут честно на нас работать, – сказал Кёст.
– Хм… – произнес Тим. – Я, конечно, не занимаюсь этими вопросами, но за все время своей службы на русском направлении убедился, что вреда от них будет больше, чем пользы. Это сейчас, пока немцы заняты на фронте, нам нужны помощники. А дальше, когда мы покончим, наконец, с проклятыми большевиками, арийцы должны сами работать. Нам не нужны слуги. Есть закон природы: когда организм получает все, что ему нужно, готовым, он деградирует. Сравни домашних и диких животных. Если арийцы сами не будут добывать свой хлеб, своим трудом, они деградируют и из передовой превратятся в отсталую расу, которую поглотят другие. Поэтому мы сами должны здесь трудиться, а русских… и прочих славян, я бы отсюда сгреб на хрен.
– Куда же их сгрести? – проговорил Эман. – Как жидов – в ров?
– Ну, зачем в ров, – сказал Тим. – Я не кровожаден. Вон, в Сибирь, где у них не будет ресурсов для бурного размножения, чтобы они не могли уже своей массой вытеснить арийцев с плодородных земель. Станут кем-нибудь вроде папуасов…
Товарищи засмеялись.
– Будут в подобающем для них состоянии, – сказал Тим. – А мы будем привозить туда внуков на экскурсию, – он улыбнулся. – показывать, как выглядят низшие люди.
– Папуасам там будет холодно, – заметил Кёст.
– Ну, я же не говорю, что они в прямом смысле станут папуасами, – сказал Тим. – Просто вернутся в соответствующий своему биологическому развитию культурный уровень. Ну, если тебе не нравятся папуасы, тогда как эскимосы…
Когда после ужина команда поднялась на свой этаж, навстречу по коридору вышли коллеги из параллельной команды: недавно прибывший в Ростов из Украины комиссар Май и секретарь полиции Науман, одетые в шинели и державшие под мышкой портфели.
– На взрыв? – поинтересовался Тим.
– Так точно! – ответил Май, кивнув.
– А что взорвалось-то? Удовлетворите наше любопытство.
– Бензовоз сгорел, – сказал Май. – Какой-то ублюдок бросил в автоцистерну бутылку с коктейлем и скрылся. Цистерна была полна – она и рванула так громко.
– Где это? – спросил Тим.
– Между дачами и железной дорогой, – сказал Май. – Вроде бы никто не погиб, к счастью. Больше ничего не знаем, вот: едем разбираться.
– Ну, удачи, товарищи соплеменники!
– Благодарим! – ответил Май, и офицеры параллельных команд разошлись по своим направлениям.
В кабинете Тим сел за стол систематизировать и собирать воедино составленные сегодня протоколы относительно нападения партизан на конный полицейский патруль по дороге на селекционную станцию и розыскных мероприятий в поселке Северном. Едва он успел закончить, как позвонил дежурный и сообщил, что прибыл сотрудник хозяйственного отдела комендатуры города. Тим попросил, чтобы тот поднялся в его с командой кабинет. Вскоре явился бравого вида лейтенант интендантской службы, бодро поприветствовавший полицейских офицеров. Тим спустился с ним в пахнувшую навозом и сыромятью конюшню полицейского управления, где предъявил для опознания четырех найденных на окраине поселка Северный лошадей, теснившихся в стойле и сонно жевавших сено.
– Да, это наши лошади! – воскликнул лейтенант. – Эти олухи хипо и табунщики перепились, а когда протрезвели, лошадей уже не было! Объясняли, что сами ушли.
– Ушли бы сами – записку бы оставили! – с досадной злостью проговорил Тим. – Расстрелять ваших хипо и табунщиков надо за это разгильдяйство! Из-за них теперь двое полицейских погибли, один тяжело ранен. Казаки, не немцы!..
По окончании служебного дня Хеллер через город, погрузившийся в почти глухую мглу, так как фонари до сих пор не работали, развез офицеров по квартирам в немецком квартале. Тим, попрощавшись с шофером, привычно прошел в дверь своей секции и поднялся на второй этаж. Когда он вернулся из Майкопа, ему отвели ту же квартиру, в которой он жил до командировки, с той же учтивой и усердной домработницей Анфисой – бывшей хозяйкой жилища, занимавшей теперь со своими двумя детьми дальнюю комнату. Пока Тим был в зондеркоманде, квартиру с Анфисой и мальчиками занимал жандармский внутренний инспектор, который к возвращению Тима отбыл по служебным делам, наоборот, на юг. Анфиса приветливо встретила вернувшегося Тима и сказала, что от другого квартиранта никаких притеснений не испытывала: тот почти не обращал на нее и детей внимания, с раннего утра до позднего вечера, как, впрочем, и Тим, проводил на службе, тоже делился с ней своим пайком, только делал это почти молча, просто оставляя пакет на кухне и указывая на тот Анфисе. Маленькие сыновья Анфисы на приехавшего вновь после командировки Тима смотрели с любопытством, но в разговор с ним вступать не решались, только поздоровались. Тим, однако, и сам не был охоч до пустых разговоров с детьми.
Теперь Тим в очередной раз вернулся со службы, отпер своим ключом дверь и прошел в теплую, пахнувшую домашним уютом квартиру. Печь была хорошо растоплена, и едва закрыв и заперев за собой дверь, Тим поспешил снять шинель, чтобы под той не зажариться. А ведь абсолютное большинство жителей города очень мало топило свои печи, поскольку дров здесь, в степных краях, не хватало, ввозить их в большом количестве в военное время, когда все дороги: и автомобильно-гужевые, и железные, были перегружены армейскими обозами и эшелонами, не получалось. Поэтому Анфисе с детьми повезло, что Тим, когда вселился в эту квартиру в первый раз, не пожелал их выселения: военных топливом снабжали в должном количестве.
Войдя в квартиру, Тим с удивлением заметил, что Анфиса не спит: в кухне горел свет, и оттуда раздавалось ее пение. «Что у нее за праздник сегодня?» – подумал Тим. Дверь в ее с детьми комнату была закрыта: мальчики спали, только иногда слышался болезненный кашель младшего, который несколько дней уже лежал с воспаленным горлом и температурой. Тим приглашал к нему добросовестного врача-немца из полицейского лазарета. Доктор осмотрел ребенка и успокоил, сказав, что это – обычная осенняя ангина, оставил лекарственный порошок и мазь для горла. Анфиса бурно благодарила и врача, и Тима, будто они совершили подвиг, однако Тим, хотя и прибыл сюда бороться с коммунистами, евреями и прочими врагами арийцев, был вовсе не из тех, кто оставляет без помощи помогающих ему. Он и сам недавно переболел, простудившись на здешних холодных и сырых осенних ветрах: сначала был насморк с сильной резью в носоглотке, потом поднялась температура и воспалилось еще и ухо. Даже директор предлагал ему взять больничный отпуск и лечь в лазарет или хотя бы отлежаться на квартире, но Тим, зная, как потом тяжело ловить концы в детективной работе и наверстывать упущенное из поля зрения, отказался, только закапывал в ухо какое-то выданное доктором лекарство и кутался в шарф. В конце концов болезнь прошла, хотя и прилично его вымотала.
Тим нечасто признавался себе, но ощущал, что не только болезнь, но и вся эта долгая служба в прифронтовых районах существенно истрепала его организм. Он сам знал, что нуждается в отпуске, и даже желательно ему съездить в родной Штутгарт к матери, восстановиться телом и душой. Возвращаясь со службы, он чувствовал себя каким-то выжатым, руки и ноги не хотели слушаться. По утрам у него иногда даже не хватало сил сделать обыкновенную зарядку, и так и ехал он в полицейское управление полусонным. Стоило ему услышать где-то резкий звук или неожиданную речь, как плечи непроизвольно вздрагивали. То и дело на душу накатывал какой-то тяжелый мрак, угрюмое равнодушие или неясное беспокойство овладевали Тимом, хотя он и старался не подавать виду, держался на людях привычно выдержанно и активно. Редкая ночь проходила без тягостных снов, в которых то всплывали картины критических боев, бомбардировок и перестрелок, то какие-то машины неопределенной формы, с вращающимися окровавленными деталями двигались безудержным потоком навстречу Тиму, грозя изрубить его тело в куски, а он крушил их молотом, отчаянно пробивая себе путь против их движения, но сил оставалось все меньше, и он начинал задыхаться, вот-вот зловещие, отвратительные механизмы, подступая с разных сторон, должны были зажать между собой и расплющить его грудную клетку. Бывало, снились ему и наваленные перед ним трупы: жутко застывшие и бледные, с диким, хотя безжизненным, выражением лиц, и были среди них женщины, мужчины, дети; потом трупы начинали шевелиться, и при этом лица их не оживали, из них выплескивалась кровь. Еще в Майкопе, причесываясь однажды перед зеркалом, Тим обнаружил у себя несколько первых седых волос, а при напряжении последних месяцев полутора – двух седине впору было бы еще прибавиться. Но Тим не мог решиться взять отпуск: слишком напряженная здесь сложилась обстановка, если упустить ее из-под своего контроля, трудно будет потом заново сконцентрироваться на делах, а тот, кто тебя заменит на время отсутствия, много чего не будет знать и волей-неволей даст подполью слабину. Да и добираться по военным дорогам отсюда хотя бы до Генерал-губернаторства, а потом так же обратно, обойдется в отдельную нервотрепку. Лучше уж Тиму тут и умереть на недавно отвоеванных у русских коммунистов землях, как тысячам солдат на фронте, чем оставлять дела в такой момент.
Тим снял сапоги, прошел в свою комнату, зажег стоявшую на столе керосиновую лампу, снял и аккуратно убрал в шкаф китель. Затем влез в тумбочку за бутылкой шнапса. Подумав, решил не обходиться на эту ночь одним глотком, так как перед глазами тошнотворно-назойливо будто маячили мертвенно-бледные лица убитых сегодня партизанами казаков: какие же видения пойдут, когда Тим заснет? С бутылкой Тим ушел на кухню, чтобы взять стакан и налить шнапса грамм сто. В кухне также при дрожащем свете керосиновой лампы сидела на табурете у застеленного простой бело-синей скатертью стола одетая в клетчато-коричневый халат Анфиса. Светлые, как у настоящей арийки, волосы ее были убраны под салатового цвета косынку. Женщина сидела, заложив ногу за ногу, положив локоть на край стола, и, глядя куда-то в белую стену кухни, негромко, но отчетливо напевала какую-то грустную песню на русском языке:
…Вернётся всё назад – пока мечта живая,
Пока душе сияют маяки.
Мы, своего пути с дотошностью не зная,
Плывем по курсу, словно челноки…
– Твойа пйеснйа очен хорошайа! – сказал Тим, войдя с улыбкой в кухню.
– Ой, господин, простите!.. – сказала Анфиса, прервав пение и привстав.
– Сиди! – сказал Тим, присаживаясь на простой деревянный стул с торца стола. Поставив на стол бутылку со шнапсом, он взял стоявший рядом стакан, откупорил бутылку и налил в стакан шнапса немного меньше половины.
– Ти пит немйецки напиток? – Тим качнул бутылку в сторону Анфисы. – Он хорошо пахнйет!
– Спасибо, господин! – ответила Анфиса, покачав головой. – Я боюсь, что от выпивки слишком крепко усну и не встану вовремя, чтобы приготовить вам воду и отправить в школу ребенка.
– Как твой син… котори имет болезн? – спросил Тим.
– Уже лучше: температура почти спала, горло уже не такое красное, и кашляет меньше! – благодарно кивнула головой Анфиса и улыбнулась.
– Sehr gut! – сказал Тим, закупоривая бутылку. Затем, выдохнув воздух, поднес к губам стакан и залпом выпил обжигающий крепкий напиток, зажмурившись. Поставил опустевший стакан обратно на скатерть стола, отдышался. Чувство резкого жжения схлынуло из горла и рта, по телу стал разливаться усугублявшийся теплом, шедшим от печи, но тем не менее приятный жар. Голова заработала бодрее, очищаясь от усталости, тягостных мыслей и образов, правда, заработала не слишком слаженно. Но Тиму до утра вряд ли понадобится хорошо скоординированное мышление.
– Извините мою назойливость, господин, – произнесла Анфиса, удивленно глядя на Тима. – но раньше вы, по крайней мере, при мне не выпивали по полстакана! У вас что-нибудь случилось?
– Ха!.. – произнес Тим и, приподняв сложенные пальцы ладони, хлопнул ими по столу. – Ти имет тревога обо мне?
Анфиса пожала плечами.
– Что же скрывать: вы очень добры ко мне и к детям, – сказала она. – Даже помогли моей подруге. Конечно, я беспокоюсь за вас как всякий благодарный человек.
– Ти обо мне не беспокойца… – произнес Тим неожиданно сам для себя. – йесли знат, што йа не добри человек. Йа не знайу, што йест добро… йа bin SS-mann*… йа знат, што йест польза, и што йест вред. Добро, злё… што йешо… любов, злёба – это лёшно дéлё!..
– Я не говорю, что вы добрый, – сказала Анфиса, вздохнув. – Я говорю, что вы добры ко мне и моим детям.
___________________
*Я эсэсовец (нем.)
– Ти обо мне… о… wie es… увашениэ! – Тим усмехнулся. – А ми убиват много людей!..
Анфиса снова вздохнула и сказала:
– Война идет!
Тим на секунду вдруг испытал страх перед самим собой: ведь он сейчас сидит, разговаривает с этой милой славянкой арийской внешности, которой взамен ее услуг помогал продуктами, врача вот хорошего пригласил к ее ребенку, а встреть он ее в несколько иной обстановке – он, не задумываясь, пустил бы пулю в это нежное белое лицо. А не мог бы он однажды так пристрелить и самого себя? Но затем он опомнился. Какие причины у него могли быть убивать Анфису – свою работницу, которая, к тому же, имела, наверное, большой процент арийской крови? А убить себя с какой целью? Если стоит перспектива попасть в плен низшим людям – конечно, для эсэсовца лучше смерть, чем такое бесчестие. «Не надо было сразу так много шнапса глотать!» – подумал Тим.
– У вас есть родные, семья, господин? – спросила Анфиса.
– Все имейут росвеники, – ответил Тим. От выпитого в большем, чем обычно, количестве шнапса голова начала сильно кружиться. Тим устало откинулся на спинку стула и подумал, зачем эта женщина спрашивает про его родных. Праздное любопытство? Впрочем, сведения о его родных и близких, живших в Вюртемберге и Баварии, служебной тайны не составляли.
– Мойа мат шивйот городе Stuttgart, – ответил Тим. – отец… умер… ошен давно. Сестра… имет муш…
– А вы сами не женаты? – спросила Анфиса. Тим покачал головой.
– Йесли ти искат нови муш длйа себе, – сказал он со смешком. – йа длйа тебйа не… Ти длйа менйа не хорошайа. Йа SS-mann, а ти не немка. И даше не arische шеншина.
– Что вы! – удивленно воскликнула Анфиса. – Я и не собираюсь сейчас выходить замуж!
Тим с любопытством прямо оглядел ее симметричное белое лицо с голубыми глазами.
– А ти, йа думайу, имет много arisches Blut! – сказал он. – Ти белайа и висока. Но ти Slawin. Wir brauchen solche Frauen nicht**.
– Сегодня моя старшая подруга похоронила дочь, – со вздохом сказала Анфиса. – А священник отказался ее отпевать.
– Кто умираль? – переспросил Тим, поняв только то, что какая-то подруга Анфисы кого-то похоронила.
– Подругина дочь, – сказала Анфиса. – Она повесилась.
Тим, вопросительно глядя на свою работницу, провел ребром у шеи, изображая петлю.
– Да, – сказала Анфиса, кивнув. – Самоубийство.
– Она убиват сйебйа? – догадался Тим.
– Очень скромная и чувствительная девочка… была… шестнадцать лет. Очень ласковая и умная, любила читать Пушкина. Никому не могла сказать злого слова, даже тем, кто ее обижал. Над ней надругались… она сказала, что все в порядке… Но не перенесла на самом деле. Вчера, пока мать была на работах, она сделала петлю… и вот, наложила на себя руки.
– Йа плёхо понимайу тебйа, – сказал Тим озабоченно. – Што би́лё, кто убиват себйа?
– Дочка моей подруги, – повторила Анфиса. – Ей было шестнадцать лет.
– Почему? – спросил Тим.
– Ее изнасиловали.
Тим напряг память, вспоминая, что это русское слово, читанное им как детективом, означает в немецком уголовном праве.
– Vergewaltigung? – воскликнул он. – Он… она имет свйаз о мушина без йейо согласиэ?
– Да, вы правильно поняли, господин, – ответила Анфиса, снова тяжело вздохнув.
– Кто… делат это против… она?
___________________
*Нам не нужны такие женщины (нем.)
– Венгерские солдаты, – сказала Анфиса. – Они посадили ее в машину, когда она шла домой с работ, увезли куда-то в тихое место и надругались, потом бросили… Конечно, она была очень чувствительной и мягкой девушкой… не перенесла такого. И даже отпеть ее в церкви, как положено, не получилось: батюшка сказал, что самоубийц не отпевают. Моя подруга… ее мать… в таком страшном нервном состоянии… у нее не осталось больше никого. Боюсь, она сойдет с ума.
– Йа без возмошност наказат ungarische Soldaten! – сказал Тим, разведя руками. – Это вопрос длйа большой… Kommandantur. Йа… имет власт о немци… о рускийе… Ungarn… это другой армийа… Но йа… грусни как ти, как твойа подруга… – Тим подобрал, какие знал, русские слова, чтобы выразить соболезнования.
– Что же делать нам? – произнесла Анфиса. – Война никак не заканчивается. В городе ни еды, ни дров, солдаты на нас смотрят как на недочеловеков, оскорбляют, грабят, издеваются. Не заслужили мы этого…
– Ти очен плёхо шит? – спросил Тим, хотя понял, что она имеет в виду не себя, а своих соотечественников. – Да, война трудни, но и нам не хорошо… ми плёхо спат, ден и ноч слюшба, нас убиват… даше тут – город, а как много Soldaten умират на фронту!.. А ти шит хорошо!.. Йа дават тебйе йеда… э-э… дерево длйа печ… Йа даше не делат проверка как ти работат!..
– Я говорю о людях вообще! – печально сказала Анфиса. – Люди устали. Люди умирают просто так… от голода и холода…
– Вес люди умират когда ни буд, – ответил Тим. – Ти шит хорошо, пока у тебйа ест шизн… это и буд ради… И твой люди, – добавил он. – не хотйат работат. Немци уше кончáт би делат этот город, а руский челёвéк йево город не хотет делат… цели сам.
– Где же люди могут сейчас заработать? – проговорила Анфиса, вероятно, неправильно поняв
слова Тима о том, что местные жители сами не желают восстанавливать свой город. – Фабрики разрушены, магазинов мало…
– Ха! Твой люди на цели Fabriken работат не хотйат тоше! – усмехнувшись, сказал Тим. – Они не хотйат работат место, где Chef немйец. Потому што длйа твой люди немйецки государство думат враг. Твой люди люби́т большевики! – он засмеялся. – Ми это знат! Твой люди длйа большевики работат без плата, а длйа немйец не работат, хотйа немйец плати́т… хорошо…
– Не сочтите за дерзость, господин, – сказала Анфиса. – но мало кому из наших ваши начальники платят хорошо. А тем, кого посылают на работы по мобилизации, вообще ничего не платят… если дадут захудалый паек – и на том спасибо.
– Это времйа война идйот, – сказал Тим. – Буде война конец – буде хороши плата за работа.
– Для тех, кто войну переживет, – вздохнула Анфиса.
– Обида длйа тебйа нет, – сказал Тим. – но твой народ не длйа этот землйа! Твой народ не умет правильно делат йево шизн. Оно терпет власт от большевики… и злё, и бедност… и сильно войеват за большевики… За большевики, но большевики йево мучит! Но оно терпет… твой народ терпет большевики! И войеват за большевики!… Ти понимат?
– Примерно поняла, – ответила Анфиса.
– Твой народ не мошет шит хорошо без сильни и умни народ! Когда немци имет победа против большевики – буде хороши шизн длйа твой народ. Немци будут вести твой народ, и о твой народ будет правильно забота. Ти понимат?
– Мы и жили… нельзя сказать, что прекрасно, но… удовлетворительно, – сказала Анфиса. – Пока ваши не стали разрушать город. А теперь о нас почти не заботятся. Теперь мы, действительно, стали жить плохо.
– Когда война – нет лёхки шизн, – сказал Тим. – Война будет кончат – и буде шизн… правильно…
– А мы и не хотели этой войны, – сказала Анфиса. – Ее начали ваши люди, господин.
– Мой народ люче знат, што надо делат! – строго произнес Тим. – Мой народ имет большой степен… от мой народ много хороши… люче умни… большой люди длйа планета… йест… Когда твойа страна власт имет немци – твойа страна биль сильни и правильни, когда твойа страна власт имет большевики… йеурей – твойа страна бедни и без правда. Ти знат это.
– Я не знаю, лучше было до большевиков или с большевиками, – ответила Анфиса, потупив глаза. – Наверное, кому как… Но я… только не злитесь на меня… я знаю, что до прихода ваших… соотечественников все жили лучше, чем сейчас.
Тим сначала не очень понял ее слова, но затем до него дошло. Нахмурившись, он сказал:
– Ти бели как arische Frau, а глюпи как Slawin!.. И polnische Frauen тоше такой! Ти дольшен шдат, когда буде конец от война, и тогда буде хороши шизн. Мой народ… мой власт люче знат, когда делат война, когда кончáт!..
– А почему вы уверены, что эта война правильная? – спросила Анфиса, посмотрев на Тима все тем же печальным взором голубых глаз, но тут от Тима не укрылась сквозившая сквозь грусть стальная напористойсть, которую он часто видел в глазах допрашиваемых партизан, их пособников и коммунистических агитаторов. «И ты такая же, как твой народ! Что ж тут удивляться!» – подумалось Тиму.
– Потому што большевизм… йеурейски идейа… опасни против вес правильни челёвéк этот Planet! – ответил он славянской женщине. – Ми високи люди – и ми дольшен liquidieren большевизм. И от это ми войеват против kommunistisch власт: он… verbreitet большевизм.
– Но вы воюете против коммунистов, а страдает наш народ – беспартийный, – сказала Анфиса. – Ведь на плакатах в городе написано, что ваша армия пришла защищать нас от большевиков, а мы стали жить намного хуже, чем при них… Нет, я не коммунистка, даже комсомолкой не была… я просто ростовская женщина. Я согласна, что при большевиках тоже были трудности. Я хотела бы, чтобы дело прояснилось для меня: нас пришли спасать от большевиков, но нам стало еще хуже. Почему?
– Йа тебе говориль!.. – устало произнес Тим. – Война идйот – от война и длйа немци плёхо!.. Йа боле плёхо от ти шит: ти вода носи́т и Quartier делат чисти, а йа искат Partisanen, Kommunisten… йездит город везде… до Front… менйа стрелйат!.. Йа не Gestapo-Mann, йа Kriminalpolizist, но делат politische работа!.. А война конец – буде хороши шизн!.. И длйа твой народ, и длйа мой народ!..
– Но так же говорили и большевики, когда воевали с белогвардейцами! – произнесла Анфиса, грустно глядя на скатерть кухонного стола. – Я была маленькая, но помню: было страшное разорение, был первый голод… Людей убивали из-за самых пустяков… красные – чуть только показалось, что кто-то что-то имеет против власти Советов, белые – тоже чуть только показалось, что кому-то нравятся большевики. И большевики… да и белые тоже, говорили: пока война, трудно, но мы победим – и наступит счастливая жизнь… И до сих пор большевики так говорят: еще немного – и наступит всеобщее счастье. А счастливой жизни все нет и нет. Тяжелая работа есть, пустые магазины есть, аресты тех, кто не понравился власти, есть, но вместо счастья… просто удовлетворительная жизнь, которая была и до революции. Только управление поменялось… старых учреждений нет, есть новые – большевистские. А жизнь в конечном итоге та же. Но как началась война – жизнь стала опять плохой. Почему же следует думать, что после этой войны она станет счастливой? А не просто такой же, как была раньше?
– Ми не большевики, ми немци, – ответил Тим. – Ми дават плата хорошо длйа люди, кто хорошо работат!
– Вы в это верите, господин? – спросила Анфиса. – Вы верите, что ваша власть будет достойно заботиться о людях, которые… которые даже не одной с вами нации? Просто ведь и коммунисты обещали всем счастье, и такие, как вы… я имею в виду, обычные служащие, по-настоящему им верили. Простые коммунисты сами верят тому, что говорят председатели комитетов, парторги. Я говорю вам честно, как мне кажется: вы мне сами очень напоминаете наших… обычных коммунистов. Которые верят в то, что обещают им руководители. Но из этих обещаний сбывается… очень невеликая часть…
– Die Kommunisten обешат длйа вас шасйе! – сказал Тим, мрачно ухмыльнувшись. – И ви это шасйе шдат тепер! А это шасйе нет! А Nationalsozialisten длйа нас обешат… э-э… свобода от бедност и дéлё, де закон нет… и они делат, што обешат: ми Germania шит хорошо. Кто работат – тот имет плата… хороши плата! Мой страна хороши доми, дорога, Magazine, Fabriken. Это делат Nationalsozialisten… Но Kommunisten in Germania только портит работа, а Росиа они делат обйазаност работа без плата, и народ от kommunistisch власт бедни… Они твой народ обман делат всегда!..
– Вы хотите жить счастливо за счет горя других? – вздохнула Анфиса.
– Йа не понйаль тебйа, – сказал Тим.
– Вы живете в Германии хорошо, потому что увозите хлеб, скот, уголь, машины… даже людей из тех стран, с которыми ведете войну, – сказала Анфиса. – Своего счастья не построить на чужом горе.
– Начáлё от война биль, когда ми уше хорошо шит, – сказал Тим. – Ми хорошо шит от наш работа… Ми брат… э-э… имушество… не много… от страна, где войеват, но это имушество ми дават длйа война – не длйа шизн Германиа.
– Я не интересуюсь политикой, – сказала Анфиса. – но… знаете, вас… я имею в виду, немцев… и венгров с румынами, которые пришли с вашей армией… вас русские люди боятся… вашим плакатам не верят… Вы смотрите на наших людей так, будто они какие-то мыши или тараканы, которые мешают вам жить там, где вам вздумалось. Как-будто желаете нас вытравить отсюда… Поэтому люди и ждут Красную Армию: думают, что лучше уж большевики… от большевиков понятно, что ждать, а от немецкой власти… угрозой от нее веет… все время… даже когда ваши генералы улыбаются…
– Твой народ сильно слюшат kommunistische Propaganda, – сказал Тим. – Ми делат конец длйа большевизм – и твой народ видет добро от нас!
– Нашим людям и так тяжело от войны, – сказала Анфиса, шумно набрав в легкие воздух, будто собравшись духом. – А ваши начальники еще и причиняют им зло сверх того. Забирают то, что удается заработать… вырастить… оставляют малое. Люди ослаблены от недоедания, от хлопот, а их заставляют работать… грубо заставляют, даже бьют за неповиновение… так ни большевики, ни царская полиция не позволяли себе поступать… Увозят против воли в чужую страну… молодежь, которая только вчера школу закончила, отбирают у матерей. Чуть какое подозрение – грубо хватают простых людей, даже стариков и детей – и в тюрьму… хорошо, если отпустят потом, а уже у двух моих подруг родные сидят в тюрьме с лета – и доказательств против них нет никаких, и выпускать их не хотят. Вот, ваши друзья-венгры русских девочек насилуют. Поэтому люди вашей власти не верят. Думают, что она хочет вообще русских людей со света сжить. И как раз боятся, что если война закончится – вы расправитесь с ними… потому что силы у вас освободятся, в работе русских у вас нужды больше не будет.
Тим удивился: надо же, местные жители думают почти о том же, о чем и он, только со своей стороны, понятное дело. Сами они догадались о неких планах в руководстве СС, предполагавших переселение большинства славян в Сибирь с целью освобождения земель Восточной Европы для арийцев, или кто-нибудь из недалеких эсэсовцев проговорился им? Или это – результат подпольной агитации: ведь советская разведка могла тоже узнать об этих планах и, несомненно, большевики тогда воспользовались бы этими сведениями в пропагандистских целях. Но Тим не думал, что Анфисе с детьми грозило бы переселение: во-первых, она исправно служила ему – эсэсовцу, офицеру немецкой полиции, а значит, наверняка должна была попасть в списки тех, кому будет позволено остаться, во-вторых же, ее внешность говорила о вероятной высокой доле арийской крови, и впоследствии она могла бы даже стать гражданкой Рейха.
– Я знаю, что вы, господин, даже если бы хотели, не изменили бы ничего: вы просто служащий своей страны, – сказала Анфиса все с той же грустной интонацией. – Но может быть, вы сами… сами для себя подумаете: правильное ли дело вы делаете. Все-таки вы обычный человек, приличный человек, офицер. И я как-то должна отблагодарить вас за вашу… снисходительность ко мне.
– Што ти говориш? – не понял Тим.
– Ваши люди воюют с другим народом, чтобы возвысить свой, – сказала Анфиса. – Неправильно это.
– Ти думат, што ми войеват не правильно? – умехнулся Тим.
– Я не сильно интересовалась такими вещами, – сказала Анфиса. – но кое-что из идей национал-социализма я знаю. Вы думаете, что можно и нужно воевать с другими народами, чтобы свой народ жил хорошо.
– Вот как ти говорит! – произнес Тим. – Собсвений Nation – главни дéлё, не правильно? Руски Nation тоше себйе помогат, длйа другой – потом. И украйнски Nation – тоше. Нет ли?
– Когда своей нации грозит беда, конечно, любая нация будет спасать себя в первую очередь, – сказала Анфиса. – Как и всякий человек сначала думает своем благе, о своих близких, а потом о других людях. Но нападать на другую нацию, чтобы отобрать у нее что-либо для своей – это нечестно и непорядочно. Точно так же, как отбирать что-то у семьи соседа для своей семьи. Различия между нациями не больше, чем между семьями, чем между разными отдельными людьми. Все люди отличаются друг от друга. И один русский от другого, и один немец от другого. У каждого человека своя внешность, свои привычки, свои убеждения. И у каждой нации своя культура, свои обычаи. Но это все не существенно. У каждого человека, у каждой нации есть общечеловеческое, что для всех людей и всех народов одинаково: все одинаково чувствуют, радуются, страдают, любят своих родных и друзей, все хотят добра и справедливости, все хотят счастья, все уважают труд, но и отдыхать любят. Все люди – это люди, телом и чувствами все одинаковы. Вы этого не можете не замечать, господин, но вы так верите тем, кому служите, что не думаете об этом!
– Когда кашди челёвéк думат йево… думаниэ, – произнес Тим, которого уже сильно клонило в сон. – вместо дéлё от слюшба – буде Chaos und Anarchie… У нас биль времйа, што кашди челёвéк, кашди Partei и кашди Land думат што хотет – это времйа, когда йа биль малий… ушасни времйа, хорошо, когда оно кончáт! Ми войеват, брат победа и шит шасйе – это йа знат! – он тяжело поднялся со стула. Голова кружилась и от усталости, и от выпитого шнапса. – Йа работат заутра – йа дольшен спат! Добри ноч! – взяв бутылку со шнапсом, он, превозмогая головокружение, направился в свою комнату.
– Доброй ночи, господин! – так же печально произнесла вслед Анфиса.