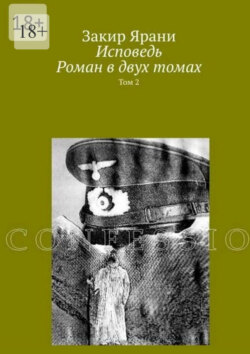Читать книгу Исповедь. Роман в двух томах - Закир Ярани - Страница 3
13
ОглавлениеСразу после завтрака с товарищами в служебном кабинете, Тим, оставив пока общие дела на Эмана, выехал с Хеллером опять в тюрьму на третий допрос арестованных неделю назад комсомольца Очерета и его подругу Иванову. Ввиду важности дела он взял с собой переводчика ГФП Шмидта, чтобы информация, которая могла озвучиться на этом допросе, не дошла до ушей штатных переводчиков тюрьмы, за чье умение хранить служебные тайны ручаться было нельзя. По пути в тюрьму, снова созерцая из кузова «Фольксвагена» мрачные руины города, накрытые еще и унылой серостью поздней осени, он вспомнил о разговоре со своей квартирной работницей вчера вечером и ухмыльнулся сам себе. Она жалуется на притеснения, а сама вчера наговорила такого, что, будь она немка и в Германии – ее непременно бы арестовали. Тим же снизошел до того, чтобы выслушать ее не вполне благодарные, учитывая, как она жила под его крылом, сетования на немецкую власть, потому что она была местной невежественной украинкой.
Двадцатичетырехлетний Виктор Очерет, уроженец Днепра (Днепропетровска) на Украине, когда-то проходил проверку ГФП как бывший активист Комсомола, однако на допросе, производившемся в конце июля, заявил, что в Комсомол вступали почти все советские молодые люди, а свою личную активную деятельность в главной молодежной коммунистической организации он считает ошибкой. Он утверждал, что коммунистическое руководство при подходе немецкой армии к городу трусливо сбежало, обманув и комсомольцев, и всех трудящихся, поэтому он больше не желает иметь ничего общего с этой партией, и если Германия, действительно, принесет восточным народам достойную жизнь и справедливость, он ничего не будет иметь против власти Рейха и даже готов поддержать. Правда, от предложенного сотрудничества он отказался, прямо сказав, что ему надо убедиться в честности немцев. Тогда его оставили, некоторое время еще негласно наблюдали за ним, но выявить какие-либо проявления антинемецкой деятельности или настроений с его стороны не удалось. Он жил в одной квартире со своим тринадцатилетним братом Евгением: их родители умерли в прошлом году, а средняя сестра – еще раньше. По его собственным словам, именно из-за того, что на его иждивении был младший брат, которого он перед самой войной перевез из Украины в Ростов, его не призвали в связи с войной в Красную Армию, хотя он признался, что до войны прошел в ней службу. В Ростов он попал по направлению работать на сейчас пока не действовавшем машиностроительном заводе «Ростсельмаш». Пока ГФП и вспомогательная полиция наблюдали за ним, Очерет исправно ходил на мобилизационные работы, кроме того, подрабатывал то грузчиком, то садовым работником, то перевозчиком товара для обувного магазина в Нахичевани. В итоге полиция о нем просто забыла.
А тем временем Очерет тайно собрал в своей квартире на 1-й Федоровской улице в юго-восточной части города целый склад оружия для диверсий, под который оборудовал скрытый погреб. Недавно его брат Евгений, от которого он наличие оружия держал в секрете, случайно смог обнаружить вход в погреб, из любопытства заглянул туда и увидел этот арсенал. Виктор настрого запретил брату где-либо что-либо говорить об оружии, но все же мальчик однажды не удержался и в разговоре с приятелем-ровесником похвалился, что скоро они с братом якобы пойдут бить немцев. Приятель Евгения, не восприняв слова того всерьез, рассказал о них ради веселья взрослому соседу – бывшему сотруднику вспомогательной полиции, уволенному за пьянство. Тот, вероятно, желая восстановить свою репутацию, явился в политический отдел хипо и сообщил об известной ему подозрительной реплике соседа-ребенка. Русская полиция произвела в квартире братьев Очеретов обыск и обнаружила тайник с оружием: русскими и немецкими винтовками, пистолет-пулеметами, гранатами, общим числом в пятнадцать единиц, а также патронов на каждые винтовку или пистолет-пулемет в избытке. Братья были арестованы и, поскольку оружие, несомненно, было собрано и передано на хранение старшему Очерету партизанами, их делом занялась ГФП, а именно – команда Тима.
Первый же допрос братьев произвел в полицейском управлении сам директор ГФП, и он же распорядился организовать в их квартире засаду, так как по своему опыту знал, что вряд ли хранитель оружия регулярно контактирует непосредственно с партизанами: скорее всего, связь осуществляется через курьера или курьеров. На удачу особо не рассчитывали, так как партизаны легко могли узнать об аресте Очеретов от их соседей, от своих агентов-наблюдателей или даже от ведших двойную игру русских полицейских. Однако на следующий же день в квартиру арестованных братьев вошла, отперев дверь своим ключом, девушка, которая была тоже арестована. Это оказалась двадцатилетняя Марина Иванова, бывшая работница того же завода «Ростсельмаш», на котором раньше работал Виктор Очерет. При досмотре в ее сумке был обнаружен клочок бумаги с непонятной записью химическим карандашом на русском языке. Прочитавшие записку два переводчика ГФП однозначно заявили, что буквальный текст той не имеет определенного смысла, и скорее всего, это шифровка. Когда же почерк, которым была сделана записка, сличили с образцами почерка находящихся в розыске лиц, выяснилось, что он принадлежит комсомольской активистке Елене Мушикьян, на момент занятия Ростова немецкой армией находившейся в городе по своему местожительству, но затем исчезнувшей.
Поскольку связь старшего Очерета и Ивановой с партизанами была налицо, и сами они казались фанатично преданными Коммунистической партии, первый их допрос проводился директором почти предельно жестко. Братьям Очеретам, чтобы создать впечатление, будто их сейчас же готовы убить, подручные хипо наносили удары обрезками деревянных черенков от лопат и прикладами винтовок, а не плетьми, удары которых хотя были более болезненные, но не могли перебить кость или сразу повредить внутренности. Конечно, хипо старались все-таки не забить до смерти и не искалечить подследственных на первом же допросе: расчет был больше на то, что Очереты устрашатся скорой расправы, так как мучительные, но не смертельные, удары плетей старший брат – коммунистический фанатик, наверняка готов был бы терпеть до бесконечности, а младший, похоже, все равно ничего не знал. Иванову на первом допросе секли плетьми, как обычно было принято, но долго, приведя в чувство алкоголем и продолжая, когда она потеряла сознание. Несмотря на жесткие методы, никакой существенной информации от этих подследственных получить не удалось. Виктор Очерет повторял бессмысленную версию, что склад оружия не его, что кто-то, наверное, соорудил и наполнил погреб еще до того как они с братом вселились в эту квартиру, хотя поселились там они еще до войны, а среди оружия было и немецкое. Евгений плакал и кричал, что погреб с оружием нашел случайно и не знает, откуда оно взялось и кому принадлежит, и что брат ничего ему про оружие не рассказывал, немцев они бить не собирались: просто пошутил он в разговоре с другом. Директор, понаблюдав за поведением младшего Очерета на допросе, предположил, что тот в самом деле не был осведомлен о делах старшего брата, но все же сказал Тиму провести второй допрос мальчика тоже. Иванова отвечала, что пришла к Виктору Очерету как к другу – и только, а откуда взялась записка с почерком Елены Мушикьян в ее сумке и что там написано – не понимает, и с самой Мушикьян не знакома.
Второй допрос подследственных по делу о складе оружия производил уже Тим – в тюрьме, еще не до конца излечившись от тяжелой простуды, но все же собравши силы. Старший Очерет и Иванова дожидались второго допроса в строгих камерах, младшего Очерета же Тим, опасаясь, что малолетний там долго не протянет или впадет в такое состояние, что уже ничего не сможет отвечать, распорядился поместить в обычную одиночную. До второго допроса подследственные еще не видели Тима, и он постарался произвести на них хотя бы нейтральное впечатление, относительно мягко, но настойчиво убеждая рассказать об их связях с подпольем, в особенности, откуда взялось оружие, для чего предназначалось, и что означает найденная у Ивановой записка.
Старший Очерет, наконец, признался, что оружие – партизанское, предназначавшееся для нападений на немецких солдат и полицейских, но утверждал, что тех, кто принес этот арсенал к нему в квартиру, не знает: будто бы подружился с некой компанией, распивая пиво в парке, и кто-то из новых друзей «по секрету» сообщил ему, что является подпольщиком, а затем попросил подержать оружие у Виктора в квартире. И будто потом к Виктору пришли четыре человека, не назвав своих имен, соорудили в квартире погреб и там сложили оружие, после чего ушли, сказав, что придут и заберут, когда будет нужно. Но так больше никто не приходил и оружие не забирал, и тот новый приятель, который якобы договорился с Очеретом о хранении оружия, тоже куда-то исчез, и знал о нем Виктор будто бы только то, что зовут его Ваней. Тим, конечно, не поверил этой донельзя простецкой легенде, но больше от старшего Очерета добиться ничего не удалось.
Младший Очерет на втором допросе повторил то же, что показал на первом: он нашел вход в погреб случайно, разыскивая на полу упавший карандаш, заглянул из любопытства, брат запретил ему говорить кому-либо что-либо об увиденном оружии, чтобы немцы их не убили, а в разговоре с другом Евгений просто пошутил, что они с братом скоро пойдут сражаться с немцами. Да, пошутил под впечталением от увиденного дома оружия, но откуда оно взялось, когда его туда принесли и кто, с кем встречался старший брат, он не знает. Тим, проведя допрос мальчика, согласился с выводами директора о том, что Евгений и в самом деле ничего значимого показать не может, и даже если все-таки видел, как Виктор общался с кем-нибудь из подполья, или как сооружался погреб для оружия, все равно никого не узнает: подходя к своему делу серьезно, старший Очерет старался все держать втайне от младшего, который в силу возраста мог легко где-нибудь проговориться (как в итоге и случилось) или сломаться на допросе.
Иванова на втором допросе продолжала упорно твердить, что не знакома с Мушикьян, не знает, как и где записка попала в ее сумку, и какой смысл содержится в тексте, а к Виктору Очерету пришла просто по дружбе. Тиму было невооруженным взглядом видно, что подпольщица лукавит: она что-то хотела сообщить Очерету, либо, наоборот, получить что-то от него, либо обсудить с Виктором какие-то дела, касающиеся противодействия немецкой власти. Только нельзя было догадаться, связана ли с этим найденная у Ивановой записка Елены Мушикьян.
По очереди допросив тогда подследственных, Тим посоветовал им до следующего допроса хорошо подумать и затем все-таки честно рассказать, с кем они работают, откуда оружие и что сказано в записке. На совещании у директора Тим изложил свои впечатления и соображения. Никто не сомневался, что взломана одна из партизанских ячеек города, совершавшая нападения на немецких солдат и полицию, скорее всего, связанная с Юговым. Но поскольку арестованные ничего не сообщали, невозможно было ни установить оставшихся на свободе ее участников, ни определить, в каком именно районе города она действует или действовала, ни тем более проследить каналы, по которым она поддерживала связь с головной частью подполья. В итоге директор сказал, что времени на долгую раскрутку подследственных нет, так как в городе продолжается партизанская активность, старший Очерет и Иванова, несомненно, являются коммунистическими фанатиками, которые в ближайшее время не захотят давать никаких показаний, а младший Очерет в самом деле ничего не знает. Директор предписал Тиму на третьем допросе либо добиться от старшего Очерета и Ивановой показаний, если это все-таки окажется возможным, либо составить официальное заключение, что они являются злостными приверженцами коммунистических идей и ненавистниками Рейха, которые, несмотря ни на что, не будут оказывать помощь розыску своих сообщников.
И вот, теперь Тим отправлялся на третий допрос арестованных по делу о складе оружия. Проехав снова под массивной и мрачной аркой тюремных ворот, Хеллер припарковал «Фольксваген» в кармане переднего двора тюрьмы точно на том же месте, где и вчера, когда Тим приезжал допрашивать «газетчиков». Выйдя из автомобиля, Тим и переводчик Шмидт направились к узкой двери комендантского корпуса.
Обменявшись приветствиями со стоявшими в помещении у ведущей наверх лестницы тремя офицерами тюремного персонала, Тим и Шмидт поднялись в кабинет коменданта, при входе перекинувшись с сидевшим за своим столом перед ворохом деловых бумаг адъютантом словами о крайне неприятной сырой и ветреной погоде здешней осени. Комендант тюрьмы встретил их улыбчиво, сообщив, что вчера вечером изъявил желание дать признательные показания один из арестованных по делу о поджоге состава с предназначенным для вывоза на волжский фронт углем у поселка Кириловский.
– Очень хорошо! – сказал Тим, хотя это дело расследовал прибывший два месяца назад в Ростов вместо переведенного в Поволжье Циммермана комиссар Функ. – Вряд ли он выведет нас на верхушку их организации, но все-таки… если мы установим его непосредственных сообщников – еще одно щупальце у этой гидры будет обрублено.
– Присаживайтесь! – пригласил их комендант. Тим и Шмидт, поместив свои шинель и плащ на вешалку в углу кабинета, сели на стулья возле комендантского стола. Комендант сел за стол в свое кресло, над которым на стене возвышался большой портрет Фюрера.
– Вот указание моего шефа, – сказал Тим, извлекши из портфеля распечатанное постановление директора о проведении допроса Виктора Очерета и Марины Ивановой с применением любых мер, способствующих даче ими откровенных показаний. Фактически это означало разрешение вытягивать из несговорчивых подследственных показания как угодно, пока они не расскажут все, что им известно, либо не умрут. Комендант тюрьмы по своему обыкновению внимательно прочитал постановление, затем вернул Тиму и сказал:
– Ну, что вы собираетесь предпринимать?
– Я сейчас еще раз попытаюсь поговорить с ними по-хорошему, – ответил Тим, убирая листок обратно в портфель. – Ну… если будут молчать, давайте их купать. Пока или они не начнут говорить, или языки у них не закостенеют.
– А если все равно не заговорят? – спросил комендант, улыбнувшись.
– Тогда мы будем считать их кончеными коммунистами, – сказал Тим. – и пусть отправляются в ров.
– Ладно, ваши клиенты – ваша воля! – сказал комендант. – Вызывать их?
– Конечно, – сказал Тим. – К чему рассиживаться?
– Вторая допросная камера вас устроит? – спросил комендант, снимая трубку телефона внутренней связи.
– Да, – кивнул Тим. – Первым давайте старшего Очерета… А младший нам уже не будет нужен, наверное.
– Хорошо, – сказал комендант…
Через несколько минут Тим уже сидел за столом в полусумрачном помещении допросной камеры, а на стуле рядом расположился Шмидт. Скрипнула тяжелая металлическая дверь, и два охранника ввели в помещение Виктора Очерета. Подследственный – молодой мужчина довольно высокого роста, со сбитыми темными волосами и крупными карими глазами, ступал не очень ловко, но не волочился на руках конвойных, как в день второго допроса. На его широко-овальном лице – бледном, но все же уже более румяном, чем в прошлый раз, поросшем густой темной щетиной, пестрели пятна синяков и засохшей крови, на губах чернели шрамы от ударов. Конвойные усадили Очерета на стул перед столом, за которым Тим от нечего делать постукивал обратным концом ручки по чистому листу бумаги, завели за спинку стула руки и застегнули на запястьях наручники. После чего вышли из камеры. Снова скрипнула и грохнула, захлопнувшись, стальная дверь, лязгнул запираемый замок.
На некоторое время в допросной камере повисла мрачная тишина, только Тим все постукивал ручкой по столу через лежавший на том лист бумаги. Затем Тим многозначительно посмотрел на равнодушно смотревшего в крышку стола подследственного и спросил:
– Ви думали о моихь слёвáх? Ви имели много времени. О, ви севоднйа имет боле хороши состойаниэ от наш биуши разговор! Ви боле здорови!
Очерет поднял глаза на Тима и произнес:
– Я все вам сказав, начальник! – и криво усмехнулся побитыми губами.
– Ви нам не всйо говорит! – сказал Тим, снова опустив глаза в чистый лист бумаги, будто вычитывал оттуда что-то важное. – Йа дольшен известит вас, што о вас делано решениэ от управлениэ полицийа. Йесли ви севоднйа не будете говорит мне всйо чесно – ви будете уничтошен как враг длйа Germania, – Тим снова посмотрел на скованного наручниками на стуле Очерета – в упор. – И ви, и ваш… ваша подруга, и ваш брат! – Тим выразительно кивнул. – Ваш брат тоше знат об орушийе, но не сказат полицийа!
– Он дитё, як он миг донесты до полиции! – проговорил Очерет, казалось бы, ровно, но Тим уловил в интонации подследственного отчаянные нотки. Вероятно, Очерет надеялся, что его малолетний брат все-таки будет пощажен, но в то же время был твердо настроен никакой информации не сообщать. – Он не знае же, де полицейский участик!
– Этот вопрос йа не решат, – сказал Тим. – Этот вопрос решон управлениэ. Но ви йешо мошете спасат себйа и ваш брат… Будет или нет шит ваша подруга – это она решат: она буде говорит – будет шит, она тоше преступник. А ваш брат ви мошете спасат.
– Нет, – сказал Очерет. – не можу! Я усе вам рассказав, а вы не вирите. Брехаты я не буду!
– Ви обманиват нас! – сказал Тим. – Ваш расказ йест Fantasie. О немци не надо смейаца! Ви чесно говорит нам: откуда орушийе, кто орушийе класт ваш Quartier, откуда писмо, и што значит Text от это писмо. И ми не убиват вас и не убиват ваш брат.
Очерет молчал, безучастно глядя куда-то в сторону. По его покрытому щетиной и кровоподтеками болезненно бледному лицу время от времени пробегала мелкая дрожь.
– Объясните ему, Шмидт, что его выгораживание своих сообщников не стоит таких жертв! – обратился Тим к переводчику по-немецки. – Он надеется, что Красная Армия и большевики вернутся, но надеется зря! Сталинград уже в наших руках, нам осталось подтянуть резервы – и мы перейдем Волгу, тогда всему этому большевистскому государству конец. На Кавказе красноармейцы тоже скоро вымерзнут в горах полностью: уже зима вот-вот начнется. Зря он верит лжи большевиков: они пытаются спасти себя, поэтому делают всё, чтобы убедить свой народ по эту сторону фронта нападать на немцев, надеются задержать продвижение нашей армии. Но это пустые надежды, просто утопающий хватается за каждую соломинку! Мы уже почти прижали Красную Армию к Уралу! Куда ей отходить, где закрепляться? В Сибири, где вся армия погибнет в первые же морозы? Этот человек сейчас принесет в жертву и себя, и своего брата-ребенка, но ничего не изменит этим! Дело коммунистов проиграно, когда они погибнут – это лишь вопрос времени… да буквально месяцев, я думаю! Объясните, Шмидт!
Шмидт стал переводить Очерету, – Тим заметил: на украинский язык. Очерет ответил:
– Ну, якшо так… Тоди нехай убывають и мене, и брата! Краше, ниж житы в ихньому… царстви тьми.
– Не надо этого трагизма! – сказал Тим, глядя на подследственного, по-немецки. – Переводите, Шмидт! Вы можете жить спокойно и мирно, воспитаете вашего брата по-человечески. Мы не враги вашим людям. Сейчас идет война, поэтому сейчас трудно. Но когда мы покончим, наконец, с большевизмом, все устроится. Все будут честно жить и честно работать, получая честный доход от своей работы. Кто захочет – снова возьмется за плуг, кто захочет – пойдет на завод… мы все заводы обязательно заново отстроим: нашему Рейху нужна промышленность… Вы не видели, какие мощные заводы и фабрики работают в Германии и Польше. Мы хотим, чтобы и здесь работала такая же мощная индустрия. А кто желает – может даже помогать нам очищать от врагов естественного порядка остальной мир… СС готовы принимать в наши дивизии всех способных и желающих сражаться людей, из любого народа. Расскажите нам: кто принес в ваш дом оружие, кто руководит вашей группой, и что написано на бумажке, которую наши люди нашли в сумке вашей знакомой Ивановой. И живите вместе с вашим братом спокойно.
Шмидт перевел.
– Комсомол своих людей не продае, – ответил Очерет. – Не прынесете вы нам щастя. Убьете нас як несчастных евреив. Мы для вас – вторые люди, навроде дикунив. Хочете, шоб мы як худоба на вас працювали задарма и мовчали. Убывайте уже!
– Ми убйом! – сказал Тим. – Но это глюпо! Seien Sie vernüftig!
– Комиссар прóсить вас бути розсудлывым! – сказал Шмидт.
– Я розсудлывый! – ответил Очерет. – Я знаю, шо прыреченый… Я знаю, шо вы хочете заволодиты всим у мойий крайины, а нас зробыты дешевою робочою силою… навить без капиталу… хочете зробыты нас неграми-рабами… Убывайте! Якшо вы мене не убьете – я буду убываты вас!.. Як тилькы зможу!.. – и, вызывающе-злым взглядом посмотрев на Тима, ощерился частично выбитыми на первом допросе зубами. Нет, этого человека нельзя было сломать в короткие сроки! Тим все же решил прибегнуть к еще одному блефу:
– Ви хочете умират здес? – произнес комиссар, с ухмылкой взглянув в сторону стальной двери. – Мошет бит, ви хочете умират возле ваши друзйа большевики? Ми это делат мошем, – и обратился по-немецки к переводчику:
– Скажите ему, Шмидт, что он может умереть вместе со всеми своими коммунистами в Сибири, куда мы скоро выдавим их… навсегда с цивилизованного Европейского континента.
Шмидт перевел подследственному. Тот мрачно усмехнулся, сильно дернув плечами.
– Если он расскажет то, что мы требуем от него, – продолжал Тим. – то мы можем обменять его на кого-нибудь из наших агентов… ну, или военнопленных. И его, и его брата. И пусть наслаждается последние дни в обществе своих любимых коммунистов… пока не замерзнет вместе с ними в Сибири, куда наша армия скоро выдавит их… когда перейдет Волгу.
Шмидт перевел. Очерет грубо и безрадостно рассмеялся.
– Якбы я выдав свойих друзив, я б помер вид сорому, зьявывшись серед свойих, – сказал он. – Ни шагу вы з мойею допомогою не зробыте. Мий народ скынув царя та панив не для того, шоб нимецьки паны та буржуйи на наший земли були господарями…
– Он говорит, что умер бы от стыда, если бы выдал своих друзей и появился среди остальных, – перевел Тиму Шмидт. – И что мы с его помощью не сделаем ни шагу. Что его народ сверг царя и господ не для того, чтобы на их земле хозяевами были немецкие господа и капиталисты.
– Ну, так мы же будем держать в секрете, что это он выдал своих сообщников, – сказал Тим с напускным равнодушием. – Этого даже мои непосредственные коллеги не будут знать. Я и директор… ну, еще вы, Шмидт – по долгу службы, но вы-то точно не проговоритесь, вы отлично умеете хранить секреты. Его так называемые «друзья» зазря подвели к казни и его, и его брата, который, по правде говоря, ни в чем и не повинен. Разве не могли они не знать, чем это обернется? Непременно знали! А теперь что получается? Он и его юный брат сегодня или завтра закончат свою жизнь в этой тюрьме, а его друзья дальше будут свободно ходить по улицам, радоваться жизни. И если мы их так и не установим, рано или поздно смирятся с нашей властью, а то и поддержат ее, сами будут нам помогать, когда увидят, что никаких этих ужасов вроде негров в рабстве мы не принесли. А его с братом могилы даже не будут искать.
Шмидт перевел Очерету.
– Я ясно сказав, – ответил тот. – Мени краше померты, аниж допомагаты фашистам.
– Говорит, что ему лучше умереть, чем помогать фашистам, – перевел Шмидт Тиму.
– И брата убьет? – спросил Тим. Шмидт перевел.
– Якшо брат помре, це краше, ниж стане або рабом, або фашистом, – ответил Очерет.
– Он говорит… – начал переводить Шмидт.
– Благодарю вас, Шмидт, я понял, что он сказал, – произнес Тим, кивнув. И, макнув перо ручки в чернильницу, принялся писать на лежавшем перед ним листе отчет, что подследственный Виктор Очерет категорически отказывается давать какие-либо показания и признается в глубокой преданности ВКП (б) и ее учению, а также угрожает убивать немцев в случае своего освобождения. Написав недлинный текст отчета, Тим поставил под тем подпись, затем придвинул лист и дал ручку Шмидту, чтобы Шмидт тоже расписался как переводчик и свидетель. Когда Шмидт поставил свою подпись, Тим принялся промокать текст пресс-папье, между делом произнеся:
– Людям трудно взглянуть на жизнь по-новому и начать жить заново! Даже когда их дело рушится, они предпочитают умирать вместе с ним… как-будто гибнет само бытие!..
– Привычка – сильная вещь! – согласно кивнул Шмидт.
– Ты украйинец чи нимец? – произнес Очерет, глядя на переводчика.
– Кым тоби бивше подобайеться – тым и буду! – усмехнувшись, ответил Шмидт.
– Зрозумило, – сказал Очерет. – Продажна дупа ты.
Шмидт рассмеялся.
– А ты – повный идиот, – сказал он. – Идиотом був – идиотом помреш. Красногвардеец.
Тим встал из-за стола, шагнул к Очерету, сидевшему на стуле со скованными за спинкой того руками, и, сжав кулак, резко двинул подследственного под ребра. Вскрикнув, Очерет скорчился на стуле, его скованные сзади руки будто натянулись. Не давая ему отдышаться, Тим ударил его ниже груди, затем схватил за взлохмаченные темные волосы и стукнул лбом о ребро крышки стола. Когда Очерет со стоном отдышался и приоткрыл сквозящие злобой и ненавистью карие глаза, Тим с размаху ударил его кулаком по переносице; кровь хлынула, заливая комсомольцу губы и щетинистый подбородок, капая на светло-серую рубашку. Чувствуя прилив безудержной ярости при виде врага исконных человеческих традиций и порядка, сидящего здесь со скованными руками и даже в таком положении надменно прославляющего свои идеи, Тим еще дважды обрушил свой кулак на лицо коммунистического пособника. Затем, нагнувшись и вывернув тому волосы, холодным тоном произнес:
– Ти будеш умират! И твой брат! И твойа подруга! У тебйа ешо йест очен мáлё времйа, штоби спасат себйа и их! Совсем мáлё времйа! – отпустив волосы подследственного, который бессильно обвис на стуле на скованных руках, Тим нажал на кнопку вызова охраны. Лязгнул отпираемый замок, со скрипом отворилась стальная дверь, и конвойные, грохоча сапогами, вошли в полутемное помещение допросной камеры.
– Пока в камеру его! – распорядился Тим, усаживаясь обратно за стол. – Ведите Иванову!
Конвойные, подойдя к стулу, на котором сидел со вновь окровавленным лицом Очерет, отстегнули наручники, подняли подследственного и потащили к выходу. Дверь снова со скрипом закрылась, из-за нее послышались оживленные голоса охраны.
Вскоре привели Иванову. Третий допрос ее так же ничего не дал: несмотря на изможденный вид, девушка повторяла как заведенная, что все уже сказала, ни с кем из подполья не знакома, пришла к Очерету просто как к другу, и откуда записка в ее сумке, что означает явно зашифрованный текст этой записки, не знает. Тим напрасно грозил ей вынесенным решением о казни ее и братьев Очеретов, если истина не выяснится, убеждал ее не губить жизнь и молодость ради обреченного большевизма, призывал быть откровенной хотя бы ради спасения малолетнего брата ее приятеля, которого они так необдуманно тоже подвели к смерти в застенках. Девушка продолжала все отрицать. Тим, уже выпустивший основную ярость в конце допроса Очерета, не стал бить женщину: все равно было ясно, что от Ивановой ничего сейчас не добиться, и распорядился ее увести. Когда конвойные с ней вышли, и Тим встал, убирая в портфель составленный отчет о том, что подследственная категорически отказывается давать показания и повторяет очевидно ложную легенду, Шмидт проговорил:
– Деревянная баба!
– Что? – переспросил Тим. – А, вы про ее упорство.
– Ну да, – сказал Шмидт, поднимаясь со стула.
– Это устойчивое, но не соответствующее реальности, представление, будто женщины менее стойки, чем мужчины, – сказал Тим, застегивая портфель. – Женщины легче теряются, ломаются при внезапно изменившейся обстановке. Например, женщина идет себе за водой или на рынок, не ожидает ничего чрезвычайного, а ее вдруг хватают и требуют сходу сказать, где укрываются не отступившие красноармейцы. Тут женщины обычно быстрее мужчин поддаются, начинают путаться – и в итоге сознаются. Мужчины в таких случаях искусно врут, притворяются невинными, несчастными, ничего не знающими. А вот когда женщина знает, на что идет, уже готова, что ее арестуют, будут допрашивать – тут ее очень трудно расколоть. Если женщина держится на чем-то – она как клещ, не оторвется. В общих делах женщины рассеянны, легки, а в своем деле – упорны, дотошны.
– Да уж… – произнес Шмидт, прохаживаясь по допросной камере и разминая ноги.
– Пойдемте, Шмидт, сейчас к коменданту тюрьмы, – сказал Тим. – И дальше будем эту коммунистическую шайку по-другому допрашивать.
Они поднялись обратно в кабинет тюремного коменданта. Тот, хотя принимал у себя какого-то гауптштурмфюрера-интенданта, прервал свою беседу и попросил того подождать за дверью. Тим, присев снова возле письменного стола коменданта, разъяснил, что допросы снова ничего не дали, и придется переходить к исключительным мерам.
– Вызываем D-шников? – спросил комендант. «D-шниками» в тюрьме разговорно называли состоявшую из хипо команду D – особое подразделение охраны, использовавшееся для исключительных мер вытягивания информации из арестованных. Туда – служить за более высокое жалованье, переводили русских охранников, проявивших особую твердость и беспринципность по отношению к арестантам. Эта «команда палачей» вызывала неприязнь и у тюремных офицеров, и у других охранников, однако ее наличие позволяло немцам лишний раз не марать руки в крови подследственных и самим не заниматься тошнотворной работой.
– Вызывайте, – кивнув, сказал Тим. – Нам спускаться куда? К складу?
– Да, у нас там все эти мероприятия проводятся! – тоже кивнув, ответил комендант и снял трубку телефона внутренней связи. – Они уже оповещены, наверное, ведра уже приготовили…
– Младшего Очерета… Евгения, тоже пусть забирают, – сказал Тим. – С ним – как с остальными. Он вряд ли имеет что-нибудь сказать сам, но может быть, в его присутствии старший все-таки поддастся.
– Да, я понял! – сказал комендант. – Соедините меня с командой D, – приказал он по телефону дежурному…
Вскоре Тим и Шмидт, надев соответственно шинель и плащ, вышли через более широкий и светлый, чем большинство тюремных проходов, административный коридор на частично заасфальтированный, частично поросший травой дальний двор тюрьмы, где остановились у заблокированного бокового входа в кирпичное здание хозяйственного корпуса. Над закрытой стальной дверью возвышался бетонный козырек, спереди державшийся на двух металлических столбах-опорах. Эта часть тюремного двора по краям была завалена разным отработанным хламом: пустыми ящиками и бочками, колесами от подвод, вымотанными деревянными бобинами и прочим. Просматривалась она с единственной патрульной вышки у окружавшей тюремную территорию высокой кирпичной стены старой постройки. На вышке сейчас флегматично стоял часовой в теплой куртке, каске, из-под которой темнел прикрывавший по бокам лицо подшлемник, и с винтовкой за плечами. Несмотря на холод и дующий, как и вчера, сырой ветер, он был малоподвижен, лишь мерно поворачивался поминутно то в одну, то в другую сторону, обозревая охраняемую им зону по обе стороны стены. Возле этого заблокированного входа в хозяйственный корпус привычно производились допросы подследственных с применением крайних мер: здесь было меньше ненужных посторонних глаз, а поддерживавшие козырек над дверью металлические столбы являлись удобной опорой для фиксации допрашиваемых.
– Вашей выдержке, Шмидт, можно позавидовать! – заметил Тим, сунув руки в карманы шинели и оглядывая пустой двор, воробьев, сновавших по сваленным в беспорядке вдоль высокой стены административного корпуса напротив доскам и ящикам, видное поодаль низкое и широкое здание тюремного гаража с серой шиферной крышей. – Я-то офицер полиции, а вы переводчик и спокойно присутствуете на любых допросах.
– Я всякое видел в своей жизни, герр комиссар, – ответил Шмидт, отдуваясь и притопывая ногами от холода. – Меня уже мало что пугает.
Из-за дальнего угла административного корпуса вышла группа охранников: пять человек в черных форменных куртках и пилотках – подобных тем, что сейчас носят танкисты, что раньше носили эсэсовцы. Это и была команда D. Охранники вели человека в мятой светлой рубашке и темных брюках – Виктора Очерета, около часа назад допрашивавшегося Тимом. Руки Очерета были так же скованы за спиной.
– Вот, первого партизанчика ведут! – проговорил Тим.
Стуча сапогами по давно не заменявшемуся, потрескавшемуся асфальту, охранники команды D подошли и подвели шатавшегося, но пытавшегося держать осанку прямой, Очерета к Тиму со Шмидтом.
– Добрый день, герр комиссар! – остановившись первым и вскинув руку, поприветствовал Тима командир D, имени которого Тим не знал, но слышал, как подчиненные фамильярно называют его русским словом «Мышонок», что означало «мышка» или «маленькая мышь». Это был человек ростом немного ниже среднего, но широкоплечий и мускулистый, с округлой стриженой головой и бледным широконосым лицом, вероятно, из-за бледности, скрадывавшей лицевые складки, казавшийся моложе своих лет; крупные голубые глаза его постоянно смотрели спокойно, однако за внешней ровностью его взгляда просвечивали хищная жестокость и ненависть, похоже, ко всем встречавшимся на его пути людям. Тиму не была известна биография этого хипо: проверкой местных жителей, поступавших на службу в тюрьму, занимался Майлингер со своей командой, но Тим думал, что не будь этот Мышонок зависим от немецких жалованья и поддержки, он с радостью терзал и убивал бы и немцев. И самого Тима тоже. Мышонок мог вполне удовлетворительно объясняться по-немецки, откуда: Тим тоже не знал, однако немецкая речь этого тюремщика была очень корявой, с дичайшим произношением, которое только более-менее часто работавшие с ним офицеры могли разбирать.
Тим посмотрел на Очерета, которого удерживали под руки двое «D-шников». Комсомолец выпрямил шею и со злобной дерзостью посмотрел на Тима. Нижняя часть его заросшего темной щетиной лица все так же была в крови, уже в основном запекшейся; дувший во дворе сырой холодный ветер шевелил его тоже запятнанную красной кровью рубаху. «Вот тебе и цвет красного флага на последние минуты!» – мрачно подумал Тим, взглянув на кровь.
– Шо, фашист, вовтузытыся набрыдло? – произнес Очерет. – Хочеш покинчиты зи мною?
Не поняв, что сказал подследственный, да и не интересуясь, вероятно, каким-то обреченным издевательством, Тим спросил:
– Ти йешо хочеш мольчат? Или ти будеш говорит? Ми дават тебйе такой Chance. Говори этот минута: да или нет?
– Рви уже скорише, ворожа падаль! – зло проговорил Очерет; Тим услышал, однако, в его голосе нотки тоски и страха. Молодость противоречива: легко кидает к смертельной грани, но и не хочет обрывать только развернувшуюся жизнь.
– Да или нет? – повторил вопрос Тим.
– Нет! – воскликнул Очерет. – Я комсомолец! Советський чоловик! Я – сын Сталина! – большие карие глаза его яростно сверкали. – Убый!.. За мене е, кому помстытыся!..
– Пристегивайте его! – сказал Тим по-немецки.
– Хлопцы, давай! – сказал Мышонок, махнув рукой своим подчиненным.
Охранники, с шипением бранясь на своем языке, отстегнули наручники, сковывавшие сзади руки Очерета, и принялись срывать с комсомольца одежду. Затрещала ткань советской фабричной рубахи, по асфальту покатилась отлетевшая пуговица. Тим шагнул в сторону, давая «D-шникам» с подследственным проход к столбам козырька двери. Хипо сорвали с Очерета и бросили на асфальт рубашку и майку, брюки, короткие белые кальсоны. Раздетого догола, его подтащили к правому металлическому столбу, усадили вплотную перед тем на колени – голыми голенями на твердый холодный асфальт, и, приподняв ему руки по обе стороны столба, снова сковали наручниками. Очерет теперь оказался прикован спереди к металлическому столбу, сидя у того голышом на согнутых коленях. Тим, позвав Шмидта, шагнул к подследственному, держа руки в карманах шинели. Охранники отступили, встав позади допрашиваемого комсомольца неровным полукругом. Очерет сидел у столба, опустив голову; его полностью обнаженное тело было напряжено: вероятно, пока еще не от холода, а от ожидания ударов или еще какого-нибудь физического воздействия.
– У тебя еще есть время подумать, – сказал Тим по-немецки, глядя на всклокоченные темные волосы на макушке и затылке опущенной головы подследственного. – Час – два. Пока не загнешься от холода. Мы не дадим тебе, большевик, умереть так просто. Мы хотим знать, откуда в твоем доме было оружие, кто его принес и от кого. С кем из врагов Германии связаны ты и твоя подруга. Что означает записка, которую мы нашли в ее сумке. Переводите, Шмидт, все в точности!
Шмидт перевел скованному под холодным ветром на коленях у столба, догола раздетому подследственному слова Тима. Тогда Тим продолжил:
– Как только ты назовешь имена тех, от кого к тебе принесли оружие, тебя отведут обратно в камеру, а потом мы уже будем дальше разговаривать. Шмидт!
Шмидт перевел Очерету на украинский язык. Подследственный не ответил, молча сидел, голый, на согнутых коленях перед холодным столбом, к которому был прикован; по его телу в синяках и кровоподтеках, полученных на первом допросе в полицейском управлении, все чаще стала пробегать холодовая дрожь. Тим подумал, что коммунисты все время пытаются идти против природных законов и искусственно перестроить мир, но не могут справиться с естественными природными силами: вот, их «младшй брат» – комсомолец, дрожит без одежды на ноябрьском ветру, и не щадит его природа.
– Ведите женщину! – приказал Тим охранникам.
– Иванову тащите сюда! – сказал своим подчиненным по-русски Мышонок. Двое хипо, приведших сюда Очерета, развернулись и быстрым шагом направились в обратную сторону – за высокое кирпичное здание административного корпуса тюрьмы. Другие двое и сам Мышонок остались, отойдя чуть в сторону и о чем-то беседуя. Тим и Шмидт тоже немного отступили от согнувшегося у столба и дрожавшего голышом от холода подследственного; Шмидт стал смотреть куда-то в сторону, и лицо его сохраняло свое обычное хмуро-равнодушное выражение. Тиму тоже становилось зябко, несмотря на шинель, китель, сорочку и теплую майку под той: влажный воздух, тем более, при ветре, имел свойство легко проникать даже под несколько слоев соответствующей сезонной одежды. Однако необходимо было выжать из этих коммунистических пособников все, что возможно было выжать: чтобы как можно меньше важной для полиции информации они унесли с собой в землю.
– Сколько здесь всякого лома, а Шмидт? – проговорил Тим, глядя на лежавший вдоль кирпичной стены преимущественно деревянный хлам. – Неужели наши хозяйственники не могут придумать, как пустить это все в дело?
– Что? – переспросил Шмидт. – Вы про мусор?
– Да, – сказал Тим. – Хотя бы порубили это все на дрова! Дешевле обошлась бы топка печей, и не пришлось бы часто отвлекать подводы с лошадьми и возниц, доставлять дрова с дальних баз. В этом краю ведь почти нет лесов!
– Не рачительные здесь хозяева! – проговорил Шмидт, поднимая от ветра воротник плаща. – Вообще, ящики обычно делают из хвойных пород, насколько я знаю. А хвойные дрова быстро сгорают. Лучше всего – дубовые.
– Все равно хоть частично этот лом может заменить привозные дрова, – сказал Тим.
– Вы в городе жили, герр комиссар? – спросил Шмидт.
– Родился в деревне, потом мы переехали в Штутгарт, – ответил Тим. – Большой город! Главный город моей земли.
– Вашей земли? – переспросил Шмидт.
– Вюртемберг – моя земля, – ответил Тим. – На юге Германии.
– Ну, и где лучше, по-вашему? – улыбнувшись, спросил Шмидт. – У вас на родине, или здесь?
– Немцу везде своя земля, если он трудолюбив! – также улыбнувшись, сказал Тим. – Здесь скучноватая природа: везде однообразная травяная равнина, очень мало леса. Но почва здесь плодородная, говорят. Река большая – крупные суда по ней ходят. Днепр на Украине больше, конечно.
– Да, Днепр больше! – согласно кивнул Шмидт.
– Вообще-то, я бы съездил на родину! – сказал Тим, в задумчивости посмотрев на дверь в кирпичной стене административного корпуса, через которую они со Шмидтом вышли сюда. – Честно признаюсь вам: я за последние месяцы сильно устал… с командировки на Кавказ. Не могу даже как следует выспаться из-за скверных снов. Может быть… ну, с этой парочкой мы сегодня же или завтра разберемся, потому что чувствую: ничего они нам не скажут, а вот с теми, у кого мы коммунистические газеты нашли, закончить бы дело – и ехать в отпуск. Как вы думаете, Шмидт?
Шмидт пожал плечами.
– Вам виднее, – сказал он. – Вы несете службу.
– Вы тоже несете службу, – сказал Тим.
– Я – только вспомогательную, а вы – основную.
– Да! – Тим вздохнул. – Некогда стало отдыхать, Шмидт, совсем некогда! Каждый день какие-то нападения, диверсии…
Из-за дальнего угла административного корпуса показались возвращавшиеся два охранника, которые вели Марину Иванову со скованными за спиной руками.
– Вот, и девушку ведут! – сказал Тим.
Иванову подвели к Тиму. Девушка – невысокого роста, немного коренастая, зябко поджимала плечи под продувавшим сквозь ее серую кофту ветром, и снова с отчаянным упорством смотрела на комиссара. Холодный ветер, шумевший в ушах, трепал ее длинные и распущенные каштановые волосы.
– Ви йешо будете мольчат? – спросил Тим Иванову. – Или ви будете говорит? Ми дават длйа вас йешо Chance. Йесли ви опйат мольчат – ви будете испитиват очен плёхи́йе страданиэ. Ви говорит нам или нет?
– Я вам все уже сказала! – устало произнесла девушка.
– Пристегивайте ее! – сказал Тим охранникам по немецки.
– Ребята, к столбу! – приказал Мышонок.
– Туда же, – сказал Тим, показав рукой на столб, к которому был прикован Очерет. – Всех рядом.
– Яволь! – произнес Мышонок.
«D-шники» отстегнули наручники за спиной Ивановой и принялись срывать с девушки одежду. Подследственная, вероятно, уже чувствовала себя обреченной, поэтому практически не сопротивлялась, лишь инстинктивно прикрыла руками обнажившуюся грудь. Ветер все колыхал ее густые свободные волосы, и без одежды она напоминала некую мифическую героиню с полотна художника эпохи Ренессанса, готовую сейчас, презрев все, устремиться к своей цели. Тим подумал, что к своей цели эта юная пособница коммунистов сейчас и пришла: скоро умрет за свою любимую партию и ее вождя, и коммунисты то недолгое время, сколько осталось им существовать, наверное, будут почитать ее как героиню. Хипо потащили Иванову к столбу, у которого уже скорчился от холода прикованный Очерет.
– Небось прохладно? – усмехнувшись, спросил ее шедший рядом, наблюдая за действиями своих подчиненных, Мышонок. – Горячая комсомольская кровь не греет?
– Жаль… – выдохнула Иванова, когда охранники силой усаживали ее коленями на асфальт лицом к столбу напротив Очерета.
– Что ты говоришь? – спросил Мышонок, встав над ней и сунув руки в карманы черной куртки.
– Жаль, что такие продажные мерзавцы, как ты, после победы будут больше всех кричать: «Слава Партии!»… «Слава Родине!..»… «Смерть фашизму!»… – пока девушка выговаривала свои слова, охранники наручниками сковывали ей руки впереди столба над руками Очерета. – И не за что будет таких поставить к стенке!.. А надо!.. Ой, как надо!..
– Еще надеешься на победу красных, милочка? – снова усмехнулся Мышонок. – Ну, надейся! С надеждой краше умирать! – и отошел. За ним отошли и приковавшие Иванову к столбу охранники, уступая пространство приблизившимся Тиму со Шмидтом.
– У вас еще есть время подумать, – сказал Тим, глядя на девушку, прикованную к столбу напротив своего сообщника, так же голой и сидящей на подогнутых ногах. Длинные волосы трепались на ветру, скользя по ее рукам, лицу, плечам. – Пока вы не замерзнете тут насмерть, вы можете начать давать правдивые показания. Мы хотим знать, зачем вы пришли на самом деле в квартиру этого человека, который умирает напротив вас. Откуда в вашей сумке была записка находящейся в розыске преступницы, и что она означает. Переводите, Шмидт!
Шмидт перевел Ивановой его слова.
– Я вам все сказала!.. – выговорила прикованная девушка дрожащим то ли от смертного волнения, то ли уже от холода голосом.
– Как только вы назовете имена людей, пославших вас к Очерету и давших вам записку, вас отведут обратно в камеру, – сказал Тим. – И тогда мы с вами будем разговаривать дальше.
Шмидт перевел.
– Я все… сказала… – проговорила Иванова.
Тим шагнул от нее в сторону и приказал хипо:
– Ведите мальчишку!
– Мальчонку тащите! – сказал Мышонок двоим подручным. Те снова зашагали через площадку двора в сторону арестантского корпуса.
Иванова и Очерет сидели, обнаженные, на подогнутых ногах друг против друга, прикованные наручниками к одному металлическому столбу, дрожа под холодным ветром. Одежда их валялась, покачиваясь на ветру, на асфальте. Скованные на запястьях руки их невольно соприкасались. Когда Тим со Шмидтом и хипо отступили несколько в стороны, они вдруг взяли друг друга за кисти рук и тихо обменялись какими-то словами. Что они говорили? Передавали какие-то секреты? Просто поддерживали друг друга в час такой, возможно, кончины? Тим заметил мелькнувшую на секунду улыбку на обращенном к столбу и частично прикрытом растрепанными ветром волосами лице девушки. Но это была не улыбка радости или удовлетворения: она скорее выражала печально-мрачную иронию. Тим предположил, что перед ожидаемой смертью молодые люди подшучивали над собственным весьма неловким и нелепым видом в данный момент, который, будь это сцена из комического кино, вызвал бы у зрителей смех. Однако здесь было не кино, и смеяться было не над чем: были мерзкие военно-полицейские будни, когда Тиму уже в бессчетный раз приходилось глушить в себе чувство не сострадания, конечно, к коммунистическим пособникам, а скорее крайне неприятной отдачи чужих страданий в собственной психике. Тим подумал, являются ли люди с чистым арийским генотипом столь совершенными, чтобы без всяких неприятных чувств уничтожать и подвергать необходимым физическим воздействиям врагов расы и Нации? Наступит ли время, когда в результате расово здоровых браков из поколения в поколение слепота инстинктов полностью отпустит арийцев, и все чувства их будут проявляться только вовремя и к месту?
Тиму пришлось достать из кармана шинели носовой платок: от долгого стояния на холодном ветру начал течь нос. Сломит ли все-таки холод этих комсомольцев? Или они в самом деле умрут здесь либо закоченеют до такого состояния, что не смогут ничего говорить? Как быстро холод сделает свое дело? У Тима было много работы в полицейском управлении. А ждать придется до конца: если он составит отчет о невозможности добиться показаний от этих подследственных в короткие сроки, в то время как они, может быть, и способны все же в конце поддаться, это, во-первых, будет недобросовестно, во-вторых, плохо скажется на репутации ростовской ГФП.
Из-за угла административного корпуса показались возвращавшиеся хипо, которые вели младшего Очерета тоже со скованными за спиной руками. Мальчик шел, широко вышагивая, подстраиваясь под темп ходьбы своих конвоиров, иногда поглядывая то в одну, то в другую сторону. Когда же они приблизились, он увидел прикованных к столбу козырька обнаженных людей и недоуменно уставился на них такими же большими, как у его брата, карими глазами. Старший Очерет сидел у столба к нему частично боком, частично спиной, опустив голову, поэтому он, должно быть, сразу не узнал брата. Волосы младшего, тоже темные, были коротко острижены, поэтому на ветру не трепались, но уши наливались от холода бледной краснотой.
– Пристегивайте! Туда же! – распорядился Тим, указав на столб, к которому были прикованы старший Очерет и Иванова.
– Давайте, ребята! – сказал Мышонок подчиненным. Хипо-конвоиры отстегнули наручники на руках младшего Очерета, другие двое принялись срывать с мальчика темно-коричневую сорочку, брюки, затем нижнее белье, обнажив худенькое, еще детское тело. Мальчик воскликнул: «Зачем?!», но не решился сопротивляться, так как после первого допроса и нескольких дней жесткого тюремного режима, несомненно, боялся вызвать раздражение полицейских. Побросав одежду подследственного снова на асфальт, «D-шники» подтащили догола раздетого ребенка к тому же столбу, у которого корчились и тряслись от холода тоже полностью обнаженные его старший брат и подельница того, усадили коленями на асфальт сбоку и так же пристегнули руки по обе стороны столба наручниками, после чего отошли.
– Витя!.. – воскликнул мальчик, повернув голову и увидев прикованного возле себя старшего брата.
– Тихо, братику!.. – прерывисто выдохнул, все больше мучительно скорчиваясь от холода голым телом, старший Очерет. – Тихо: нимци тут!..
Мальчик замолчал, с растерянностью и ужасом глядя на брата и даже не обращая внимания на дрожавшую тут же прикованной и обнаженной Иванову. После смерти родителей старший брат заменял ему отца, скорее всего, казался самым сильным на земле, и теперь ему, без сомнения, жутко было видеть Виктора прикованным на коленях, совсем без одежды, наручниками к столбу, мучающегося от жестокого холода, с лицом, залитым кровью. А рядом стояли и равнодушно болтали между собой надменные охранники в черных куртках и пилотках, против которых старший брат ничего не мог поделать, не мог защитить и себя самого.
– Брáухэн зи вáсэ? – спросил Тима Мышонок.
– Да, воду несите! – сказал Тим, кивнув.
Затем он, поманив Шмидта, снова подошел к прикованным голыми на коленях у столба троим подследственным.
– Если хоть вы, Иванова, – заговорил он. – хоть ты, Очерет, ответите на вопросы, которые мы уже несколько дней вам задаем, я прикажу отвести мальчика в камеру… Ну, соответственно, и того, кто из вас заговорит – тоже. А кто будет молчать – тот здесь замерзнет насмерть. Переводите, Шмидт!
Шмидт перевел его слова на русский.
– Хотя бы кто-нибудь из вас пусть пожалеет ребенка! – сказал Тим. – Иначе он умрет вместе с вами! Если вы будете молчать, мы не оставим его в живых, потому что он уже большой, и его не перевоспитать. Он будет мстить за вас нашему народу.
Шмидт перевел. Подследственные не ответили. Старший Очерет и Иванова тряслись побелевшими телами от холода, прерывисто и шумно выдыхая воздух; младший Очерет, еще не успевший сильно замерзнуть, мелко дрожал, может быть, не только от холода, но и от страха, поджимая тонкие голые плечи, и смотрел с ужасом то на брата, то в холодный металл столба.
– Очерет, ты довел брата до тюрьмы, – сказал Тим. – Твои родители, будь они живы, радовались бы этому? Хотя бы сейчас спаси его.
Шмидт перевел на украинский.
– Он… – выговорил старший Очерет, стуча зубами и опустив лицо чуть не к асфальту. – он… уже… урятованый… Не житы ёму пид вами… Душогубы… Рабовласники…
– Говорит, что его брат не будет жить под властью немцев – и это хорошо, – пояснил Тиму Шмидт.
– Ну, ладно! – сказал Тим и вновь отошел в сторону.
Трое хипо, поджимая от напряжения губы, притащили по два металлических ведра с холодной водой, которые поставили возле прикованных к столбу подследственных. Освободившись от ноши, один из охранников принялся потирать пальцы рук, проговорив:
– Тяжелые, заразы! Чуть руки не перетерло!
– Перчатки надо было надевать, – сказал ему Мышонок и шумно высморкался в асфальт. Его бледное лицо на холоде стало розово-белым.
– Ну, что встали! – крикнул Тим, раздраженный нерасторопностью «D-шников». – Лейте!
– Не спать! – крикнул по-русски Мышонок. – Лейте! По ведру на каждого!
– Есть! – произнес один из охранников и, нагнувшись, поднял ближайшее к нему ведро обеими руками. Затем, шагнув к замерзавшему голым у столба старшему Очерету, шумно вылил холодную воду тому на голову и спину. Очерет содрогнулся как удара током, завалился набок, насколько позволяли скованные у столба руки, и судорожно задвигал левой ногой. Другой охранник, схватив другое ведро, подошел сзади к младшему Очерету и вылил воду на голову и спину мальчика. Раздался мучительный крик того. Третий «D-шник», обойдя с натужно поднятым ведром братьев Очеретов, так же облил холодной водой Иванову. Девушка коротко вскрикнула. Хипо ставили с металлическим грохотом опустевшие ведра на асфальт.
– Идите наполняйте! – крикнул им Мышонок. – Да что с вами! Первый день работаете?
Прихватив по пустому ведру, трое охранников снова удалились за водой. На асфальте остались стоять еще три наполненных водой ведра и лежала вразброс колыхаемая ветром одежда подследственных. Сами подследственные корчились и дрожали, согнувшись у столба, вода, ускорявшая на холодном ветру теплопотерю, блестела на их телах. Кто-то: то ли мальчик, то ли девушка, звучно и судорожно дышал, будто прерывисто скулил.
– Через десять минут – еще по ведру! – сказал Тим Мышонку, указывая рукой на оставшиеся ведра и на подследственных.
– Яволь! – ответил Мышонок, кивнув, и заложил руки за спину.
Через некоторое время ушедшие трое охранников возвратились, притащив еще по два ведра с водой. Лязгая металлом ведерных днищ, они поставили принесенные ведра рядом с тремя другими. Затем отошли к Мышонку и, негромко переговариваясь о каких-то своих делах, задымили папиросами.
– Я замерзаю… – послышался неровный тонкий голос мальчика.
– Потерпы… скоро все скинчиться… – прерывисто и хрипло выдохнул старший Очерет. – Мало уже лышилося, братику!..
– Я руки перестаю видчуваты… – произнес младший Очерет.
– И добре… – ответил старший брат. – Не видчуваеш – отже, не болять оны… Я тут, не бийся…
Взглянув на наручные часы, Мышонок сказал подчиненным:
– Давайте еще по ведру им!
Трое хипо, подойдя к ведрам, подняли по одному, подступили к скованным и обнаженным подследственным и принялись снова лить на тех холодную воду. Под шумный плеск льющейся воды послышались громкие стоны мальчика и девушки.
– Через десять минут – следующие! – сказал Тим, посмотрев на Мышонка.
– Яволь! – ответил тот, кивнув.
Выждав пару минут, Тим, ступая по мокрому от воды, разлившейся вокруг столба с подследственными, асфальту, подошел к старшему Очерету. Тот, совсем побелевший от холода, практически лежал на асфальте лицом вниз, вытянувши скованные у столба руки и согнув ноги. Вода блестела на его теле, капала с мокрых волос. Тело его, бледное, будто обескровленное, коротко вздрагивало. Тим ткнул его носком сапога под мышку. Очерет не отреагировал и не пошевелился. Тим поманил рукой Мышонка. Тот подошел, звучно стукнув сапогами по мокрому асфальту.
– Ти и дале мольчат? – обратился Тим к Очерету по-русски. – Ти так будеш мольчат на всйо времйа!
Очерет не отвечал, только шумно выдыхал воздух – не то со стоном, не то с хрипом.
– Ти мольчат… – произнес Тим и посмотрел на Мышонка.
– Поработайте вашим ножом! – сказал он по-немецки.
– Яволь! – произнес Мышонок и, шагнув к Очерету, достал из ножен на поясе кинжал. – Что делать?
– Вам лучше знать, – сказал Тим, отступив на шаг назад. – Делайте так, чтобы кровью здесь не истек. И чтобы мог говорить. Остальное – неважно.
– Можно ему ухо отпилить? – спросил Мышонок по-русски, посмотрев на Шмидта. Переводчик ответил ему:
– Вы знаете свою работу – вот и выполняйте! Как всегда.
– Понял! – кивнув, сказал Мышонок, нагнулся с кинжалом над Очеретом, придавил того в голую спину коленом, схватил за волосы, прижал головой к столбу и к асфальту и, плотно стиснув зубы, с остервенелым выражением лица принялся отрезать комсомольцу ухо. Очерет издал не то слабый вскрик, не то громкий стон и зашевелился обнаженным телом на асфальте, но сильно не дергался, так как уже глубоко закоченел. Возможно, он уже и боль чувствовал не слишком сильно. Мышонок убрал ногу с его спины и выпрямился, отдуваясь, держа в руке кинжал, на лезвии которого краснела кровь. Кровь, вытекая из оставшегося обрезка уха, растекалась и по правой стороне головы Очерета. Тим невольно передернул лопатками и раздраженно проговорил, обращаясь к Мышонку:
– Вы что встали? Видите, на него это плохо действует!
– Энчульдигун! – сказал Мышонок и, шагнув вдоль лежавшего на асфальте голого тела подследственного, снова наклонился возле столба, схватил Очерета за большой палец одной из скованных наручниками рук, оттянул тот и принялся, издавая напряженное ворчание, отрезать. Очерет застонал и задергался, но не настолько сильно, чтобы мог оттолкнуть Мышонка, затем вскрикнул. Мышонок возился, злобно бранясь по-русски и пачкая в крови собственные пальцы. Тут задергался младший Очерет, который, хотя тоже уже сильно закоченел на холоде, увидел, что делает с его братом Мышонок, поскольку тот отрезал старшему брату палец буквально у него, прикованного к тому же столбу, перед глазами. Мальчик, издавая отчаянные стоны, принялся подкидывать свои скованные вокруг столба руки, пытаясь толкнуть ими нависавшие сверху руки Мышонка, и даже смог привстать.
– Пусты ёго, суко!.. – выдохнул он. Мышонок, разразившись громкой руганью, выронил окровавленный кинжал, который зазвенел по мокрому асфальту. Обернувшись, хипо наотмашь ударил младшего Очерета кулаком в голову; мальчик рухнул перед столбом, к которому был прикован, и, дрогнув голыми ногами, затих. Подобрав кинжал, Мышонок продолжил возиться с окровавленным пальцем старшего подследственного, а отрезав, со злостью отбросил в сторону. Переводчик Шмидт в это время стоял с непроницаемым лицом и смотрел куда-то в глубь двора. Тим снова шагнул к лежавшему у столба старшему Очерету и яростно пнул его сапогом в голый бок, после чего, наклонившись, крикнул над его мокрой головой:
– Говори!
Очерет тяжело пошевелил окровавленной головой без уха и будто выдавил из себя слова через оскаленные в мучительной гримасе зубы:
– Здохнеш ты за мною… гад…
Выпрямившись и снова отступив, Тим посмотрел на стоявшего рядом с окровавленным кинжалом Мышонка и сказал:
– Повторите с женщиной!
– Вас?.. Гер?.. – переспросил тот.
– Господин комиссар говорит вам, чтобы вы то же самой проделали с женщиной! – сказал Мышонку по-русски, развернувшись с руками в карманах плаща, Шмидт.
– Яволь! – с готовностью ответил Мышонок, лицо которого от напряжения и возбуждения стало из бледно-розового почти пунцовым. Перешагнув через лежавшего на асфальте, трясясь голым телом от холода, младшего Очерета, он остановился за спиной Ивановой, нагнувшись, схватил девушку за густые каштановые волосы, прижал ее голову к асфальту и принялся отрезать кинжалом ухо. Девушка протяжно закричала: не очень громко, но страдальчески.
– Не нравится, да, большевистская дрянь!.. – бормотал Мышонок, орудуя кинжалом. – Лапулечка красная… К стенке, говоришь!.. Вот тебе и стенка…
Отрезав подследственной ухо, он, выпрямившись, перевел дыхание, после чего снова нагнулся и принялся отрезать ей большой палец на правой руке. Иванова на этот раз не издала какого-либо звука и не дергалась: должено быть, потеряла сознание. Мышонок выпрямился, опустил руку с кинжалом, с лезвия которого капала кровь, и, посмотрев на Тима, сказал на ломаном немецком:
– Уха нет, пальца нет… Что еще убрать?..
– Ничего пока, – ответил Тим. – Лейте воду на них.
– Хлопцы! – крикнул Мышонок подчиненным охранникам. – Воду!
Трое хипо подошли к ведрам с водой, взяли по одному и снова принялись выливать на обнаженных и закоченевших от холода подследственных. Иванова, придя от окатившей ее ледяной воды в чувство, застонала. Тим подступил к ней и, глядя сверху вниз на ее мокрую голову с окровавленными каштановыми волосами, сказал:
– Говори! От ково писмо сумка? Зачем ходиль дом у Очерет?
Девушка только тяжело дышала и стонала, лежа на асфальте перед столбом, к которому была прикована за руки, и безумным взглядом смотрела куда-то вбок. Тим со злостью ударил ее сапогом в голую грудь один раз и другой. Девушка при каждом ударе издала охающий стон, но ничего не произнесла. Оставив ее, Тим подошел к лежавшему рядом, слабо вздрагивая голым телом, старшему Очерету, ударил того носком сапога по окровавленному лицу. Очерет приоткрыл глаза, в которых уже не читалось никакого выражения, и взглянул на Тима.
– Шмидт! – подозвал Тим переводчика. Тот молча подошел. – Спросите его, мне что, теперь приказать его брату отрезать ухо и палец?
Шмидт перевел на украинский. Очерет, похоже, уже забывался от холода и шока, поэтому ответил не сразу, а сначала пробормотал что-то несуразное. Затем все же слабым бесцветным голосом выговорил:
– Прокляття на вас… убывци… Хай живе Батькивщина… Хай живе Партия… Червоний Армийи слава…
– Большевистский ублюдок!.. – выругался Тим и с силой ударил Очерета сапогом по губам; кровь хлынула из разбитого рта комсомольца на уже окровавленный асфальт. Вместе со словами выплевывая ее, Очерет промычал:
– Слава ридному Сталину… Радянська влада непереможна…
Тим, развернувшись, отошел от столба с подследственными. За ним отошел и Шмидт.
– Гер! – послышался вслед голос Мышонка.
– Что? – спросил Тим, обернувшись.
– Что делать? – спросил командир «D-шников», стоя с окровавленным кинжалом уже возле лежавшего, завалившись обнаженным телом набок и поджав ноги, младшего Очерета.
– Пока ничего, – ответил Тим. – Через десять минут обольете их водой опять, – как всякий военный полицейский, он мог выключать восприятие чужих страданий и причинять их, кому было нужно, в любой степени, которая требовалась для достижения служебной цели, для победы. Но свой порог жестокости у него тоже был, и он не собирался увечить еще и ребенка, когда полезный результат от этого выглядел, судя по всему, маловероятным.
– Яволь! – ответил Мышонок и, перейдя снова к своим стоявшим чуть в стороне, наблюдая за происходящим, подчиненным, сказал троим из них, тыча в каждого пальцем левой руки:
– Ты, ты и ты – шнэле за водой!
Подхватив громыхавшие пустые ведра, трое хипо направились через двор за водой. Мышонок, присев на корточки возле сброшенной на асфальт одежды подследственных, приподнял то ли кофту, то ли рубаху и принялся ею вытирать от крови лезвие своего кинжала.
– Пойдемте погреемся, Шмидт! – сказал Тим. – Я на этом ветру продрог почти как эти коммунистические недоросли!
– Пойдемте! – согласился Шмидт.
Перейдя двор, они вошли в относительно прогретое здание административного корпуса и поднялись в по-настоящему теплый кабинет коменданта тюрьмы. У коменданта сидел один из его заместителей, но как оказалось, деловой разговор уже был окончен. Тим и Шмидт, присев прямо в верхней одежде на стулья у стены, присоединились к компании. Желая хотя бы на несколько минут полностью отвлечься от служебных дел, офицеры погрузились в обсуждение особенностей предпринимательства и условий для того в разных городах и землях Отечества. Вскоре Тим согрелся и расстегнул шинель. Переводчик последовал его примеру, расстегнув свой плащ.
– А мой дядя в Киле обанкротился, – проговорил, продолжая тему обсуждения, коснувшуюся Кильского институа мировой экономики, заместитель коменданта. На его руке поблескивал тонкий позолоченный браслет часов. – Из-за нещадных процентов. А инфляция тогда известно какая была: чтобы эти проценты заплатить, ему надо было вагон ассигнаций прикатить к банку.
– Чем он занимался? – спросил Тим.
– Держал веревочную фабрику, – ответил заместитель коменданта тюрьмы. – Это же город флота: там на веревки большой спрос… но вот… дяде не повезло.
– Вот вам и экономический университет, – проговорил задумчиво комендант, постукивая карандашом по своему столу.
– Институт, – поправил его заместитель.
– Институт, – повторил комендант.
– Ваш дядя жив? – спросил Тим заместителя коменданта.
– Да, – кивнул тот. – Живет на пенсии. Там же, в Киле. Пьет по утрам молоко с медом.
– Зачем? – поинтересовался Тим.
– Считает, что молоко и мед на завтрак – лучшее средство для поддержания здоровья, – улыбнулся заместитель коменданта.
– Вполне обоснованное мнение! – заметил комендант.
– Мне приходилось в детстве доить корову, – сказал Тим, усмехнувшись. – Трудное занятие, я фермерам не завидую!
– Ваши родители владели фермой? – спросил комендант.
– Нет, – Тим покачал головой. – Но некоторое время пришлось жить на ферме одного… знакомого, – Тим не смог придумать другого нейтрального слова, чтобы обозначить Фольхарта, которого и покойного было мерзко вспоминать.
– Ферма – это отлично! – произнес комендант, откинувшись на спинку своего кресла и заложив за голову руки. – Свежий воздух, зелень, птички по утрам!
– Да, такое есть! – согласился Тим.
На столе коменданта тюрьмы зазвонил телефон внутренней связи. Комендант снял трубку и поднес к уху.
– Слушаю! – сказал он. – Да, пусть войдет! – и положил трубку.
Дверь кабинета отворилась, вошел офицер в погонах унтерштурмфюрера с какими-то бумагами.
– Хайль Гитлер! – поприветствовал он присутствующих, вскинув руку.
– Хайль Гитлер! – ответили на его приветствие все. Унтерштурмфюрер подошел к сидевшему за столом коменданту и принялся говорить что-то о коридорах, лестницах и решетках, вероятно, тюремных, по одной кладя перед шефом бумаги на стол.
– Да, понимаю, – произнес комендант, просмотрев сначала одну бумагу, потом другую. – Это тоже ясно… А что же, Бовеншульте не может найти людей, чтобы там еще один пост разместить?
– Он говорит, это возможно только если сократить внешние караулы, – ответил унтерштурмфюрер. – Он боится рисковать в такой обстановке, как сейчас. Партизаны все более дерзкие каждый день.
– Он всерьез думает, что партизаны отважатся напасть прямо на тюрьму?
– Не знаю, герр гауптштурмфюрер, спросите его сами. Но он опытный человек, говорит, что крупные нападения могут начаться со дня на день.
Комендант тяжело вздохнул.
– Вот, товарищ соплеменник из ГФП, что происходит! – произнес он, взглянув на Тима, затем макнул ручку в чернильницу и что-то стал подписывать в бумагах, которые ему принес унтерштурмфюрер. – Партизаны, по мнению нашего опытного товарища, могут угрожать тюрьме!
– Мы делаем все, что в наших силах, – холодно ответил Тим. – Ваш опытный товарищ, я думаю, преувеличивает: для нападения на тюрьму в любом случае нужна очень большая боевая группа, которая не сможет затеряться в городе. А вокруг города – открытая равнина на десятки километров, им просто некуда будет отступать. Даже если вы снаружи оставите тюрьму вовсе без охраны, тех людей, которые находятся на постах внутри корпусов, наверняка будет вполне достаточно, чтобы партизаны не решились сюда сунуться. Разумеется, если не сносить стену вокруг тюрьмы: чтобы убегать отсюда было затруднительно, – он усмехнулся.
– Ладно, это пусть так, – сказал комендант унтерштурмфюреру, возвращая бумаги. – А о площадке в третьем корпусе я подумаю, как сделать.
Взяв у начальника документы и на прощание вскинув руку, унтерштурмфюрер вышел из кабинета. Почти сразу снова зазвонил телефон внутренней связи.
– Слушаю! – сказал комендант, подняв трубку. – Да, сейчас он выйдет! – и, повесив трубку, обратился к Тиму:
– Сюда пришел командир отряда D. Он там – за дверью, дожидается вас.
– Благодарю! – сказал Тим, поднимаясь со стула. – Пойдемте, Шмидт, что-то важное произошло, – и направился к выходу. Шмидт, тоже встав и одернув на себе плащ, направился следом.
Тим думал, что же там: кто-то из подследственных дал показания, или наоборот, отключился от холода и ран, и уже ничего не может сказать, или вовсе умер? За дверью в приемной возле стола, за которым сидел адъютант, стоял Мышонок, глядя на вышедшего из комендантского кабинета Тима спокойно, но с некоторым подобострастием.
– Что случилось? – спросил Тим, подходя к нему.
– Эти люди, – стал объяснять Мышонок на своем неказистом немецком, жестикулируя руками. – Не имеют чувство…
– Они потеряли сознание? Шмидт, спросите его.
Шмидт перевел.
– Да, – кивнул Мышонок. – И мы не можем… ничего…
– Тогда уберите их в их камеры! – сказал Тим. – Пусть хоть погреются… перед концом.
– Яволь! – сказал Мышонок и направился к выходу.
– Пойдемте, Шмидт! – сказал Тим и мимо переводчика зашагал обратно в кабинет коменданта.
– Что произошло? – спросил комендант, когда они с Тимом вернулись.
– Не говорят эти недокоммунисты ничего! – с раздражением произнес Тим и, сняв шинель, повесил ее на крючок вешалки. – Будем писать, что ничего мы не добились, – подойдя к стоявшему на стуле своему портфелю, он расстегнул тот и извлек чистый лист бумаги. – Извольте ручку с чернилами!
– Пожалуйста, – сказал комендант, придвигая к краю стола чернильницу. – Присаживайтесь…
Когда Тим, изрядно продрогший и в неважном настроении возвратился в свой с командой кабинет в полицейском управлении, то застал там только Эмана и Кёста.
– А где Шрайбер? – спросил он, помещая на вешалку шинель.
– Я его отправил на выезд, – ответил Эман, перебирая за своим столом какие-то бумаги. – Один жмурик у нас, думаю, он сам справится.
– Что случилось? – спросил Тим, подходя к столу Эмана.
– Убили нашего казака, – сказал Эман. – возле театральной площади.
– Ну вот, – раздосадованно произнес Тим. – завтра в театр явятся генералы, а там нападение! Снова невезение! Что за казак?
– Не помню фамилии… – сказал Эман. – с этими русскими фамилиями язык можно сломать… Офицер. Он там живет… жил в доме рядом… как раз во дворе дома его и застрелили… из карабина…
– Там живет?! – воскликнул Тим. – Мы же летом в его квартире размещали штаб и наблюдательный пункт, когда ловили Муромцова!
– Меня же тогда здесь не было, герр комиссар! – ответил, рассмеявшись, Эман. – Шрайбер вернется – почитаем, что он расследовал.
– Дом, который с южной стороны площади, так? – спросил Тим. – Там убили казака?
– Не знаю, герр комиссар, – сказал Эман. – Позвонил помощник директора, сообщил, что убит из карабина наш казак, офицер, во дворе своего дома возле театральной площади. Сказал, отправить туда кого-нибудь, я и отправил Шрайбера.
– Да больше там, по-моему, никаких казачьих офицеров и не было, – произнес Тим. Вот, значит, как дело вышло! Партизаны убили казачьего начальника, знакомого Тиму: того самого, который предоставил свою квартиру для наблюдения за площадью во время операции по ликвидации бандита Ваньки-Муромца. У него такая гостеприимная супруга! Эта новость после неудачного допроса коммунистических пособников в тюрьме никак не могла добавить бодрости духа: Тим невольно чувствовал долю своей вины за то, что не уберегли союзника. Ведь на ГФП лежал главный долг по обеспечению безопасности помощников из местных жителей от рук коммунистического подполья.
– И вот, еще вам принесли, герр комиссар! – сказал Эман, подвинув Тиму две бумаги с напечатанным на них текстом, которые перебирал в руках.
– Что это? – спросил Тим, взяв один лист и начав читать. Это был ответ из комендатуры города на запрос о личных данных Аксенова – командира взвода казаков из охраны шталага, откуда был совершен массовый побег военнопленных. Того самого, о котором, по словам агента Брехта, ходили разговоры, что это из-за халатности его взвода пленные смогли сделать подкоп под ограждением лагеря. Из пришедшего документа значилось, что Аксенов – простой казак, родом из деревни относительно недалеко от Ростова, с началом войны уклонился от советской мобилизации, поскольку не хотел проливать свою кровь за власть коммунистов, вступил в казачье подразделение немецкой армии через месяц после того как Ростов перешел в немецкие руки. Сразу же был назначен на охранительную службу в шталаг – не тот, в котором служил сейчас, а в другой – ближе к Белой Калитве, в октябре получил звание урядника, то есть, аналогичное немецкому унтер-офицеру, и назначен командовать взводом уже в тот лагерь, где случилось злополучное происшествие. Ничего незаурядного в официальной биографии урядника Аксенова не значилось. Он не был женат, из родственников в ответе числилась только мать, проживавшая в его родной деревне. Тим решил после обеда посетить политический отдел вспомогательной полиции и указать, чтобы был организован негласный сбор информации об этом человеке по месту его рождения.
– Понятно, – сказал Тим, положив лист с текстом обратно на стол Эмана, и взяв следующий. Это как раз оказался оперативный отчет тайной вспомогательной полиции. Оказалось, сыщикам-хипо удалось установить, что в деревне Александровской возле самого города живет вдова дядьки руководителя «газетчиков» Андрея Болкунова по матери Александра Петрова. Это и была та самая родственница, о которой сообщил на допросе арестованный Сотников. В донесении говорилось, что, по словам соседей Петровой, в доме у нее недавно появился ребенок двух лет, которого она называет своим внучатым племянником. Тим понял, что это, вероятно, сын Болкунова и его жены Анны, которая тоже куда-то исчезла и, скорее всего, вместе с мужем занимается антинемецкой деятельностью. Также в отчете уведомлялось, что политический отдел хипо установил скрытное наблюдение за Александрой Петровой и ее домом. Вот это уже были хорошие новости!
– Ладно! – сказал Тим, забирая обе бумаги. – Я сейчас к директору, – он подошел к своему столу и, расстегнув портфель, стал убирать бумаги туда…
Директор принял рапорт Тима о допросе братьев Очеретов и Ивановой спокойно. Внимательно прочитав его за своим столом, хотя читать там особенно было нечего, он сказал:
– Что ж, Шёнфельд, не теряйте присутствия духа, поскольку я знаю вас как ответственного служащего и верю, что вы приложили все усилия, а наши мероприятия так или иначе даром все равно не прошли. Наши русские товарищи выявили склад партизанского оружия, его хранитель со своей пособницей в тюрьме. Можно не сомневаться, что остальная группа, которой принадлежало это оружие, не скоро соберет новый арсенал и не скоро найдет нового человека, которому можно будет доверить его хранение. А значит, один из партизанских блоков надолго выведен из строя…
Со двора полицейского управления доносились хлопанье автомобильных дверец, топот сапогов, переговоры, резкие окрики, а в окне видно было, что группа русских вспомогательных полицейских выводит группу подростков и молодых женщин от автомобиля с крытым фургоном к зданию. Тиму ясно было, что это вернулась облава, разыскивавшая местных людей, уклоняющихся от выезда на запад в порядке трудовой мобилизации, и привезла задержанных, безосновательно находившихся на улицах в рабочее время. Теперь тех должны были проверить, чтобы установить, нет ли среди них уклонистов, и в случае обнаружения препроводить таковых на сборный пункт под конвоем, а на тех, кто должен был быть на работе в городе, но праздно ходил по улице, наложить взыскание.
– …Да, это досадно, – продолжал директор. – что в наших руках находятся люди, которые могли бы вывести нас если не на саму партизанскую верхушку, то по меньшей мере на тех, кто ступенью ниже ее, и мы ничем не можем вытянуть из них информацию. Но ведь всякий добропорядочный немец тоже ни под каким воздействием не предаст Отечество, Нацию, Фюрера, своих боевых товарищей. А славяне, Шёнфельд… это же, так скажем, «порченые», но арийцы. Поэтому они тоже упорны в своем деле.
– Упорство на войне – благородная черта, – сказал Тим, вздохнув. – Но это глупо: давать себя терзать и убивать ради иудобольшевиков… Они мне говорят про рабство… в рабстве у коммунистических бездельников им нравится быть, а у полноценного, трудолюбивого народа – нет.
– Вот, действует кровь низших рас, – сказал директор. – Слепое повиновение тому, кто держит власть – в крови у них. Пока они видят, что Сталин и прочая коммунистическая компания еще стоят на ногах – они готовы нас грызть как дикие псы… Ничего, за зиму подтянутся резервы – и… нам главное перекрыть Волгу, а там это паразитическое государство задохнется само. Ладно, скоро обед, Шёнфельд. После обеда я составлю рапорт в комендатуру на основании ваших протоколов – и завтра же… нет, завтра у тюремщиков не расстрельный день, но послезавтра все эти трое фанатиков отправятся на кирпичный завод. Кстати, о заводе: и Очерет, и Иванова работали на «Ростсельмаше», значит, будем отрабатывать других его бывших работников.
– Надо, – кивнув, сказал Тим. – Только нелегко это будет сделать: это огромное количество людей. И вся молодежь была в Комсомоле.
– Все же меньше, чем отрабатывать весь город, – сказал директор…
Закончив беседу с директором, Тим вернулся в свой с командой кабинет как раз перед тем, как наступило время обеда, и при входе встретился с тоже вернувшимся Шрайбером.
– Поздравляю, Шрайбер! – сказал Тим. – Ты ровно успел на обед!
– Благодарю, герр комиссар! – улыбнувшись, сказал Шрайбер. Пройдя в кабинет, он снял шинель и повесил на крюк вешалки.
– Протоколы оставь пока у себя, – сказал Тим. – За обедом в общих чертах расскажешь, а потом будем конкретно разбираться. Пойдемте, товарищи соплеменники!
В столовой, как оказалось, уже был починен граммофон, и обед картофельным супом и жареным филе рыбы с зеленью проходил теперь, как обычно, под музыку. Звучала женским голосом какая-то лиричная песня о любви и о военной службе, голос исполнительницы Тиму знаком не был. Но неизвестная певица его мало сейчас интересовала, он ел суп и слушал рассказ Шрайбера об убийстве офицера союзных казаков. Однако информации Шрайберу удалось собрать относительно немного.
– Как обычно, – пояснил секретарь. – Никто ничего не знает, ничего не видел… Слышали выстрел, ну, мало ли, кто стреляет: война ведь идет. Только две женщины дали внятные показания, сообщили довольно интересную деталь, но в целом тоже мало что сказали.
– Какую деталь? – спросил Тим.
– Этого казака убили вспомогательные полицейские, – сказал Шрайбер, отправляя в рот очередную ложку супа с картофелем.
– Вот так любопытное дело! – воскликнул Кёст.
– Да, любопытное! – кивнув, сказал Тим. – Они сами наблюдали, как это произошло?
– Одна собственными глазами видела, как хипо приложился из винтовки и выстрелил в нашу несчастную жертву, – ответил Шрайбер, прожевав и проглотив суповой картофель. – Она испугалась и ушла в свою квартиру. А другая самого убийства не видела, но видела, как после выстрела двое хипо спокойно ушли со двора. У одного была винтовка, причем она определила, что немецкая, а у другого – только пистолет в кобуре.
– Они были в форме?
– Нет, говорят, что в штатском, но у обоих повязки с надписью: «Полиция».
– Ну, понятно все! – кивнул Тим и, наклонив тарелку, поспешно доел остатки супа, после чего придвинул к себе тарелку с рыбой.
– Вы полагаете, герр комиссар, что партизаны надели полицейские повязки? – спросил Эман.
– Совершенно верно, – сказал Тим, вилкой отламывая кусок рыбного филе. – Им же надо было как-то доставить к месту нападения винтовку. Ее трудно спрятать, а стрелять в конкретную жертву с большого расстояния из пистолета или даже из пистолет-пулемета – велик риск промахнуться. Вот, они и надели повязки, чтобы все думали, что они полицейские, и они могли спокойно и открыто пронести винтовку… и потому и ушли с места спокойно: если бы они побежали, их могли бы заподозрить.
– Та женщина, которая лично наблюдала, как стреляли в казака, говорит правду, – сказал Шрайбер. – у того места, где, по ее словам, стоял стрелок, мы нашли стреляную гильзу. Там сложены дрова – человеку примерно по грудь высотой. Вот, за этими дровами он встал и выстрелил в казака, когда тот курил трубку возле двери своей секции.
– Это тот самый казак, у которого мы делали засаду на Муромцова? – спросил Тим.
– Да, – кивнул Шрайбер. – Я хотел сказать, но вы сами догадались, герр комиссар… Вот, такая судьба у него оказалась!
– Его, конечно, нарочно подстерегали, – сказал Тим, прожевав и проглотив кусок рыбного филе. – Значит, кто-то дал наводку на его адрес, возможно, и на время, когда он выходит… выходил из своей квартиры. Будем отрабатывать его знакомых, родственников, тех, кто с ним работал… О черт, я не знаю даже, из какого он ведомства!..
– Вроде бы, он у своих по политической работе был, – сказал Шрайбер.
– Ладно, узнаем, – сказал Тим, вилкой отламывая еще кусок филе рыбы. – На всякий случай проверим вспомогательных полицейских, которые могли там оказаться… хотя налицо тут партизанский маскарад, но все-таки… надо шум навести, иначе двойные агенты начнут смело стрелять и в своих коллег, и в немцев. Проверкой полицейских я займусь, а кругом его общения давай ты, Шрайбер: у меня еще ворох особых дел день ото дня растет, вот, этими чертовыми газетчиками заниматься надо дальше.
– Есть, герр комиссар! – ответил Шрайбер.
– В кабинете сейчас быстро обговорим – и все по делам, – сказал Тим. Товарищи, сидевшие за обеденным столом, молча кивнули…
После обеда, в кабинете обсудив с командой детали дальнейших мероприятий по розыску убийц казачьего офицера, сделав звонок в постовой отдел хипо и затребовав личные дела местных полицейских, дежуривших во время совершения убийства в районе того и в соседних районах, Тим отправился в находившийся на первом этаже политический отдел вспомогательной полиции. Там он сначала зашел в кабинет дежурных офицеров, где сейчас сидел владевший немецким языком старик с пышными седыми усами – бывший унтер-офицер русской белой гвардии, пытавшейся свергнуть власть коммунистов вскоре после революции в России. Тим сообщил ему о необходимости произвести негласный сбор информации об уряднике Аксенове в деревне, где тот родился, в том числе о его прошлом. Старик, кивнув, сделал на своем языке запись на листе, затем по-русски распорядился сидевшему в стороне за отдельным столом телефонисту, чтобы тот позвонил в кабинет одной из их детективных команд и передал указание Тима. От дежурного Тим перешел в кабинет русской команды, которая занималась розыскными мероприятиями по Болкунову, застал там ее старшего и еще одного детектива, которые встали и приветствовали комиссара русскими словами: «Здравия желаю!», при этом вскинув правые руки так, как было принято по-немецки. Ответив просто: «Guten Tag!», Тим выразил старшему команды, понимавшему немецкий язык, благодарность за проделанную работу и выявление в Александровской инофамильной родственницы подпольщика. Русские детективы скромно кивнули, и старший ответил, что они всегда рады стараться на благо своего отечества и его друзей.
Покинув политический отдел хипо, Тим поднялся обратно в свой со своей командой кабинет. Там он увидел, что его рабочий стол уже заполнен стопками картонных папок с документами. Сидевший сначала на подоконнике и при входе шефа ровно вставший на пол Эман уведомил:
– Принесли дела русских постовых, герр комиссар!
– Сейчас посмотрим, – сказал Тим, проходя к своему столу. Сев в кресло, он развязал шнурки всех папок, в каждой из которых хранилось по нескольку копий фотографий хипо. Вынув из каждой папки по одной копии – всего вышло сорок пять штук, он окликнул что-то писавшего за своим столом Кёста.
– Да, герр комиссар? – произнес молодой секретарь, подняв голову.
– Ты сможешь поехать и показать фотокарточки русским свидетельницам? – спросил Тим. – Может быть, они опознают кого-нибудь.
– Фото русских полицейских? – спросил Кёст.
– Ну да, – сказал Тим. – которые там дежурили. Если хочешь, я позвоню, чтобы тебе дали переводчика. Тут дело об убийстве, поэтому лучше, чтобы мы его принципиально сами расследовали, как можно меньше прибегая к помощи русских. Русские могут потом передать нашу оперативную информацию партизанской агентуре.
– Хорошо, я поеду, – сказал Кёст, убирая со своего стола документы, с которыми только что работал.
– Переводчика тебе вызвать? – спросил Тим. Пожав плечами, Кёст ответил:
– Пожалуй, лучше да.
Он взял свой портфель, подошел к столу Тима и принялся собирать многочисленные фотокарточки. Тим дал ему лежавшую на полке стола пустую картонную папку, чтобы фотографии не затерялись у него в портфеле, велел Шрайберу написать ему адреса свидетельниц и, сняв трубку телефона внутренней связи, сказал дежурному, чтобы тот соединил со вспомогательным отделом ГФП. Кёст, сложив фотографии в папку, завязал тесемки той, Тим же распорядился по телефону, чтобы Кёсту предоставили переводчика. После этого Кёст, надев фуражку и шинель, взяв у Шрайбера бумажку с адресами, вышел с портфелем и папкой из кабинета. Тим же принялся поочередно изучать сорок пять личных дел постовых хипо. Дело это, для не имеющих опыта людей казавшееся колоссально объемным, на самом деле продвигалось достаточно скоро, так как Тим хорошо знал, что именно читать, на какие именно факты в биографии служащих обращать внимание.
Придраться навскидку в биографиях вспомогательных полицейских, дежуривших в той части города, где был убит казачий офицер, было не к чему. Большинство их, согласно документам, до прихода немецкой армии являлись простыми городскими обывателями, не имели никакой прямой связи с коммунистами. Несколько человек характеризовались как принципиальные противники советской власти, пострадавшие от большевистской политики. Еще несколько являлись бывшими красноармейцами, взятыми в плен и перевербованными, однако бывшие военнопленные несли службу в своей прежней униформе без значков, тогда как свидетельницы показали, что убийцы казака были в штатской одежде.
Едва Тим успел разобраться с личными делами хипо, как зазвонил телефон внутренней связи. На проводе был командир жандармов, дежуривших при внешнем входе в полицейское управление, который сообщил Тиму, что его спрашивает какой-то офицер СС, отказывающийся называть свое имя.
– Я сейчас спущусь, пусть подождет, – ответил Тим, удивленный, что за посторонние визитеры могли здесь им интересоваться. Среди его агентов не было членов СС. Повесив трубку, он поднялся из-за стола и подошел к зеркалу на стене у шкафов, чтобы расправить китель.
– Меня спрашивает внизу какой-то эсэсовец, – сказал он. – Почему-то не называет своего имени.
– Может быть и вражеский агент! – усмехнувшись, проговорил Эман. Тим тоже усмехнулся.
– Ну, я еще не настолько важная фигура, чтобы за мной индивидуально шпионить. А вот этот тип, похоже, считает себя особо важным, раз не хочет представляться.
– Арестовать его до выяснения! – произнес Шрайбер, улыбаясь.
– Да в арестном блоке уже свободных мест нет, – сказал Тим, вздохнув. – В общем, если меня будут спрашивать – я внизу.
– Да, герр комиссар! – сказал Эман. Тим, сняв с вешалки и надев фуражку, вышел из кабинета. Спустившись на первый этаж, он к еще одному своему удивлению увидел на проходной разговаривавшего с охраной Вольфрама.
– Хайль Гитлер, товарищ соплеменник! – с улыбкой воскликнул недавний знакомый, вскидывая руку.
– Хайль Гитлер! – произнес Тим, вскинувши руку в ответ. Он был обрадован этой встрече. Нет, не потому, что испытывал какую-либо симпатию к Вольфраму: тот, конечно, был человеком компанейским, но Тиму не нравилась крывшаяся где-то в душе этого эсэсовца даже теперь, когда Германия победила всех своих внутренних врагов и громила внешних, озлобленность. В том числе и его какая-то личная ненависть к евреям как к собственным обидчикам. Тим считал, что порядочному арийцу не должна быть присуща бездумная ненависть, и евреи, хотя и склонны к паразитированию на чужих культурах, все же не виноваты, что такими родились. Тим тоже боролся с евреями, но может ли фермер испытывать личную ненависть к лисице, повадившейся таскать кур из его птичника? Это глупо: злиться на существо, просто следующее своим инстинктам. Не нравилось Тиму и явное неравнодушие Вольфрама к спиртному, хотя к пьянству как таковому или связанному со злоупотреблением алкоголем нарушению служебного порядка этот товарищ вроде бы не был склонен. Однако Тим был рад, что теперь сможет услышать что-нибудь о делах Зибаха, оставшегося служить в Майкопе.
– Какая дорога завела тебя в Ростов? – спросил Тим, тоже улыбаясь. Они с Вольфрамом пожали друг другу руки.
– Я еду в отпуск! – будто выдохнул облегченно Вольфрам. – Работы огромное множество, но мой арийский организм тоже имеет не беспредельные возможности. Необходимо взять короткую паузу, иначе я потом совсем ничего не смогу делать.
Тим заметил, что он и вправду выглядел то ли постаревшим, то ли не успевающим в полной мере следить за своим видом. Лицо его, покрытое поверх тонкого загара, полученного за время летней службы под жарким солнцем Кавказа, мелкой темной щетиной, было каким-то осунувшимся; давно не стриженые темно-русые волосы выбивались из-под фуражки.
– Пройдем в буфет? – предложил Тим.
– С удовольствием! – кивнув, сказал Вольфрам.
– Это наш товарищ из майкопской зондеркоманды, – пояснил Тим командиру полицейской вахты. – Он едет в отпуск и зашел меня навестить. Мы с ним пройдем в буфет.
– Вас понял, герр комиссар! – кивнув, ответил офицер. – Разрешите, мы все-таки запишем его данные и отметим, что он пришел к вам.
– Извольте! – кивнув, сказал Тим. Вольфрам показал сидевшему за журналом охраннику свое удостоверение, тот быстро переписал имя, фамилию и звание, после чего, кивнув, поблагодарил и разрешил проходить.
Через несколько минут Тим и Вольфрам сидели за столиком в полицейском буфете. Тим взял себе из рук русской обслуживательницы в белом фартуке кружку вестфальского пива, Вольфрам, сказавший, что при такой погоде пиво не идет, предпочел бокал какого-то вина. Закусывали сладким хлебом с кусочками фруктов и миндалем.
– Какая обстановка в Майкопе? – поинтересовался Тим. – Все такая же тропическая жара или такая же холодная сырость, как здесь, в Ростове?
– В Майкопе сейчас самая отменная погода! – заметил Вольфрам, запив вином ломтик фруктового хлеба. – Не жарко и не холодно. Иногда можно спокойно ходить в кителе, без шинели или куртки. Деревья все желтые: как в золоте! Очень мягкая осень.
– А здесь уже почти зима, как видишь, – сказал Тим. – Только снега нет, а листьев на деревьях – хоть зеленых, хоть желтых, почти не осталось. И еще эти сырые ветра с моря… Я ведь неделю проболел, страшно стреляло в ухе, температура… а болеть некогда: сейчас служебные дела никак не оставить…
– Да, понимаю! – кивнул Вольфрам. – В Майкопе тоже ни днем, ни ночью не спим, постоянно выезды… Партизаны совершенно потеряли страх, как армии пришлось отступить от высоких гор. Там ведь знаешь сам, рельеф такой, что невозможно сплошной фронт сформировать, вот, они и просачиваются лесами в бреши, нападают… Как раз, когда я выезжал, по дороге к нефтеразработкам опять расстреляли два грузовика из колонны, пять солдат, из них один хиви, убиты, еще четверо ранены.
– А у нас сегодня начальник союзных казаков убит, – сказал Тим. – у которого мы в квартире размещали летом оперативный штаб, когда караулили одного местного жулика, организовавшего нападение на румын…
– Зачем жулику понадобилось на румын нападать? – удивился Вольфрам.
– Из-за колбасы, – ответил Тим, усмехнувшись. – Румынская полевая кухня везла в их расположение завтрак, в том числе украинскую колбасу. Вот, на нее по дороге в темноте напала банда… ловко перерезали солдат, те даже не успели карабинов поднять. Захватили колбасу и попытались продать на рынке… за еду же местные гражданские много отдают. По этой колбасе мы, собственно, и вышли на этих жуликов. Троих пристрелили, в том числе главаря… кстати, главаря Зибах застрелил…
– Да, я слышал! – кивнув, сказал Вольфрам. – Молодец парень!
– Еще двоих взяли живыми, потом, когда я уже в Майкопе был, их отправили в карьер – там у нас расстрельный полигон.
Вольфрам покачал головой.
– До чего бывают дикими эти восточные разбойники! – проговорил он. – Из-за колбасы осмелились напасть на солдат! Да уж… А в Майкопе тоже… с ног все сбились, еле управляемся: наглость у коммунистов теперь запредельная. Беремся за телефон, чтобы позвонить, и не знаем, дозвонимся или придется курьера гонять: каждый день где-то режут провода, а пока связисты найдут, пока снова соединят… во всех отделах информация застаивается, и после починки такой поток переговоров идет, что долго еще не можем нормально дозвониться, куда надо. У хипо уже стало основной работой по утрам обходить улицы и срывать отовсюду бумажки с большевистской агитацией, затирать надписи, которые немцам грозят. Арестовываем одних, других… девчонки свадебного возраста, дети даже попадаются! Даже арестуешь, большинство заводят одну и ту же пластинку: я сам так решил и сделал, я не люблю немцев, никто мне не помогал…
Тим рассмеляся.
– И здесь то же самое, – сказал он. – Да и вообще, это их излюбленная песня всегда была.
– Мы не спим, ловим почти каждый день кого-нибудь из бандитов, – сказал Вольфрам. – А все равно все продолжается. Представляю, что было бы, если бы мы хотя бы какую-то часть не вылавливали. Но хуже всего, конечно, в горах и перед горами, где линия фронта рядом, и партизаны напрямую с Красной Армией связь держат. Бывает, по пять – семь нападений за день в разных местах… на армейские, жандармские посты, на транспортные колонны. И стрелять метко научились, собаки!.. Одну деревню мы даже разрушили подчистую. Там партизаны как где-нибудь на Ривьере прохлаждались, днем по улицам ходили, и никто ведь из местных не донес… хипо тоже сделали вид, будто и не подозревали ни о чем, паразиты!..
– Кужорскую, что ли? – спросил Тим.
– Нет, Кужорская стоит, – сказал Вольфрам, небрежно махнув ладонью. – Там есть деревни позлее Кужорской, куда меньше, чем взводом, и не сунешься.
– Здесь тоже… – сказал Тим. – никто не высыпается: каждые сутки происшествия. На их листовки мы уже почти перестали внимание обращать… рвем и сжигаем. Просыпаемся утром и думаем: какую команду на место нового нападения пошлют, еще даже не зная, где и что произошло… но зная, что произошло наверняка. Чаще в окрестностях города, но иногда и в самом городе стреляют по жандармам, машины подрывают… или вот прошлым вечером бензовоз сожгли. Вчера еще патруль союзных казаков расстреляли из засады на окраине города: двое убитых, один ранен, еще один едва сумел уйти. Теперь ищем, а зацепиться не за что: местные почти поголовно втайне за коммунистов, сотрудничать не хотят. Отдельные группы вылавливаем, но это лишь отдельные группы, которые ничего о других и о своем руководстве не знают, а кто знает – тот не выдает, хоть на куски его режь, – Тим отпил пива из бокала. Перед глазами все стояли, не смываясь, мерзкие образы сегодняшнего допроса в тюрьме: голые коммунистические пособники, прикованные к столбу и облитые холодной водой, с окровавленными после работы охранника-садиста головами и плечами. Тиму пришлось привыкнуть к таким неприятностям, часто возникавшим непосредственно после производства жесткого розыска: он знал, на какую службу направляется, и должен был терпеть все ее издержки. Через день – два эти образы в глазах рассеются.
Вольфрам вздохнул.
– Когда я поступил в гестапо в Николаев, – сказал он. – наш инструктор по расовой теории говорил, что славянам как потомкам выродившихся арийцев свойственно упорно защищать свои идеалы. Но вследствие вырождения они не могут отличить правильные идеалы от ложных. Поэтому пока ими до большевиков правили императоры-немцы, они сохраняли свою силу, их государство преуспевало. Потому что их монгольские и прочие гены в той политической обстановке особого значения не имели. Но вот… малая доля чистого арийского населения в России сыграла свою роль: расплодились жиды, которые в итоге смогли своей революцией уничтожить немецкую императорскую фамилию и сами захватили власть. И остатки арийского характера этих славянских народов играют теперь с ними злую шутку: они готовы умирать и умирают за еврейскую фальшь. Дерутся они с арийским упорством, но в угоду паразитам-евреям. Да, нигде жидам так не повезло, как в России! – Вольфрам снова вздохнул. – Лучше бы славяне лишились арийского боевого духа, но сохранили арийское независимое мышление! Тогда они сами бы нас пустили… они бы работали добросовестно, мы бы их направляли и охраняли – и была бы создана величайшая в истории арийская империя! От Атлантического океана до Тихого! Ты представляешь, товарищ?
– Да, – сказал Тим, кивнув.
– А вышло все наоборот, – сказал Вольфрам. – И наша армия вынуждена прогрызать себе дорогу до Урала, а чтобы в скором времени выйти на Тихий океан… это лишь смелые мечтания. Давим и давим это тупое и остервенелое сопротивление этих… жидоарийцев… как их еще назвать? Сколько уже потеряли солдат… Да, надо непременно следующим же летом покончить с этими народами! Надеюсь, ОКВ* за зиму подготовит и рассчитает все максимально точно… Тим, ведь мы
уже коснулись Волги! Нам осталось чуть-чуть напрячься – и мы будем на том берегу!..
– Да, – сказал Тим, кивнув. – Мы все делаем со своей стороны всё, что в наших руках. Как и наши солдаты. Мы бережем их тыл.
_____________________
*Oberkommando der Wehrmacht – Верховное командование вермахта
– Правильно! – сказал Вольфрам и залпом допил остатки вина в своем бокале. – Так и надо делать! – он шумно поставил опустевший бокал на стол.
– Расскажи теперь о моем старом коллеге, – попросил Тим. – О Зибахе.
– Зибах работает там же, в шталаге, – ответил Вольфрам. – Руководитель его хвалит. Я думаю, он передал бы вам привет, но когда я собирался выезжать, он был снова на службе. Вам привет передает Кюбек. Он все так же шеф нашей зондеркоманды.
– Очень приятно! – кивнув, сказал Тим. – А как Вилли?
– У Вилли тоже все хорошо. Служит, как и все мы. Не покладая рук, забывая спать, – Вольфрам снова улыбнулся…
После еще недолгого времени разговора Вольфрам засобирался на выход, так как вскорости должен был подойти железнодорожный эшелон, на котором он рассчитывал добраться до Харькова, где пересесть на поезд, идущий в Киев или, еще лучше, Житомир, а оттуда добираться до Кракова или Варшавы, откуда уже ходили регулярные штатские поезда в Берлин. На проходной полицейского управления они с Тимом распрощались, Вольфрам вышел, а Тим поднялся в свой с командой кабинет. Хотя о Зибахе удалось узнать немного, он был успокоен, что молодой товарищ жив, здоров и продолжает усердно служить. Шрайберу Тим сообщил, что с Зибахом все хорошо, и тот по-прежнему работает с военнопленными, чем привел секретаря в восторг. Затем Тим позвонил в кадровый отдел вспомогательной полиции и распорядился забрать из кабинета личные дела постовых полицейских. Едва четверо русских курьера, зашедши в кабинет и поприветствовав немецких офицеров, забрали стопками и вынесли картонные папки с документами, как снова зазвонил телефон внутренней связи. На проводе оказался помощник директора, который сообщил, что за западным выездом из города у моста через реку Темерник подорвался на фугасе грузовой автомобиль, и приказал направляться туда для проведения следственных действий.
– Шрайбер, оставайся за старшего, – сказал Тим, снимая с вешалки шинель.
– Есть! – ответил Шрайбер. Тим, отступив от вешалки, чтобы пропустить к верхней одежде Эмана, надел шинель, застегнул и расправил ее перед зеркалом и вернулся к своему столу за портфелем.
– Повезло Кёсту, – сказал он. – Сейчас бы поехал с нами заниматься самой скучной работой. А теперь все нам самим придется собственноручно записывать.
Шрайбер усмехнулся, откинувшись на спинку своего кресла и поигрывая карандашом, который держал в обеих руках.
– Не скучай, Шрайбер! – сказал Тим, когда собрался Эман, и, отворив дверь, вышел из кабинета.
Минут через пятнадцать Хеллер за рулем родного «Фольксвагена» примчал их с Эманом на место подрыва грузовика у западной окраины города. Дорога, выходящая из Ростова, не была перекрыта, так как несподручно сейчас было останавливать в прифронтовой области движение по важной трассе, однако по ее обочинам теснились и расхаживали либо стояли, покуривая,
фельджандармы. В свете прикрытого осенней облачной хмарью солнца тускло поблескивали на зеленовато-серых шинелях и куртках жандармские шевроны. Сбоку дороги будто какое-то корявое чудовище возвышался черный от копоти искореженный взрывом грузовик; дым еще валил от него, расплываясь над широким покрытым желто-зеленой травой пустырем, на дальнем краю которого серели как метелки ноябрьские деревья и белели дома местных жителей. По асфальту здесь были рассыпаны вылетевшие из-под разбитого грузовика, который не то стоял, не то лежал покосившимися кабиной и закрытым фургоном на дороге, комья вывороченного взрывом грунта. Впереди поодаль был виден мост через холодно блестевшую подернутой рябью поверхностью речку, за которым громоздились укрепления фельджандармского поста из мешков с песком и темнела караульная будка.
Выйдя из «Фольксвагена», Тим и Эман выслушали доклад подошедшего к ним лейтенанта фельджандармерии, от которого узнали в общих чертах, что здесь произошло. Как оказалось, колонна автофургонов, доставившая боеприпасы для расчетов противовоздушной обороны Ростова с базы в Мариуполе, возвращалась обратно, и на этом месте точно под одним из автомобилей взорвался заложенный под асфальт фугас, приведенный в действие посредством электрического шнура. Автомобили были разгружены, поэтому детонировать в них было нечему, кроме бензина, и более разрушительного взрыва не произошло. Водитель получил тяжелые травмы из-за деформации кабины, но сумел выбраться, его увезла в госпиталь санитарная машина. Колонна же продолжила движение, чтобы вовремя вернуться на свою базу и не загромождать дорогу.
Выслушав доклад лейтенанта и забрав из рук того письменный протокол, Тим позвал Эмана и вместе со старшим секретарем приступил к личному осмотру места происшествия, переступая через раскиданные взрывом по дороге осколки и мелкие детали автомобильных корпуса и мотора. Морщась от едкого дыма, валившего от взорванного грузовика вдоль дороги и над желтым пустырем, офицеры ГФП обошли автофургон со стороны обочины. Здесь в дорожной насыпи темнел свежепрорытый желоб, и хотя асфальт под грузовиком был напрочь разворочен взрывной волной, было ясно, что в этом месте точно под асфальтовое покрытие сделали подкоп, причем совсем недавно. Мимо с оглушительным рокотом промчалась колонна военных мотоциклов. Тим удивился: партизаны, чтобы заложить фугас, проделали кропотливую работу, проведя точно под асфальт, не нарушая его целостности, тоннельчик, в который, конечно, и протолкнули заряд с проведенным к тому электрошнуром. Сам заложенный под асфальт фугас, конечно, невозможно было увидеть, но неужели на оживленной дороге никто не заметил, как работают партизаны? Тим и Эман сделали пару шагов по траве пустыря и увидели длинной тонкой змейкой протянувшийся среди низких стеблей белесый шнур. Тим, подобрав полы шинели и присев на корточки, пощупал его пальцами. Обычный толстый провод в жесткой оболочке.
– И что, никто не видел, как они тут орудовали?! – изумленно проговорил Эман.
– Ты думаешь о том же, о чем и я! – усмехнулся Тим и снова поднялся, сунув замерзавшие на холодном ветру руки в карманы шинели. – Пойдем узнаем, кто, вообще, охраняет эту дорогу.
Они с Эманом снова подошли к приехавшим раньше них фельджандармам, которые стояли возле своих припаркованных на обочине мотоциклов и провожали взглядом въехавшую в город пустую подводу, тащимую немецкой светлогривой лошадью, управляемой пожилым мужичком в немецкой военной форме: наверное, хиви.
– Лейтенант! – подозвал Тим их командира.
– Да! – лейтенант снова подошел к Тиму, поправляя на плече ремень пистолет-пулемета.
– Кем, вообще, охраняется эта дорога? – спросил Тим.
– Вон там, на мосту, – лейтенант показал рукой в сторону моста через Темерник. – жандармский пост. Непосредственно на выезде из города еще дежурит жандармское отделение. Всё.
– Благодарю! – кивнув, сказал Тим и обратился к Эману:
– Посмотри, откуда ведет этот чертов шнур, а я поговорю с постовыми на мосту.
– Есть! – кивнул Эман, и они разошлись: Тим, снова обойдя дымящийся искореженный грузовик, направился по обочине дороги к видневшемуся впереди мосту, Эман же вернулся на пустырь и, то и дело спотыкаясь на скрытых травой неровностях почвы, пошел вдоль белевшего среди желтых и зеленых травяных стеблей электрического шнура.
Тим с портфелем под мышкой добрался до моста под шум колонны других грузовиков – с открытыми кузовами, проезжавших мимо в сторону города и перевозивших что-то в сложенных штабелями деревянных ящиках. Колонна проехала как раз когда Тим подошел к началу моста. Прохаживавшиеся здесь фельджандармы из местного охранения – два карабинера и автоматчик, развернувшись Тиму навстречу, встали навытяжку и произнесли приветствие.
– Хайль Гитлер! – ответил Тим. – Где ваш командир?
– Вон там! – постовой с пистолет-пулеметом показал в сторону деревянной будки за мостом.
– Понятно! – сказал Тим и зашагал по мосту вдоль перил ограждения. Внизу блестела рябистой поверхностью речка, мелкие волны которой, поднятые ветром, омывали густо росший вдоль берегов, приобретший зимний серо-желтый цвет тростник. Мимо, обдав Тима взволнованным воздухом и запахом бензиновой гари, проехал по мосту из города легковой автомобиль с закрытым кузовом; за стеклом передней дверцы Тим смог различить сидевшего рядом с водителем офицера высшего состава: майора или даже оберст-лейтенанта. Пройдя мост, Тим вышел к остальным жандармам охранения, контролировавшим дорогу возле заграждений из мешков с песком с двумя пулеметными гнездами и большой деревянной караульной будки. При виде Тима фельджандармы стали разворачиваться к нему и приветствовать, вскидывая руки. Командир – оберфельдфебель в очках, разговаривавший с одетым в теплую куртку крепким и коренастым унтер-офицером, прервал свою беседу и вышел навстречу Тиму.
– Оберфельдфебель Брюкнер. Вы из тайной полиции? – произнес он. – Я уже все рассказал офицеру, который прибыл сюда по вызову. Это я, собственно, и вызвал жандармерию и санитаров. И вам тот офицер звонил с нашего телефона, – оберфельдфебель кивком указал на будку.
– Те люди мне уже доложили всё, – сказал Тим. – Но я хотел бы услышать от вас лично как от начальника караула, что произошло. Что вы видели или слышали?
– Мои солдаты, которые дежурили на той стороне, – оберфельдфебель махнул рукой в сторону другого конца моста. – видели, как под третьим автомобилем в колонне что-то взорвалось, после чего он загорелся. Я лично находился в помещении, только слышал грохот… думал, сейчас стекла в окошках вылетят. Я позвал с собой двух солдат, мы прибежали туда, увидели возле кабины раненого шофера. Я распорядился оказать ему первую помощь, какую было возможно, вернулся на мой пост к телефону и вызвал жандармское подкрепление и санитарный автомобиль. Потом ко мне пришел лейтенант из подкрепления, опросил, что и как было и позвонил в ГФП. Вот, собственно, и все.
– Кто привел в действие фугас, вы видели?
– Никак нет, – покачал головой оберфельдфебель. – Ни я, ни мои солдаты. Никто посторонний в тот час по дороге тоже не ходил.
– Как же можно было заложить фугас под асфальт на дороге незаметно? – спросил Тим. – Мы уже осмотрели место: фугас был заложен в подкоп под асфальтом.
Начальник караула пожал плечами в погонах с ромбическими фельдфебельскими цветками.
– Его могли заложить и вчера, когда нас тут не было, – ответил он. – Сегодня, в наше дежурство, здесь ничего подозрительного не происходило.
Поняв, что у охранявших в этот день мост фельджандармов ничего существенного узнать нельзя, Тим вернулся обратно к взорванному автомобилю, решив до ужина опросить жандармов смены, дежурившей здесь вчера. У места подрыва грузовика Эман, стоявший и разговаривавший с жандармским лейтенантом, увидев возвратившегося Тима, шагнул навстречу и доложил:
– Шнур заканчивается в кустах. Следов никаких не видно, ну, там везде трава, она уже давно распрямилась, если и были следы.
– Покажи мне, – сказал Тим.
Вслед за старшим секретарем он прошел по пустырной траве вдоль оставленного партизанами шнура до сиротливо возвышавшейся среди обширного травянистого пространства небольшой поросли серых кустов. Шнур огибал кусты по траве и за ними заканчивался.
– Ну, ясно, – сказал Тим, оглядывая траву. – здесь они и прятались. Ну, тут могут спрятаться только два, максимум – три человека.
– Почему они подорвали пустой грузовик, без боеприпасов? – спросил Эман.
– Может быть, не знали, что он пуст, – сказал Тим. – а может быть, знали, но именно потому и выбрали: побоялись, что если боеприпасы сдетонируют, их самих заденет взрывной волной.
Он огляделся вокруг. С одной стороны тянулись росшие вдоль реки деревья, с другой белели на значительном расстоянии отсюда окраинные дома города – по типу крестьянских усадеб.
– Наверняка кто-то должен был видеть, как они уходили! – произнес Тим. – Если не жандармы, то водители других грузовиков. Ну, где теперь этих водителей искать!.. Ладно, Эман, чувствую, что больше мы здесь ничего не найдем, давай по-быстрому делать протокол и поедем назад, а то у меня уже насморк начинается в этом климате…
Когда они с Эманом вернулись в свой кабинет в полицейском управлении, Тим выслушал доклад тоже возвратившегося Кёста о том, что женщины, видевшие вспомогательных полицейских в городском дворе, где был убит казачий офицер, по фотографиям никого из дежуривших в том и соседних районах постовых не опознали. Тим иного доклада, в общем, и не ждал: ему изначально было ясно, что это были не полицейские, а партизаны в полицейских повязках, и проверку постовых он организовал лишь для проформы и «успокоения совести». Сев за свой стол, Тим по внутреннему телефону связался с отделом фельджандармерии и попросил направить к нему в кабинет начальника караула, дежурившего вчера на мосту через Темерник при выезде из города. Вскоре в кабинет явился жандармский фельдфебель, поприветствовал офицеров и представился: «Фельдфебель Линк, командир четвертого взвода роты фельджандармерии».
– Присаживайтесь! – сказал Тим, указав ему на стул напротив своего стола. Фельдфебель подошел и сел на стул вполоборота. Это был бледнолицый человек со светло-рыжими волосами и каким-то небольшим, но глубоким шрамом сбоку над левой щекой. Серые глаза его с неприятным холодно-хитроватым взглядом бегали по кабинету, словно он то ли тайно высматривал здесь что-то, то ли желал что-то скрыть.
– Вы вчера дежурили на мосту на западном выезде из города? – спросил Тим.
– Так точно, – ответил фельдфебель. – Я и мои солдаты.
– Были ли какие-либо происшествия вчера на месте вашего дежурства? – спросил Тим.
– Никак нет, – ответил фельдфебель. – Мой рапорт у дежурного в жандармском отделе.
– А какие-нибудь подозрительные явления? – спросил Тим. – Что-нибудь, что не выглядело стоящим для занесения в рапорт, но в то же время странным?
Фельдфебель пожал плечами.
– Вы меня опрашиваете в связи со взрывом, который произошел сегодня там? – спросил он.
– Именно, – ответил Тим.
– Ничего стоящего для занесения в рапорт не было, – сказал фельдфебель, задумчиво глядя куда-то в стену. – Но мои солдаты кое-что странное заметили.
– Так-так, интересно, – сказал Тим. – Продолжайте, пожалуйста.
– Унтер-офицер Тильман докладывал мне о русских работниках, которые что-то делали на краю дороги в стороне города. Но он сказал, что за ними присматривал вспомогательный полицейский, поэтому я не придал значения его словам. Мало ли, какие работы могут проводиться на дороге.
– Вы лично не проверяли слова вашего подчиненного? – спросил Тим.
– Никак нет, – ответил фельфебель. – Мы должны контролировать все транспортные средства, которые въезжают в город или выезжают из него. Я просто не нашел лишней минуты, чтобы посмотреть на этих работников… в конце концов, здесь нет ничего… подозрительного…
«Идиот!» – с досадой подумал Тим.
– А почему вы говорите об этом как о странности? – спросил он. Фельдфебель снова пожал плечами и ответил: