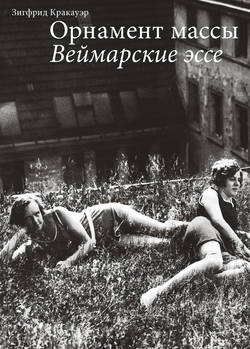Читать книгу Орнамент массы. Веймарские эссе - Зигфрид Кракауэр - Страница 9
Предметы внешние и внутренние
Фотография
7
ОглавлениеЧереда образных изображений, последней исторической ступенью которых является фотография, ведет свое начало от символа. Символ в свою очередь восходит к «природной общности», где природа еще полностью определяет сознание человека. «Как история отдельных слов всегда начинается с чувственного, естественного значения и лишь в процессе последующего развития переходит к абстрактному, переносному их применению, подобным же образом как в религии, так и в развитии индивида и человечества в целом можно заметить аналогичный процесс от материала и материи к душевному и духовному: символы, в которых первобытные люди привыкли закреплять свои представления о природе окружающего мира, тоже имеют чисто физическо-материальное основное значение. Природа, как и язык, взяла символику под свою опеку». Эта цитата из сочинения Бахофена[23] о плетущем канат Окносе[24] подтверждает, что изображенные на надгробии пауки и плетения первоначально означали деятельность формообразующей природной силы. По мере того как сознание обретает само себя и тем самым исчезает первоначальное «торжество природы и человека» (К. Маркс «Немецкая идеология»[25]), образ все больше приобретает отвлеченное, нематериальное значение. Но даже развиваясь, по выражению Бахофена, до обозначения «душевного и духовного», оно является неотъемлемой частью образа, и отделить их друг от друга невозможно. На больших исторических дистанциях образные изображения остаются символами. Пока человек испытывает в них потребность, он в своей практической деятельности зависим от природных условий, обусловливающих визуально-телесную предметность сознания. Только с покорением природы, которое неуклонно набирает обороты, образ теряет свою символическую силу. Отмежевывающееся от природы и противостоящее ей сознание уже высвободилось из своей наивной мифологической оболочки: оно оперирует понятиями, которые, разумеется, можно использовать во вполне мифологическом смысле. В известные исторические периоды образ еще сохраняет свою власть; символическое изображение становится аллегорией. Последняя означает лишь «общее понятие или отличную от нее самой идею; символ является чувственной формой, воплощенной идеей как таковой», – так определяет разницу между двумя видами образов старик Крейцер[26]. На уровне символа мысль содержится в самом образе; на уровне аллегории мысль сохраняет и использует образ, как если бы сознание не могло решиться сбросить чувственную оболочку. Это грубая схема. Хотя ее вполне достаточно, чтобы наглядно продемонстрировать эволюцию представлений, ведущую к выходу сознания из его природного заточения. Чем решительнее сознание в ходе исторического процесса освобождается от этих оков, тем убедительнее проступает перед ним его природная сущность. Все наделенное смыслом является сознанию уже не в человеческих образах, но проистекает из природы и направлено к ней. Европейская живопись последних столетий во все возрастающем объеме изображала обделенную символическими и аллегорическими значениями природу. Однако запечатленные ею человеческие черты никоим образом не лишены названных значений. Еще во времена дагеротипии[27] сознание было настолько связано с природой, что лица обретали содержание, неотделимое от реальной жизни. И поскольку природа меняется в точном соответствии с тем или иным состоянием познания, вместе с современной фотографией входит в силу избавленное от всякого смысла природное начало. Так же, как и ранние способы изображения, фотография отвечает определенному уровню развития материально-практической жизни. Она представляет собой продукт капиталистического процесса производства. Природа, явленная на фотографии, обнаруживает себя и в реальности порожденного этим процессом общества. Нетрудно представить себе общество, подпавшее власти немой природы, сколь бы абстрактным ни представлялось ее молчание. В иллюстрированных газетах и журналах просматриваются контуры такого общества. Если бы оно обладало устойчивостью, результатом эмансипации сознания стало бы его устранение; непроникнутая им природа снова получила бы место за столом, которое сознание покинуло. Но поскольку устойчивостью такое общество не отличается, раскрепощенному сознанию дан беспримерный шанс. Как никогда слабо связанное природными узами, оно может испытать на них свою власть. Обращение к фотографии – это игра ва-банк самой истории.
23
Иоганн Якоб Бахофен (Johann Jakob Bachofen, 1815–1887) – швейцарский ученый, этнограф, антиковед; особенно широко известны его работы о первобытном обществе, социальной эволюции, институте семьи и матриархате в древности.
24
Окнос (греч.: «откладывающий на потом») – персонаж греческой и римской мифологии; был приговорен Аидом к вечному бессмысленному труду за то, что слишком дорожил жизнью и не хотел умирать: Окнос ходил по берегу и плел соломенный канат, который тут же съедала идущая следом ослица. См.: Bachofen J.J. Oknos der Seilflechter: Ein Grabbild. Erlösungsgedanken antiker Gräbersymbolik. Basel, 1859.
25
«Немецкая идеология» – ключевая работа исторического материализма, написанная К. Марксом совместно с Ф. Энгельсом в 1845–1847 гг. и при жизни авторов изданная лишь фрагментарно. См.: Marx K. Die deutsche Ideologie // K. Marx, F. Engels. Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA). Bd. 1.5. / Hrsg. v. D. Rjazanow u. W. Adoratskij. Berlin, 1932.
26
Георг Фридрих Крейцер (Georg Friedrich Creuzer, 1771–1858) – немецкий филолог; в своем главном труде «Символика и мифология древних народов, в особенности греков» (Symbolik unf Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen. Leipzig, 1810–1812) сделал вывод о единстве всех древних религий мира.
27
Дагеротипия – способ фотографирования на металлической пластинке, покрытой слоем йодистого серебра; была изобретена в 1822 г., но распространение получила только в 1839–1851 гг., после чего была вытеснена мокрым коллоидным способом получения фотоизображений.