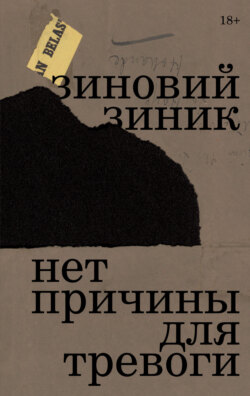Читать книгу Нет причины для тревоги - Зиновий Зиник - Страница 3
Точка зрения
1
Оглавление«Вот, попробуйте, креветки-когул», – и Альперт подвигает ко мне продолговатое блюдо с креветками расцветки жирафа в упаковке из нежнейшего рисового пергамента. Сам он к этому кулинарному шедевру не притрагивается. «У них должен быть острый горьковатый привкус, поскольку в соус добавлена растертая полевая ромашка – контрапунктом к рому с жженым тростниковым сахаром». Каждый заход в ресторанное заведение с Альпертом – это своего рода путешествие в неведомые земли. Когда в семидесятых годах я попал из Москвы в Лондон, он открыл для меня целую вселенную – калейдоскоп лиц, экзотических ароматов и цветов кожи, вавилон акцентов и манер. Это было кругосветное путешествие от одного ресторанного столика к другому, это была карта земного шара в виде ресторанного меню. Это был не только туристский Китай, как Чайнатаун на Джерард-стрит или Бангладеш на Брик-Лейн; я узнал изощренность кебабной Турции в Долстоне, африканские ритуалы Эретрии в забегаловках Кеннингтона и ямайские ритмы в Брикстоне. В отличие от Альперта я не гурман, но каждое блюдо сопровождалось уникальными комментариями – историями из жизни самого Альперта. В этих встречах и разговорах за ресторанным столиком мы сблизились, хотя он был лет на пятнадцать старше, из советской элитарной семьи с Арбата, а я – родом из пролетарской коммуналки хулиганской трущобной Марьиной Рощи. Но для Альперта-лондонца я был посланцем новой России, эмигрантом третьей волны, свидетелем его московского прошлого. Он выспрашивал меня детально о судьбах московских героев его эпохи, улицах и монументах, легендарных кафе, забегаловках и ресторанах его студенческой эпохи. Обо всем этом – речь шла о хрущевских пятидесятых – у меня было весьма смутное представление. Впрочем, я кое-что слышал, подхватывал на ходу у всеведущих друзей в Москве, кое-что мог присочинить и сам. Это был культурный обмен, интригующий нас обоих. Но постепенно мы оба, при всей обоюдной симпатии, друг другу поднадоели. Он продолжал свои кругосветные ресторанные экскурсы и трипы, я же продолжал ошиваться в частных клубах и барах Сохо (где впервые побывал благодаря Альперту).
И вот неожиданный звонок – сколько лет, сколько зим! – и снова передо мной этот ресторанный бог, гуру и гурман с грациозной импозантностью лондонского денди. Видимо, с ним произошло нечто экстраординарное. Слушая Альперта, я убеждаюсь в который раз, что человек, однажды в жизни совершивший невероятный для себя самого поступок, всю остальную жизнь пытается повторить этот судьбоносный пируэт во всех его мыслимых версиях и вариантах. И сам при этом удивляется шокирующим результатам. Вообще, Альперт всегда завораживал меня и своими эксцентричными поступками, и экстравагантными знакомствами. Завораживал эксцентризмом судьбы: не жизнь – а детективный роман, ждущий своего автора. Тут не было никаких секретов и загадок, но он никак не мог соединить все эти невероятные эпизоды своей жизни единой логикой и поэтому постоянно возвращался к ключевым судьбоносным моментам в наших с ним разговорах. За его элегантной сдержанностью всегда скрывался неутомимый пожиратель не только кулинарного изыска и экзотики всех стран и народов, но и политических слухов и новостей о социальных катаклизмах в мире. Однако на этот раз с первых же минут нашей встречи я заметил, что в этом жовиальном оптимисте стала угадываться необычная для него мрачноватость, чуть ли не раздражительность и нетерпеливость недовольного ребенка. Он периодически стряхивает невидимые крошки с рукава. Галстук слегка сдвинут на сторону. Пиджак застегнут не на ту пуговицу. Обычно он умеет дернуть за уголок крахмальную салфетку, сложенную на столе треугольником, так что она раскрывается, как крылья птицы, и взлетает, чтобы приземлиться у него на груди. В этом жесте – смесь фокусника и мага. Но сейчас эта белая крахмальная салфетка небрежно заткнута за ворот под его увесистый подбородок без привычной элегантности. И непонятно, зачем ему салфетка: меняются блюда, но к еде он практически не притрагивается, несмотря на крайне любопытное меню.
Он, как всегда, выбрал для встречи нечто нестандартное. Я пришел чуть раньше Альперта и понял, что это место далеко не шик и ар-нуво отеля Savoy и не диккенсовский Rules, не богемный гламур Ivy или Caprice поп-звезд культуры, это даже не постмодернизм ресторана St. John, с его ностальгией по викторианской кухне из телячьих почек и рагу из фазана. Куда там. Это еще один новый ориентальный ресторан в Сохо, между Дин-стрит и Грик-стрит, но в дальнем конце, ближе к Оксфорд-стрит, то есть как бы на отшибе. Модерновое просторное помещение – кожаные диваны, бамбук, белые скатерти. И тем не менее сразу чувствуешь, что есть в этом ресторане нечто уникальное, что это – the место. Хотя бы потому, что именно это место выбрал Альперт для нашего ланча. Есть люди, чья светская роль оценивается списком тех модных ресторанов, где они бывают. Альперт, наоборот, создавал репутацию уникальности всякому месту, куда он заглядывал.
Когда внушительная фигура Альперта появляется в дверях ресторана, это заведение вырастает в наших глазах до целой вселенной, где в центре – сам Альперт. Я убедился в этом и сегодня. Из опыта общения с Альпертом я давно понял: надо уметь входить в ресторан. Я, как и многие, войдя в зал ресторана, несколько смущаюсь и теряюсь. Ощущение собственной неадекватности и неловкости, как будто ты перепутал дату и попал в дом не по адресу; или когда в панике тыкаешь и кликаешь бессмысленные линки, войдя на незнакомый сайт, и на экране выскакивают совершенно неуместные лица и реклама. Но стоит Альперту появиться при входе в любое заведение, как все официанты как будто застывают на месте. Он всегда был грациозен, несмотря на внушительную корпулентность всего облика. В его гордом подбородке, в пружинистой осанке аристократическая четкость человека, отдающего приказы. Metre d’ тут же пересекает ресторанный зал, с незаметным поклоном приветствует его, чтобы подвести к лучшему столику в зале. Я видел это не раз. На этот раз метрдотель заметил мой приветственный взмах рукой и подвел Альперта к моему столику в нише.
«Неправильный столик». Это первое, что говорит Альперт, взглянув на меня и оконную витрину рядом. Чем ему не угодил столик, который я выбрал заранее, самостоятельно? Меня к этому столику подвел метрдотель в ожидании Альперта. Приятный столик, в глубокой нише на двоих, сбоку от огромного окна, где видна часть улицы. Можно наблюдать, что происходит на углу, где модный бар-ресторан со столиками снаружи. Вот уже минут десять, в ожидании Альперта, я слежу за загадочной сценой: один из клиентов затеял серьезный, судя по всему, скандал с официантом. Мое внимание привлекла странная внешность человека за столиком. На нем вполне обычный, хотя и несколько пожеваный, костюм темно-синего цвета – navy blue, но явно не по росту, огромный, он сидит на нем как хламида, и, несмотря на свисающий под седой диковатой бородой изжеванный галстук, он похож на бомжа. Вместо плаща на плечах у него нечто вроде пестрого одеяла, пончо, что ли, полосатая накидка. Но он явно не бомж. Он сидит скрестив ноги, занимая чуть ли не весь тротуар. И он курит сигару. Огромную сигару, что в наше время редкость, даже на улицах Сохо. Перед ним огромная тарелка с каким-то блюдом – издалека трудно сказать. Он машет сигарой – подзывает официанта. Мне сбоку видно, как бородач поднимает тарелку и чуть ли не сует ее официанту под нос. Я не вижу лица официанта. Тот пожимает плечами и удаляется вместе с блюдом. Бородач продолжает курить сигару.
Казалось бы, идеальное место в ресторане для наблюдения за жизнью вокруг. Выяснилось, что нет. «Неправильный столик. Мы сядем не здесь, а там». И пригласительный жест к столику в другом углу ресторана. Здесь и там, вот именно. Там и тут. Как только ты оказался здесь, тут же возникает там – где тебя нет. Я вижу (и слышу) этих людей: а вон там у них, а вот у нас здесь, вот у вас там, а у нас здесь, но мы тут, а вы где? Те, кто считает, что они – центр вселенной, они всегда здесь, для них весь мир – это здесь, и им наплевать, что происходит там. Но есть беспокойные умы – те, кто все время думает: а что же там, пока мы здесь? Пожалуй, и я и Альперт – люди второго типа. Нам обоим не сиделось в Советском Союзе. Разница в том, что он покинул родину в конце пятидесятых, в эпоху оттепели, нарушив советские законы как предатель-невозвращенец; я же прождал еще два десятилетия, чтобы сказать свое vale вполне легально, когда выпускали на постоянное место жительства из Советского Союза под видом воссоединения с родственниками за границей. Но обман присутствовал и тут, поскольку приглашение было устроено друзьями: родственники эти были фиктивные. То есть он был героем-криминалом, я же законопослушным предателем своей родины. Оба мы, впрочем, были автоматически лишены советского гражданства за свои действия. Оба были не способны оставаться на месте: там было для нас всегда важней, чем здесь. И поэтому, когда Альперт говорит, что надо сидеть не здесь, а там, я, привыкший к перемене мест, поднимаюсь и послушно следую за ним, к столику рядом с входной дверью.
Я послушно усаживаюсь за этот столик в проходе и на сквозняке. И все-таки решаюсь спросить моего ресторанного гуру: почему здесь, а не там, в нише рядом с окном? Альперт всматривается в меня своим рассеянным взглядом прозрачных голубых глаз. Я замечаю, что он вообще рассеян. Ресторанный ритуал, однако, соблюдается с привычной строгостью. Он говорит, что мы пришли в ресторан не для того, чтобы рассматривать прохожих за окном. Мы не пришли разглядывать публику. Это официанты должны следить за нами – за выражением наших лиц, за движением рук, глаз. «Мы с детства привыкли, что за нами следят – родители или органы. Но важно знать, кто за тобой следит. За столиком ресторана все мы немножко артисты. Актеру на сцене нужен взгляд зрителя, иначе он чувствует себя некомфортно. Наш главный зритель – официант», – говорит мне Виктор Альперт. Следует ли подлить нам вина? Сменить блюдо? Пора ли приносить десерт? И разные мелочи. Убрать крошки и угадать следы недовольства на лице. Официанту было бы невозможно наблюдать за всеми этими нюансами, если бы мы остались за столиком, за которым я оказался изначально. Мы были бы практически невидимы из-за неправильного освещения. Мы бы сидели лицом к залу, но спиной к свету из окна – это затемняет наши черты. Официант не смог бы угадать выражение наших лиц. За новым столиком (выбор Альперта) мы под полным наблюдением всего обслуживающего персонала. И это крайне важно. Кроме того, его не устраивало, что столик, который я выбрал, находился в нише, в закутке, отделенный от остальной части ресторана боковой стеной и кадкой с пальмой, как отдельный кабинет. После инцидента в Америке у него развился страх закрытых помещений. Клаустрофобия. В результате он больше не посещает свои любимые забегаловки, маленькие рестораны-комнатушки, с одной кухонной плитой, прилавком бара и парой столиков, обычно без скатертей: именно в таких непрезентабельных заведениях, как мы знаем, и можно сделать истинные кулинарные открытия. Объясняя мне все это в подробностях, Альперт начинает говорить в убыстренном темпе, он явно нервничает. Я замечаю, что даже внешне Альперт довольно сильно сдал. В его обычной изящной полноте и импозантности появились признаки нервного истощения – круги под глазами, некоторая худоба щек. Перемены произошли, как я начинаю понимать, после путешествия по Америке. Задолго до нашей встречи, в разговоре по телефону после его возвращения в Лондон, он мне дал понять, что в Америке произошел некий неприятный инцидент. «Этот инцидент все кардинально изменил», – произнес он по телефону загадочную фразу. Но я не спешу с расспросами. Не решаюсь спрашивать напрямую. Я наслаждаюсь экзотическими блюдами нового ресторана в его компании.
Сам я тем временем могу наблюдать все, что происходит на другой стороне улицы, гораздо лучше, чем за предыдущим столиком, потому что сижу теперь уже не сбоку, а практически напротив ресторанной витрины. Я вижу картинку в полном масштабе – жестикуляцию и даже отчасти выражения лица официанта, поскольку изменился угол зрения. Там происходит загадочная пантомима. Официант подходит к столику клиента с блюдцем, на блюдце явно счет. Его клиент-бородач (борода практически закрывала все его лицо – от подбородка до ушей) подцепляет счет с блюдца и рассматривает его, как будто на просвет. Потом сминает его в маленький комок и швыряет его в лицо официанту. Официант подцепляет комок с тротуара, кладет его обратно на блюдце, резко разворачивается и исчезает внутри заведения. Человек за столиком снова закуривает сигару, берет в руки меню и листает его, как порнографический журнал.
Тем временем, под аперитив с крепчайшей китайской водкой маотай и перуанским лаймом, Виктор Альперт пытается убедить меня в том, что ощущение безопасности – это когда ты знаешь, что за тобой наблюдают. Либеральные круги у нас постоянно обличают и разоблачают авторитарные, тоталитарные тенденции нашего правительства: мол, куда ни глянь – везде камеры наружного слежения, видеокамеры, все друг друга айфонят. Глаз Старшего Брата и так далее. Но в действительности это не более чем забота друг о друге, как в английской деревне: шагу не ступишь – уже всем известно. И людям это нравится, это создает ощущение, что ты не брошен на произвол стихий (и судьбы), за тобой присматривают, не дают оступиться. Мы с вами – и он глянул на меня исподлобья, конфиденциально, как на сообщника, – мы выросли под наблюдением и наших родителей, и гэбистов. За нами постоянно наблюдали – мама, папа, бабушка, дедушка. Дворник. Миллиционер. Тетки на скамейке. Надень шарф, застегнись! Ты опаздываешь в школу. Не ходи в мороз без шапки. К экзамену подготовился? Не ешь бутерброд во дворе. Надень свитер, сегодня будет снег. Держи вилку в левой, нож в правой. Поцелуй тетю Дору, спасибо за шоколадку. Зачем ты читаешь эту грязную литературу? Перестань общаться с этим кругом! Каждый шаг был под контролем. На тебя смотрели. За тобой следили. За твоим благополучием наблюдали. Поэтому, когда мы не чувствуем, что за нами наблюдают, мы испытываем нечто вроде беспокойства, как бы это сказать: ощущение потерянной родины. И тут я, пожалуй, соглашусь с Альпертом. Конечно, тебя могли арестовать; конечно, это была страна тюремного режима – для всех, кто хотел изменить свою жизнь, свой образ жизни или отношения с начальством. Но в обмен за эту подчиненность внешним обстоятельствам у тебя было ощущение стабильности, толщиной в тюремную стену, предсказуемости, гарантированного будущего. Если ты не предпринимал опасных шагов публично, твоя жизнь была расписана с начала до конца. Мы знаем, что бывшие британские военнопленные в Китае, переселенные на время в специальные бараки после освобождения из плена, отказывались уезжать обратно в Англию еще лет десять, потому что в этих бараках все их минимальные нужды были обеспечены, там не было страха перед будущим. Убожество, но гарантированное. Оставалось быть счастливым. Расстреливались и гибли по тюрьмам и лагерям сотни тысяч невинных людей, но наши родители справляли дни рождения, танцевали под Новый год, водили детей на елку в Колонный зал, на «Щелкунчика» в Большой, справляли первомайские праздники, ходили весело на субботники, все по расписанию, все под наблюдением.
Неожиданно Альперт прерывает свой монолог, как обычно приправленный парадоксальными афоризмами. В паузе слышно звяканье вилок и ножей о тарелки за соседними столиками. Альперт как будто задумался о судьбах вселенной. Впрочем, у человека бывает задумчивая физиономия как раз тогда, когда он ни о чем не думает. Он не решает философских задач. Но он вслушивается. Он вслушивается в собственные органы чувств – вкуса и запаха и еще чего-то неведомого, недоступного мне, плебею ресторанной культуры. Он подкладывает мне на тарелку шедевр кулинарного гибрида – фьюжен – Тайваня, Венесуэлы и Италии – закрученные, как детективные истории прошлого века, пахучие жгуты. Он едва надкусывает дольку этого спрута загадочного происхождения, маринованного, как было сказано в меню, в соусе из сычуаньского таормина и сиракузской крапивы. Он снова стряхивает невидимые крошки с рукавов пиджака и возвращается к нашему разговору.
За нами наблюдает уже пара официантов, а за официантами наблюдает metre d’ – метрдотель. Как, интересно, мы выглядим в его глазах? Понимает ли он, что мы – два поколения политической эмиграции из Советского Союза? Слышал ли он вообще про Советский Союз? В связи с шумихой вокруг перестройки легендарная история побега Альперта из хрущевской Москвы через Восточный Берлин повторялась в девяностых годах в разных вариантах и версиях – и в лондонской прессе, и по русскоязычному радио. Но кое-какие детали о судьбе Альперта я до сих пор узнаю лишь в приватных беседах с ним. У меня в свое время бродила в уме идея романа, романизированной биографии невозвращенца Виктора Альперта – нового Владимира Печерина – героя эпопеи той эпохи, современного типа богемного странника-пилигрима в конфликте с тоталитарной системой. Речь шла о пилигриме ресторанной жизни – от столика к столику, от дверей до дверей. Меня интриговала и завораживала в его темпераменте странная смесь скрупулезности, дотошности до занудства в соблюдении правил и ритуалов в его ежедневной светской и ресторанной жизни и одновременно его анархизм и радикализм его взглядов, где романтическая наивность сочеталась с фанатичной одержимостью одной-единственной идеей. Как выяснилось позже из рассказов самого Альперта, я несколько романтизировал его облик. Хотя идея побега из тюрьмы сама по себе романтическая.
Он добился своего: попал в Берлин с первой делегацией советских студентов в хрущевскую эпоху дружбы народов, фестивалей молодежи и мира во всем мире. Советский Берлин оказался еще более серым, чем Москва, и цензура там была строже. Музеи, музыка, милиция – все классическое, без выкрутасов, по регламенту. Цензурировали даже Брехта. Но Берлинской стены тогда еще не было. Идея у Альперта была простая: надо было оторваться от делегации, сесть в метро и выйти в капиталистической «западной» зоне. И просить политического убежища. Дальше начинались детективные подробности. Как объяснял мне Альперт, главное, чтобы тебя не задержали по дороге, в вагоне берлинского метро. Для этого надо было выглядеть иностранцем. Но что значит: выглядеть как иностранец? Это почти метафизический вопрос. Конечно, если ты не родился с оливковой кожей венесуэльца. Или, упаси господь, еще черней. Почему иностранец в России всегда узнавался с первого взгляда? Что в нем такого было, что советские люди тут же различали в нем человека не от мира сего, подданного иностранной державы? Иностранные тряпки, конечно, но, даже если напялить на иностранца рабочую телогрейку с кирзовыми сапогами, его все равно с местным не спутаешь. Почему? Для этого надо взглянуть на уличную толпу: иностранец выделялся в советской толпе своей прямотой. Вокруг были люди физически сгорбленные или согбенные страхом и заботами, собственной угрюмостью. Иностранец выделялся своей прямотой и открытостью взгляда, поднятым подбородком, расправленными плечами, готовностью улыбнуться. «Ну да, – согласился Альперт, – как в известной песенке: я милого узнаю по походке». Но там, в этой цыганщине, есть и строчка: он носит брюки галифе. В таком галифе «в Москву он больше не вернется, оставил только карточку свою». Альперт обдумывал, в каком галифе ему появиться в Берлине, чтобы больше в Москву не возвращаться.
Короче, прямота или согбенность – да, конечно, но при всем при этом Альперту надо было отыскать в Москве иностранный костюм. Костюм при этом должен быть классическим, нейтральным, без выкрутасов, чтобы тому, кто в нем одет, стать в Берлине невидимым. Чтобы на тебя смотрели, но не замечали. Для этого ты должен выглядеть как все вокруг тебя. Чтобы стать невидимкой, ты должен переодеться. Человек-невидимка надевает на себя костюм, перчатки, шляпу и даже черные очки, чтобы скрыть пустоту своего невидимого присутствия. Иначе ему не донести чемодан от квартиры до вокзала. Чемодан плыл бы по воздуху сам по себе, и все бы поняли, что его несет человек-невидимка. Чтобы спрятаться от людей, человек-невидимка должен был стать видимым, стать как все. Ты облекал невидимое в маску обыденности. Ты создавал видимость – условность – реальности. У Достоевского в начале романа «Идиот» есть подробное описание того, как нелепо был одет князь Мышкин в глазах русских соседей по вагону. В нем в России сразу можно было узнать иностранца. Альперту надо было, наоборот, одеться по-иностранному так, чтобы в нем никто не смог узнать советского гражданина.
Казалось бы, дело не слишком сложное. Но это только кажется. Он рылся в семейных сундуках (старые вещи не выбрасывались), раскопал в огромном семейном кофре допотопные штиблеты, совершенно непохожие на советскую обувь. Дедовский двухбортный пиджак сталинской эпохи был из добротного сукна. Вместе с ленинским галстуком в горошину Альперт стал одевать его, посещая коктейль-бар на улице Горького, где он принципиально общался с друзьями исключительно на английском. Нашел изъеденные молью белые нанковые штаны деда (он был до революции фармацевтом в Каунасе). В этих поисках он был в состоянии перманентного лихорадочного возбуждения. Ощущение риска – с маскарадным переодеванием. Он рыскал по комиссионкам, бродил по рынкам, знакомился с фарцой – из тех, кто приторговывал иностранной одеждой. Все это, конечно же, на глазах у органов, ну и что? Ну ищет молодой человек экзотический костюм – и что? Молодежь всегда модничает. А взрослые за этим наблюдают. И это был спектакль.
Для Альперта эти поиски были увлекательными – как в детективном романе. Он обошел все комиссионки – от Арбата до Марьиной Рощи. Попадались лишь старомодное тряпье или дорогой китч. В одной из комиссионок Альперт нашел лишь достойный темно-синий в полоску галстук, несколько похоронного вида, но зато без синтетики, как и дедовский, в горошину. Дальше дело не двигалось. Находились брюки, но они не подходили к пиджаку. Конторы индпошива еще кое-где остались, но все портные европейского класса или бежали в Европу с революцией, или были расстреляны Сталиным, или сами перемерли, окутанные облаком нафталина и пропитанные запахом советской валерьянки. Я лет на пятнадцать моложе Альперта, но и у меня еще жив в памяти о советском детстве отчетливый запах нафталина из семейных сундуков: мы рылись в старых вещах для детского маскарада в домашней кутерьме под Новый год. Запах нафталина и еще валерьянки – постоянные сердечные приступы у старших в доме: запахи советского страха и государственных праздников.