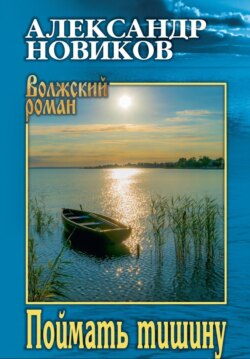Читать книгу Поймать тишину - Александр Новиков - Страница 11
Книга 1
Глава 9
ОглавлениеНежданно и негаданно для самого себя Петро Суконников выдал «троечку». Это означало, что целых три дня изнывал его могучий организм от лошадиных доз огненного первака.
Первый день – понятно: встреча, грех не выпить. На второй – ясное дело: ближе к полудню подтянулись похмеляться родной брат Митька, шурин Григорий. Долго сидели. Выпили по одной, по второй, по третьей, после считать перестали. На разговоры пробило, стали языками богатеть, не забывая при этом наполнять стаканы. В итоге – перехмелились!
Митька хоть и крепкий насчёт самогону, но домой пошёл неуверенно, сильно заплетая ногами, несмело опираясь о плечо супруги. А маленького, щупленького Григория Марьянка – Петькина сестра – почти на себе поволокла до родной хаты; еле шевелился раб Божий!
На третий день, пока Пётр Тимофеич соизволили открыть ясные очи, у Сашка уже собрались приятели. На кухне, под лёгкую музыку, потрошили они большого копчёного леща, запивая его пивом из запотевших бутылок. Поднявшийся с постели Суконников-старший, едва накинув верхнюю одежду, забрёл на кухню. Словно путник, преодолевший десятки километров по пустыне без воды, жалобно взглянул Пётр Тимофеич на молодёжь. Ребята откликнулись правильно. Через время все поняли, что пивом душу не обманешь. Так вот просто и бесшабашно канул в небытие ещё один день нового 2007 года.
Третьего января, утром, Елизавета, схмурив тёмные брови, уперев левую руку в бок, решительно вошла в спальную к мужу. Петро не спал, неподвижно лежал на спине, боясь открывать глаза.
– Петь, может, хватит над нами с Оксанкой издеваться? Кормить-то ещё кое-как справляемся, а навозу скопилося – немерено. Подымай Сашка и вертайтесь на землю, хватит в облаках витать! – При последних словах Елизаветин дружелюбный было тон заметно посуровел.
Петро едва шевельнулся. За годы супружеской жизни давно научился определять по голосу настроение жены. Понял, что сейчас она не шутит.
Довольно робко приоткрыл Пётр Тимофеич опухшие глаза. Нет, жены совсем не боялся. Ему было больно и стыдно. Стыдно перед всем белым светом, в первую очередь перед самим собой за то, что он – здоровый мужик, хозяин – провалялся в постели целых три дня! Целых три дня вычеркнул собственной рукой из своей и без того горемычной жизни. И теперь ему – Петьке – нужно было напрячься вдвойне. Во-первых, чтобы подняться, во-вторых, чтобы самоотверженным, ратным трудом отстоять перед самим собой своё же честное имя. Но тут вовремя вспомнился повод, из-за которого, в принципе, и произошло резкое падение его репутации. Это в значительной степени снижало, умаляло часть вины. По крайней мере, Петро сам так посчитал и, усаживаясь на кровати, ответил терпеливо дожидающейся «результатов» Елизавете:
– Всё-всё, не ругайся. Отдыхайте с Оксанкой. Мы нынче с сыном горы своротим.
– Ну да, – глядя на мужа, с лёгкой иронией в голосе сказала отходчивая супруга. Она-то знала, как сильно болеет Петро с похмелья. И ещё знала, что целых три дня он себе никогда не позволял. – Поглядим, чего вы нателите.
С последними словами отправилась она на кухню стряпать завтрак. А Петро, подбадривая сам себя, трясущимися, непослушными руками уже застёгивал рубаху.
С наступлением нового года погода стала меняться. Третье утро подряд было морозно. К тому же сегодня полетели с неба крупные пушистые хлопья снега. При полном безветрии кружили они в мутных облаках и, казалось, совсем не спешили опускаться на землю. Снегопад то усиливался, а то вдруг совершенно прекращался. Изредка, будто совсем уж закружившись и отстав от своих, одиноко падали с небес лапатые снежинки.
После чашки горячего кофе Петро Тимофеич Суконников, виновато пряча взгляд, велел жене будить сына, а сам, накинув телогреечку и шапку-ушанку, несмело вышел на крыльцо. От чистого воздуха слегка закружилась голова. Он стоял, внимательно разглядывая едва прикрытую снегом землю, синюшное на горизонте небо и тёмные, спящие в безветрии сады.
Идти к сараям не хотелось совершенно. Нет, не оттого, что дрожал измученный похмельем организм, конечно же, не оттого. Причина нежелания заключалась в другом. Чувствовал Петро Тимофеич, что всё, что делает, чем живёт и дышит, – никому, кроме него, не нужно. Абсолютно никому! Который год подряд наезжали к нему осенью развесёлые ребятки-спекулянты и за бесценок скупали лоснящихся толстых свиней и справных, выгулянных на воле бычков. Забивали скот, шутили, смеялись, перебрасывались фразами на непонятном Петьке языке. (Может, его же и материли.) А он стоял и смотрел, молча смотрел. И никакая на земле сила не могла заставить его – настоящего хозяина, работягу – думать о том, что эти весёлые ребята вовсе не спекулянты, а самые что ни на есть порядочные господа частные предприниматели. Ибо знал он, что выращенный в тяжелейших муках скот уже дня через два продадут то ли в столице, то ли ещё в каком крупном городе. Продадут втридорога! Знал он и то, что эти весёлые ребята за два дня положат в карманы своих брюк столько денег, сколько он – Петро Тимофеич Суконников – и в руках-то никогда не держал. И всё за его, в мытарствах и страданиях выращенную скотину! Останется ему с неё только-только на пропитание и одежонку сносную да крутые горки свежего навоза. И то ладно. А где его взять?
Вот она, воля вольная! Всё на свете знал Петька, а чего не знал, так чувствовал крестьянским нутром своим. И всё-таки скот отдавал.
Отдавал за бесценок. Потому что жить ему нужно было как-то, дочь учить надо, потому что сын взрослеет, да и вообще, по той веской причине, что не нужен больше никому Петькин скот, никому, кроме порядочных господ частных предпринимателей.
Навсегда засело у Петьки в мозгу, как приехала из Москвы дочка Варвары Полощухи, рассказывала на широкой сельской лавочке односельчанам о жизни столичной. Сказала она тогда, что, дескать, поругивается народец в Первопрестольной – недоволен ценами на рынках. Обижается на крестьян, будто это они дерут три шкуры с горожан за свою продукцию. Повздыхали удивлённые краюхинцы, поулыбались: «Да кабы мы по таким ценам, как в городе, скотину сбывали, давно бы уже на вертолётах летали, а не пеши ходили по пустующей на глазах деревне!»
«Вот она, воля вольная! – вздохнул про себя Петро Тимофеич. – А не хочется – не ходи ты на те базы! Эх, да как же не пойти?! Ведь и того заработать больше негде…»
В который раз подводя столь неутешительный итог крестьянским простецким мыслям, вдохнул Петро Суконников чистого воздуха на полную грудь и, несмело спустившись с крылечка, пошагал на хоздвор. С каждым шагом поступь его становилась всё решительнее и решительнее, словно была это поступь человека, несущего своё, больше уже не нужное тело на амбразуру вражеского дзота.
В хозяйственном дворе царил полнейший беспорядок. Всюду чувствовалась женская рука. Петро одни вилы искал минут двадцать. Уже хотел идти за спросом к супруге, но наконец-то попались они ему на глаза – в самой глубине двора, за дровяником.
– Да разве ж тут им место?! – раздражённо бурчал под нос разгневанный хозяин, поднимая инструмент и направляясь к сеннику. – Чего с них взять, с баб? Только волосы длинные. Раз управится – ищи свищи после неё. Хоть говори, хоть не говори!..
Завидев хозяина, нетерпеливо, протяжно замычали коровы. Уставившись огромными глазами на то, как он дёргает зелёное душистое сено, призывно тянули через изгородь база свои лохматые, с влажными носами морды. Разбуженные, завторили им бычки. В дальнем хлеву, истошно завизжав, подхватили эстафету свиньи. Закудахтали, пытаясь обратить на себя внимание, куры. И словно первая скрипка в этом грянувшем оркестре голосов животных и птиц, громко и жалобно заблеяла в овчарне высокая, на тонких ногах, рыжая овца.
– Эх, разобрало же вас! – разговаривал со скотиной Петро, разнося по яслям пахнувшее летом сенцо. – Прямо все как с голодного края сбежали! Сейчас, сейчас откачаем бедненьких.
Тяжёлые навильники делали своё чёрное дело. После третьего или четвёртого у Суконникова-старшего потемнело в глазах. Он присел на корточки прямо посреди двора. Бешено колотилось в груди сердце. Пытаясь восстановить его явно сбившийся ритм, Петька стал медленно, глубоко дышать ртом.
В то самое время подскочил на хоздвор Сашок. Давнишняя, доармейская телогрейка была теперь парню очень даже маловата.
Увидев спину сидящего неестественно отца, он встревоженно спросил:
– В чём дело, бать? Ты чего?
Петро, не желая показывать перед сыном слабинку, не спеша поднялся, не оборачиваясь, попытался отшутиться:
– В шляпе, сынок, дело, в шляпе. Ничего страшного… – И всё так же, стоя спиной к Сашку, махнув рукой, добавил: – Поищи там у хлева совковую лопатку, пойдём завалы разгребать.
Часа три кряду отец и сын Суконниковы упорно метали из сараев навоз. Самочувствие Петра Тимофеича нормализовалось, правда, на перекуры присаживался он чаще обычного. Задымив сигареткой, с удовлетворением поглядывал, как споро и ловко управляется Сашок с неприступными барханами навоза.
«Сразу видно силёнку молодую, – довольно думал Петро. – Давно ли сам таким был? Всего-навсего сорок с хвостиком, а уже не то, совсем не то! Эх, жизнь-жестянка, судьба-портянка, куда всё девается?!»
Старательно туша окурок, он снова брался за вилы. Конечно, тяжёлая работа шла не так быстро, как у сына, но зато уверенно и основательно.
Наконец с чисткой навоза было покончено. Петро Тимофеич, у которого насквозь промокла на спине телогрейка, опытным хозяйским взглядом окинул свежую подстилку по сараям, велел Сашку наносить из колодца воды.
Едва брякнуло ведром о ведро, как уже наевшаяся скотина любопытно завыглядывалась во двор.
«Вот как и не бывало тех трёх дней, – стоя вблизи база, подумал Петька. – Опять одно и то же, одно и то же…»
Коричневая, с белой звёздочкой во лбу корова тщательно вынюхивала плечо хозяина. Раздувала отдающие теплом ноздри, искоса поглядывала огромным голубым глазом на замёрзшие на Петькиной ушанке капельки пота. Он спокойно повернулся к ней и, взглянув прямо в её преданный и любопытный глаз, ласково подставил к морде животного ладонь. Корова пару раз потянула ноздрями и, ловко высунув кончик шершавого, как рашпиль, языка, призывно лизнула руку хозяина. И Петьку вдруг охватило такое нескрываемое умиление, такая неописуемая нежность укрыла его крестьянское сердце, что он и вымолвить ничего-то не мог. Просто стоял и смотрел в большущий голубой глаз животного. И казалось ему, что не он в него смотрит, а наоборот – глаз этот проник глубоко-глубоко, туда, где ещё накрепко держалась в измученном работой теле душа человеческая.
Петро слегка вздрогнул, когда сзади грюкнул калиткой Сашок. Тихонько прихлопнув ладошкой влажный коровий нос, молвил:
– Ступай, кормилица, теперь же напоим. – А про себя подумал: «Нужно с сыном по-серьёзному потолковать насчёт учёбы. Не ровен час, вот так же заглянет к нему в душу скотина – пропал человек!»