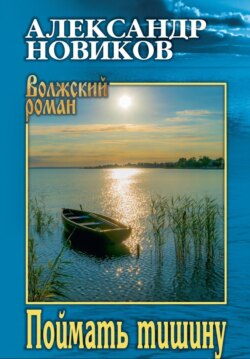Читать книгу Поймать тишину - Александр Новиков - Страница 12
Книга 1
Глава 10
ОглавлениеЕсли когда-нибудь кому-то что-то кажется, то над этим стоит серьёзно призадуматься. А может, то, что кажется, и не кажется вовсе? Может, так и есть на самом деле?
Не знаю. Я совсем запутался и теперь не мог различать, где начинается, а где заканчивается действительность; что кажется, а что происходит наяву.
Тишина. После стольких лет бешеного ритма жизни наконец уловил я и насладился полностью таким обыкновенным и в то же время таким необычным понятием. Насладился ли?
Тишина. Который день не врывается в моё царство одиночества ни единый человеческий голос, ничья нога не переступает порога хаты. Как хорошо! И как плохо.
Тишина. Слышно только, как звенит в ушах. Или это кажется? А кто его знает?! Невозможно понять, который день, который час. Как это? Да так, очень просто. Лежишь и слышишь только её – тишину. Нет ни границ, ни расстояний, ни звуков – ничего! Совершенно ничего! Есть только она – сладкая, всеобъемлющая, страшная тишина. Будто в могиле… ГДЕ?!
Неожиданно медленно катившаяся по гладкой дорожке равнодушия ленивая мысль натолкнулась на невидимое препятствие и остановилась, будто вкопанная, уподобившись лошади, не желающей преодолевать барьер. Произошло это в светлый праздник Рождества Христова. И вдруг понял я, что если сейчас же не поднимусь, не заставлю себя жить, то останется только одно: быть раздавленным и до конца уничтоженным этим ужасным, ледяным безмолвием. Тут же я посчитал, что главное преодолено. Выбор был сделан в пользу противной и ненавистной, а также единственной и потому самой прекрасной штуки под названием «жизнь».
По крайней мере то, что подразумевалось под этим понятием, имело хоть какую-то реальную основу. То же, к чему невольно прикоснулся, было слишком таинственно и пока ещё очень страшно. И так как, невзирая на душевные страдания, печку я топил исправно, иногда, а всё же испытывал чувство голода, то это позволило думать о том, что не готов я шагнуть в небытие. Как только это понял, даже слегка обрадовался.
«Нам есть ещё о чём с тобой потолковать, старый добрый мир, – подумал я. – Мы ещё, слава богу, не расстаёмся!»
Подумав так, вдруг ощутил непередаваемое облегчение. Тяжёлый груз, копившийся в сознании последние несколько лет, огромным камнем не спеша покатился под гору. В эту ночь, на Рождество Христово, уснул я самым спокойным и приятным сном.
На следующее утро поднялся отдохнувшим и, как самому казалось, совершенно здоровым. Только глянув в зеркало, заметил, что сильно исхудал. Теперь, при среднем росте, тело моё стало довольно-таки щуплым и лёгким.
Выбрив почти двухнедельную на лице щетину, я умылся, затопил печку и включил новенький телевизор. (Купил его, как и множество бытовой техники, когда в доме делался ремонт; купил, да так ни разу ничем и не пользовался.) Привычная реклама звучала совершенно по-особенному, по-новому. Будто и не реклама это занудливая, а громкая приятная песнь новой жизни.
Отдёрнув занавески на окнах, увидел я сквозь слегка промёрзшее стекло стоявшую неподалёку хату Суконниковых. Из трубы затейливо вился в небо сизоватый дымок. Только теперь вдруг вспомнилось о том, что уже давненько не являлся в гости друг мой Петро.
«Конечно, – с лёгкой завистью заключил я про себя, – некогда! Сына из армии дождались, радость у людей».
Прохаживаясь взад-вперёд по комнатам, можно сказать, на ходу просмотрел выпуск «Вестей» по телевизору и в очередной раз подложил в печку дров. Потом вдруг обратил внимание на царивший в холостяцком жилище беспорядок. Прибравшись, захотел есть. Продукты ещё кое-какие сохранились, и я приготовил прекрасный завтрак: яичницу-глазунью, свежезаваренный цейлонский чай с лимоном.
На самом деле человеку нужно очень мало. Важно лишь почувствовать: что нужно и для чего.
Конечно, совсем далёк был я от твёрдых убеждений в чём-либо. Но само решение не противиться естественным инстинктам уже чего-то стоило. Отсекая прошлое и напрочь отказываясь думать о будущем, постановил я просто жить, дышать только настоящим.
Позавтракав, с огромным искушением взглянул на постель, но тут же твёрдо сказал себе, что не прилягу, как все нормальные люди до самого вечера. Нужно было отвлечься, и я решился на настоящую, длительную прогулку. Раз уж что-то ещё удерживало меня в этом мире, то стоило осмотреться вокруг да заодно разведать, где теперь в Краюхе магазины, так как продукты заканчивались, а Петро всё не шёл.
Итак, основательно одевшись и наспех вооружившись девизом «Здравствуй, Краюха», шагнул я за порог отчего дома.
Стояло солнечное морозное утро. Лишь иногда, будто несмело просыпаясь, потягивал северо-восточный ветерок по спрессованным сугробам лёгкую колючую позёмку.
За праздничные дни снега выпало сантиметров пятнадцать, а так как на родине моей расчищать дороги особо не торопятся, то шагать было довольно-таки тяжело. И всё же я решил обойти деревню во что бы то ни стало.
Двадцать два года! Много это или мало? В России, где жизнь кипит подобно лаве с извергающегося Везувия, даже двадцать два дня, нет, даже двадцать две минуты – целая вечность! И казалось, что именно такой, нешуточный срок минул с тех пор, как покинул я малую родину. Двадцать два года, Боже правый!
Естественно, что в начале длинного пути стали охватывать самые тёплые, самые чистые воспоминания детства и юности. Чем дальше ступала нога моя по улицам и переулкам Краюхи, тем сильнее разгоралось в проснувшейся памяти пламя этих чудесных воспоминаний. Было приятно и больно. Приятно из-за того, что всё то, что я вспоминал, происходило когда-то на самом деле. А больно потому, что ни за что и никогда больше не вернуть тех счастливых, безоблачных лет.
Растроганный, бродил я по узким заснеженным деревенским улочкам. Помимо воспоминаний о прошлом, рождались в душе и другие чувства. Везде, куда бы ни пошёл, встречал мой пристальный взгляд великое запустение, убогость. Молча, с великим сожалением наблюдал я за серой, едва теплящейся жизнью малой родины.
Десятки пустых, с грубо заколоченными крест-накрест окнами домов! Их было так много, так одиноко и жалостливо просматривались они из-за покосившихся, полусгнивших изгородей, что я невольно ради интереса решил их считать. Ближе к вечеру выяснилось, что оставленных подворий всего сто шестьдесят восемь. Это почти добрая половина села!
На слабо протоптанных узких стёжках изредка встречались одинокие прохожие-односельчане. В основном пожилые женщины. Кое-кто из них здоровался. Тогда и я на ходу отвечал на приветствие. Но большей частью, как правило, люди разминались молча, только недоверчиво покосившись. Многих из них знал я раньше и теперь иногда угадывал. Меня же, судя по реакции, не признавал почти никто; или не хотели признавать? Кто их знает?..
Вот наконец вышел к центру села.
Особо привлекло моё взбудораженное внимание бывшее здание поселковой администрации. Вернее, то, что от него осталось: торчавшие из-под снега, окружённые густыми дебрями сухой травы, чёрные, обгорелые головешки.
А ведь была у этой оставшейся от большого пожара свалки своя, славная история.
В период основания Краюхи всем миром, при поддержке купцов-меценатов отстроилась добрая, уютная, светлая церковь Пресвятой Богородицы. Долгое время служила она краюхинцам и жителям окрестных хуторов, сёл. В праздники съезжались к ней экипажи и брички богатеев; сходились за подаяниями сирые, обездоленные, убогие. Всех принимала красавица-церковь. Громкой радостной песней лился в голубую небесную высь весёлый колокольный звон. Отражая солнечные лучи, позолоченной улыбкой издалека манили уставших путников величавые купола.
Пришли другие времена. Лихими вихрями закружила по поволжским степям Революция. Пронеслась и по Краюхе, изменив быт и взгляды людские, перевернув, прахом развеяв вековые старые устои.
После кровопролитных сражений Гражданской войны настала пора созидания. Решили краюхинцы собственных детишек грамоте учить, чтобы сделать из них квалифицированных инженеров, врачей, агрономов. Желающих постигать науки оказалось так много, что не нашлось в деревне подходящего здания, чтобы всех разместить. Тогда постановили: разобрать деревянную церковь и построить из неё школу. Так и сделали.
Разрасталась Краюха, крепла. В мирное время народилось так много детей, что вскоре и новая школа не смогла всех принять. Озаботился к тому времени вставший на ноги колхоз и при поддержке местных властей выстроил просторный, кирпичный, настоящий храм науки, со светлыми классами и большим высоким спортивным залом. Изо всей деревни уместилась ребятня да ещё и из близлежащих хуторов.
Старое здание использовали под интернат, в котором жили хуторские ученики. После разместили в нём правление колхоза и сельский совет.
Таким и помнил я его в то время, когда покидал Краюху.
Потом, рассказывали, когда распался колхоз, осталась там только администрация сельского поселения да кабинет участкового милиционера.
Однажды деревянное, за долгие годы солнцем высушенное здание вспыхнуло. Произошло это тёмной ночью. А так как колхоз распался, пожарной машины в Краюхе не оказалось, то нечем было бороться с огнём в самые первые, драгоценные, минуты пожара. Да и бороться было некому. После очередных покруживших над Краюхой теперь уже перестроечных вихрей с брезгливостью и равнодушием стали земляки смотреть на чужое горе. Поэтому, пока из района прибыла пожарная машина, тушить было уже нечего. Два дня простояла она на месте. Пожарные старательно ковырялись баграми в дымящихся руинах, тщательно заливали водой вновь возникающие очаги возгорания. На третьи сутки, когда чёрные, обугленные головешки перестали пускать дым, расчёт огнеборцев смотал рукава и отбыл в райцентр.
Так нелепо и бесславно закончилось существование здания, которое приносило огромную пользу краюхинцам: вначале как церковь, а потом как школа, правление, сельский совет.
Ещё долго чёрными тараканами ползали в народе слухи о том, что загорелось оно не само и не зря. И основания для подобных слухов были весьма серьёзные. Но доказательств чьей-либо причастности к поджогу не было. Поэтому слухи остались слухами.
А теперь я с сожалением смотрел на заметённое снегом пожарище и с ужасом думал: «Вот и это мы угробили! Что же за время сейчас такое? Строили люди школу, чтобы учить детей. А они выучились и… Наверное, даже переучились. Потому что легко, без всякого сожаления уничтожили то, что построили, и, как зеницу ока, берегли несколько поколений односельчан».
Хотелось не думать, не задавать самому себе каверзных вопросов, а снять шапку и заорать на всю деревню, на всю степь, на весь мир: Что же за время сейчас такое!!!
Здания почты, клуба, школы, магазины – остались на местах, как и прежде. Пожалуй, только вид у всех социальных учреждений был затрапезный и унылый. Давненько не касалась их оконных рам малярная кисть.
Нужно отдать должное магазинам. Их на центральной площади было сразу четыре, причём два абсолютно новеньких. А те, что постарше, сияли свежеотреставрированными фасадами, ловили скудный лучик зимнего солнца шикарными пластиковыми стеклопакетами.
Взглянув на них, я вспомнил Петькины слова: «Такое впечатление, Паша, что в этой стране строят только бензоколонки, церкви и магазины». Как будто без него я об этом не знал!
Прогулявшись по почти безлюдной площади, медленно направился к одному из магазинов. Над входом в умело отделанное пластиком здание красовалась вывеска с надписью: «ИЧП Андрей». Пока любовался мастерством маляра, из магазина вышел мужчина. Не сразу, но всё же я узнал его. Это был мой двоюродный брательник Василий.
Невысокого роста, коренастый в плечах, с чёрными неухоженными усами, он скользнул по мне взглядом и остановился, сжимая в руке пакет с только что купленным хлебом.
– Ну здравствуй, – на миг удивлённо взметнулись кверху его смоляные брови и тут же сомкнулись над переносицей.
– Привет, – спокойно ответил я.
В воздухе зависла неловкая пауза. Не знаю, что там думал он, а я полностью ощутил, что мы совершенно чужие. Если Васёк, так же как и дядька Шурик, начнёт раздувать ноздри, выказывать неудовольствие и обиды, то нам с ним не о чем разговаривать вообще. Конечно, виноват я, но в первую очередь перед своей покойной матерью. Это ей я что-то должен! Поэтому буду казнить себя до конца жизни! И всё! Больше никому и ничего я не должен!!!
А так ли? Ведь это с Васькой провожали мы вечерами девчонок, с Васькой катались по очереди на колхозном жеребце Дьяволе; с Васькой да с Серёгой пасли в дядькову Шурикову очередь овец на Зелёном…
Очевидно, и мой двоюродный брат подумал о том же. Он, будто переламывая в себе что-то давно решённое, смущённо заговорил:
– Чего в гости не зайдёшь?
– Ехать к вам, а дороги нет, – соврал я, потому что Петро уже сообщил, что хутора Зелёного больше нет.
– Да куда там ехать?! Мы давно в Краюху перебрались. Как колхозный скот перевели, трактора угнали – так и кончился наш Зелёный. Остался один серый. – Он горько усмехнулся.
– Это плохо.
– Чего там плохо! Её и Краюхи скоро не будет. Не нужна никому. Видал: что клуб, что больница – рухнут скоро! А никому ничего не надо…
– Это тоже плохо, – понимая, что Василий говорит правду, вздохнул я и, меняя тему разговора, спросил: – Дядька Шурик сильно обиделся?
– Ладно тебе. У каждого в башке своей паутиной затянуто. Нехай обижается, если ему от этого легче. А ты, будет время, заходи, не стесняйся. Хата моя теперь на улице Майской.
Я удивлённо взглянул на брата.
– Это где ж такая? Что-то ни одного названия не видел, пока бродил по деревне.
Василий усмехнулся.
– Да-да, Павлик, в Краюхе теперь и улицы, и переулки названия заимели. Даром что пусто стало, хоть шаром покати.
– Это для чего ж?
– Не знаю. Но кумекаю, что политика, братец, новая – заботливая о людях до крайности. Налоговой удобнее извещения рассылать. Опять же легче искать должников за электричество, за воду. За всё люди должны. А где их, рублики, брать, если ни работать, ни заработать негде? Обложили нас, Паша, на своей земле, словно волков серых. На флажки гонят, на флажки!..
И Василий, вроде бы случайно, ввернул мне о деревенской жизни такую тираду, что даже резкий в суждениях Петро Суконников отдыхал бы рядом с ним. После по-простому, по-уличному объяснил, где стоит его дом, и засобирался идти.
– Давай, братец, пока. Заходи, посидим, пообщаемся. Нас ведь не так уж много осталось – родственников. А может, сейчас пойдём?
Я, сославшись на срочные дела, вежливо отказался. Мимоходом спросил о младшем брате Сергее.
Василий отмахнулся, в сердцах ответил:
– Пьёт! Как телок дудонит. Жена умница попалась – тащит на горбу двоих ребятишек, а Серёга совсем скурвился, не выдержал нынешней житухи. Да мало ли кто её не выдержал?! В перестройку – мужиков семь-восемь повесилось в Краюхе. Недостатки, неустройство, безденежье, водка и прочее. Витю Конопатого помнишь?
– А то! Вместе на тракторах зябь поднимали.
– Тот как работы лишился, так в запой ушёл месяца на два. А осенью вовсе пропал. Через неделю в тернах нашли на шворке. Оно и нам недолго. Сами вымрем, как бизоны. – С последними словами Василий, окончательно попрощавшись, пошёл восвояси. Только свежий снег задорно скрипел под подошвами его войлочных ботинок с названием «прощай, молодость».
Я же, прикупив продуктов, считая по пути пустые хаты, долго, медленно возвращался домой. Было очень тоскливо и грустно оттого, что обворованной, обманутой, нищей предстала передо мной малая родина. Чувствовалось это особенно остро ещё и потому, что знал я, как процветают, живут в достатке деревни немецких бюргеров и голландских фермеров, как восторженно встречают рассветы шотландские пастухи и как горды своим по достоинству оцениваемым трудом французские, итальянские земледельцы.
«А ведь Краюха – тоже Европа, – философствовал я вечером, сидя за чашечкой чая у телевизора. Жаль, очень жаль, что только на карте. Что же мешает ей и сотням, тысячам таких же деревень обустроить свой быт успешно?» – задавал я сам себе извечный вопрос. И не находил ответа. Да, длиннорукие, хитрые чиновники-воры, да вечное разгильдяйство, безответственность власти, да неумение русского крестьянина относиться к своим обязанностям прагматично и скрупулёзно. Конечно, всё это есть. Но есть и другое. Взять хотя бы новейшую историю России, двадцать первый век – век высоких технологий, неограниченных возможностей, свобод. Ну отдали крестьянам в пользование землю, каждому свой пай, по-настоящему отдали. Бери! Вот, пожалуй, и всё. Ах да! Вместе с земельным паем получил русский мужик в пользование очень дельный лозунг, брошенный в деревни каким-то мракобесом от перестройки. Лозунг ясный, словно солнышко в безоблачном небе: «Конкурируй!»
Петька Суконников долго и нервно смеялся, когда рассказывал обо всём этом. С его слов получалось, будто бросили его в чисто поле на хромой кобыле с плугом, и должен он, чтобы не прослыть лентяем, соревноваться – конкурировать, значит, – с западным фермером, сияющим улыбочкой из окошка новенького трактора «Джон Дир».
Хм, почему раньше я об этом не задумывался?! И представляя в уме всю мощь иностранного агрегата, мысленно сравнивая его с хромой кобылой, теперь продолжал раздумывать дальше: а они самоубийцы – русские мужички! В эпоху экономических войн самое лучшее, что их в дальнейшем ожидает, – рабство. Разве работать за миску похлёбки – это не рабство? Вообще, по законам рынка, неконкурентоспособные не выживают. А какой у нас цивилизованный рынок? Ха! Базар – обыкновенный, дикий, стихийный базар!
Совершенно неконтролируемые, нерегулируемые никем и ничем цены, всякие там заговоры компаний, чёрные рейдеры, налётчики, господа лентяи-чиновники и прочее, прочее, прочее. Нет, они явно самоубийцы, эти русские мужички! Какое счастье, что нашёл я ещё хоть что-то оставшееся от Краюхи!
С такими очень невесёлыми думами погасил свет и, щёлкнув пультом телевизора, лёг в кровать. Снились мне в ту ночь то Петька верхом на кляче, облачённый в богатырские доспехи с копьём наперевес; то улыбающийся, мордатый дядька в комбинезоне, машущий бейсболкой из раскрытого окошка трактора «Джон Дир». А ещё снились мне пустые дома и торчавшие из-под снега, хаотично разбросанные оскалы бетонных балок перекрытий – всё, что осталось от разбитых, разрушенных краюхинских животноводческих ферм. Будто вновь орды безжалостного хана Мамая, сметая всё на своём пути, промчались через мою малую родину!
Наутро проснулся сам не свой. Вдруг почему-то захотелось немедленно заколотить окна родной хаты и вернуться под сень цивилизации. А что тут делать?! В этих заброшенных, пустынных джунглях! Если бы они не были родиной, то, клянусь, так бы я и сделал. Но они ею были, есть и будут навсегда. Наверное, поэтому, как только вспомнилось об этом, сразу же первый порыв угас; хотя совершенно не представлял, для чего деревенские, давно забытые проблемы должны были снова возникать на моём пути, а вернее – для чего и зачем так близко, так трепетно восприняло моё сердце чужую боль. Казалось, что такого не могло быть. Но так было. Оно – сердце – словно отделилось от разума. И когда разум говорил: «Паша, зачем ты вникаешь в дебри? Живи и радуйся. Тех денег, которые есть, хватит твоим детям и внукам. Не создавай сам себе лишних проблем!» – а на сердце сразу же жгло: «Эх, Павлик-Павлик, помнишь, как в Краюхе целыми улицами сдавались «под ключ» новые дома? Теперь они пусты! Помнишь, какие толпы молодёжи собирал на вечерний сеанс ухоженный, просторный сельский клуб? А ведь он почти рухнул! Помнишь, Павлик, детский сад, куда впервые привела тебя за руку мама? Амбарный замок висит нынче на его покосившихся дверях!»
Подобное несогласие в самом себе снова заставило крепко задуматься. И вновь молчание было ответом на все встававшие передо мной вопросы. Никакой логики! Ведь всего, ну, скажем, год назад я мог одной своей подписью смести с лица земли не один, а даже несколько хуторков, мешавших осуществлению какого-либо грандиозного проекта.
Людям – квартиры, хаты – под бульдозер. Легко! Все довольны, все смеются!
А все ли?
Быть может, какой-нибудь Григорий Пантелеич, бывший тракторист, так и не смог привыкнуть на чужом месте. Быть может, дни и ночи напролёт смотрел он тоскливым взглядом с балкона пятого этажа туда, за город, где в погоне за бешеной прибылью выкорчевал стальной бульдозер его вековые корни. Смотрел, смотрел да так незаметно, трижды прокляв несовершенный жестокий мир, и усоп.
Но тогда не задумывался я об этом ни на секунду. Так почему же задумался теперь?
И кто сказал, что в человеческой душе есть логика?! Откуда он это взял?