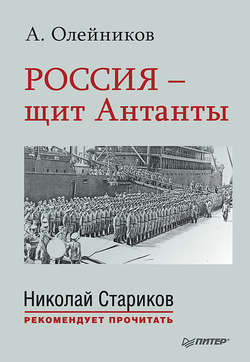Читать книгу Россия – щит Антанты - Алексей Олейников - Страница 5
Глава первая. Россия спасает союзников от разгрома и срывает план молниеносной войны германского блока (кампания 1914 г.)
§ 2. «Германцы в Париже не будут» – вклад в спасение Французского фронта Антанты и срыв германского стратегического планирования (Восточно-Прусская операция)
ОглавлениеДа не забудется никогда, что энергия и исключительная жертвенность, с которой Россия выполнила свое наступление, спасла союзников осенью 1914 года.[18]
Оперативное планирование сторон прошло под сильнейшим давлением плана Шлиффена для германского блока и плана Фишера для Антанты. Российское планирование (планы «А» и «Г»), австро-венгерский план «Р» и французский «План 17» в своей основе отражали это обстоятельство.
У Германии был единственный шанс выиграть войну на два фронта – использовать преимущества внутренних операционных линий, разгромить противников по частям. Иначе говоря, разгромить Францию, пользуясь разницей в сроках между французской и русской мобилизациями. Соответственно, от германских сил, изначально развертываемых на востоке (8-я армия в Восточной Пруссии), требовалось лишь держать фронт в течение 10–12 недель. Ради достижения своей главной цели внешней политики – сокрушения Франции – немцы жертвовали интересами своего австрийского союзника, который обрекался на поражение и потерю Галиции, предполагалось ими и оставление Восточной Пруссии. Исходя из экономических и политических предпосылок, Германия вести войну на истощение не могла.
Как отмечалось выше, в связи с особенностями стратегического планирования внимание русского руководства было приковано к двум театрам военных действий – восточно-прусскому и галицийскому. По сути, проводились две самостоятельные фронтовые операции – первая в интересах союзников (прежде всего Франции), вторая в собственно российских интересах.
Восточно-прусское направление (8-я германская армия против русского Северо-Западного фронта в составе 1-й и 2-й армий) было второстепенным и для России, и для Германии, но именно здесь решилась судьба мировой войны.
По срокам мобилизации Центральные державы значительно опережали Россию. Так, 8-я армия была отмобилизована уже к концу июля, а к концу первой недели августа – ландверный корпус Р. фон Войрша в Силезии. В то время проблемы, связанные с нехваткой людей, лошадей, имущества, преследовали русские войска (особенно сказались на действиях 2-й армии А. В. Самсонова).
Говоря о театре военных действий, следует отметить, что район Мазурских озер препятствовал согласованным действиям крупных войсковых масс (озера разрывали единый порядок русского развертывания на две части), нельзя не помянуть и различную колейность железных дорог противников и их густоту. Совершенно обоснованным представляется следующая характеристика восточно-прусского театра военных действий: «Восточная Пруссия по справедливости считается самым трудным театром войны в Европе. Правильнее даже считать эту провинцию целой сплошной громадной крепостью, до того сильны препятствия на этом театре как естественные, так и искусственные, возведенные немцами».[19]
Целью русских в Восточно-Прусской операции Северо-Западного фронта 4 августа – 1 сентября 1914 г. (командующий генерал от кавалерии Я. Г. Жилинский) было захватить кенигсбергский выступ и обеспечить правый фланг войск в Польше, окружить и уничтожить германские войска в Восточной Пруссии. Наступление 1-й армии планировалось севернее Мазурских озер с охватом левого фланга противника. 2-я армия должна была наступать в обход Мазурских озер с запада, чтобы разбить немецкие корпуса, развернувшиеся между Вислой и Мазурскими озерами, и воспрепятствовать отходу немцев за Вислу.
Цель действий 8-й германской армии состояла в сковывании русских сил и выигрыше времени для переброски германских войск с Западного фронта после поражения Франции. Германское командование по ходу развития событий не исключало возможности оставления Восточной Пруссии и отхода за Вислу.
Таким образом, для Северо-Западного фронта операция носила наступательный характер, а для 8-й германской армии – характер активной обороны (защитить Восточную Пруссию можно было только активным маневрированием, для чего местность с густой сетью шоссейных и железных дорог была весьма удобна).
В силу как объективных (наличие Мазурских озер), так и субъективных (отсутствие согласованности в действиях командующих 1-й и 2-й русскими армиями, а главное – ненадлежащее руководство операцией со стороны командования фронтом) факторов фактически проводилась не единая фронтовая, а две обособленные армейские операции.
Говоря о группировке русских войск, следует отметить, что ряд частей в состав армий не попали, а были сосредоточены в Польше, впоследствии войдя в состав 9-й армии. Более того, был изъят ряд частей в ходе операции. В частности, полагая, что предназначенных против Восточной Пруссии сил хватит с избытком, и стремясь развернуть операции на левом берегу Вислы, Ставка Верховного Главнокомандующего ослабляет 1-ю армию на один корпус, перебрасывая в ходе операции гвардию и 1-й армейский корпус к Варшаве (компенсация осуществляется в виде 20-го армейского корпуса). Не успевали к наступлению и казачьи полки, которые должны были нести службу войсковой конницы. Всего в составе Северо-Западного фронта имелось 17,5 пехотных, 8,5 кавалерийских дивизий, 1,1 тыс. орудий (из них 36 тяжелых), 250 тыс. человек: 6,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий (402 орудия, до 100 тыс. человек) в 1-й армии и 11 пехотных, 3 кавалерийские дивизии (702 орудия, 150 тыс. человек) во 2-й армии.
В этот период пехотная дивизия – главная тактическая и организационная единица, выражающая боевую силу государства в Первой мировой войне. Особенно стала цениться степень оснащения пехотной дивизии и армейского корпуса артиллерией – в эпоху тактики огневого боя главной силой становится количество орудий и оснащение ими полевых войск. В огневой мощи германские и австрийские корпуса превосходили русские. Ситуация усугублялась в связи с хроническим некомплектом русских пехотных частей. Именно поэтому количество русских дивизий на фронте почти повсеместно превосходило количество германо-австрийских, но это не всегда отражало реальное соотношение сил.
В той или иной мере это характерно и для Французского фронта – в августе 1914 г. 79,5 пехотных дивизий германской армии противостояли 89 дивизиям союзников России. Мы это отмечаем для того, чтобы формальное количественное преобладание русских соединений над противником в течение всей войны ни в коей мере не воспринималось как реальное превосходство русских над немцами в числе и тем более в огневой мощи.
Применительно к Восточно-Прусской операции отмечается не только превосходство немцев над каждой из русских армий (в придачу к таким немаловажным факторам, как наличие укреплений и знание местности), но и общее превосходство германцев в силах[20] (учитывая общий некомплект русских армий, отвлечение полевых войск на охранные и коммуникационные задачи, а также тот факт, что огневая мощь русской дивизии равнялась примерно 1/2 германской,[21] а ландверные (второочередные) части Германии по командному кадру и подготовке почти не отличались от полевых, лишь несколько уступая им в артиллерии).
В условиях кризиса 1915 г. состав русских дивизий еще более резко отличался от германо-австрийских. Если первые исчислялись сотнями штыков, то вторые аккуратно пополнялись и представляли собой полнокровные боевые единицы. Ситуация несколько начала выправляться с конца 1915 г. – начала 1916 г., но огневое превосходство дивизии противника имели всегда.
К началу операций на Русском фронте у немцев в составе 8-й армии генерал-полковника М. фон Притвица имелось 16 пехотных дивизий (200 тыс. человек при 1044 орудиях, из них 156 тяжелых) плюс 2 дивизии Силезского ландверного корпуса. В дальнейшем были осуществлены переброски подкреплений, в их числе с Французского фронта прибыли 11-й армейский корпус, Гвардейский резервный корпус, 8-я кавалерийская дивизия. Они соединения прибыли уже в конце операции, поучаствовав в первом сражении у Мазурских озер. 1-я ландверная дивизия (Гольца) также была переброшена на усиление 8-й армии с датско-германской границы. Но она, в отличие от корпусов с Французского фронта, была переброшена раньше, в момент смены командования 8-й армии, когда она отступала после Гумбиннена.
Стоит отметить, что для 1-й русской армии второочередные пехотные дивизии, тяжелая артиллерийская бригада, а также второочередные казачьи части, приданные в качестве войсковой конницы, к началу наступательной операции не прибыли. В 1-й армии тяжелых орудий не было (хотя предполагалась осада Кенигсберга). Во время сражения в состав 2-й армии прибыли 36 тяжелых орудий, и на бумаге число орудий достигло 738.
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что русские оставляли свои полевые части по тыловым гарнизонам (второочередные дивизии, составлявшие немалую часть сил фронта, находились еще в процессе развертывания), это в общей сложности отвлекло примерно 2,5 пехотной дивизии. Что касается немцев, то они стремились выводить крепостные второочередные войска в поле, а немецких орудий насчитывалось с учетом крепостных 1131.
Соотношение сил (тем более при наступательной операции русских) оказалось явно не в пользу Северо-Западного фронта. По сравнению с 8-й германской армией 1-я и 2-я русские в отдельности были слабее, на чем германцы и построили свой маневр.
Мы столь подробно рассмотрели соотношение сил противников, поскольку в работах некоторых иностранных специалистов присутствуют домыслы и откровенные инсинуации, искажающие реальность. Причем фантастические цифры кочуют из одних «трудов» в другие. Так, австрийский историк В. Раушер писал: «1-я (Неманская) армия, насчитывавшая 246 тысяч человек и 800 орудий, отрежет немецкие войска от Кенигсберга, а 2-я (Наревская) армия, имевшая в своем составе 289 тысяч человек и 780 орудий, воспрепятствует отходу немецких войск на Вислу. Немецкие войска насчитывали всего 210 тысяч человек и 600 орудий и, понятно, были слабее наступавших».[22] Комментарии, как говорится, излишни.
Не закончив полностью сосредоточение в связи с настойчивой просьбой французов о помощи, 1-я и 2-я армии перешли в наступление. Операция проводилась в интересах Французского фронта; многократно просьбы о скорейшем ее начале передавались представителями дипломатического корпуса и военного руководства союзников.
Структура операций русских армий была следующей.
Операции 1-й армии осуществлялись в направлении Владиславов – Сувалки путем наступления на фронт Инстербург – Ангербург.
4 августа произошло сражение под Сталлупененом. Оно вылилось во встречный бой между 1-м германским и 3-м русским армейскими корпусами (центр боевого порядка 1-й армии) с подходом других войск. Частям русской 27-й пехотной дивизии противостояли германские 1-я и 2-я пехотные дивизии 1-го армейского корпуса. Начавшись неблагоприятно для русских (заминка и временный отход 105-го пехотного полка 27-й пехотной дивизии), бой закончился поражением немцев, отошедших к Гумбиннену: «В итоге дня 17 августа (по новому стилю. – А. О.) 1-й германский корпус потерпел поражение. 1-я пехотная дивизия была серьезно потрепана, потеряв часть артиллерии; 2-я пехотная дивизия, действовавшая на широком фронте, была отброшена превосходными силами русских».[23]
6 августа было знаменательно сражением русской кавалерии (крайний правый фланг Русского фронта, корпус хана Г. Нахичеванского) с бригадой прусского ландвера у Каушен. Эскадронам пришлось вступить в бой с ландверной пехотой 6-й и 2-й бригад при поддержке артиллерии. Атака спешенной гвардейской кавалерии успеха не имела, но поражение немцев решила конная атака 3-го эскадрона конной гвардии ротмистра барона П. Н. Врангеля. Несмотря на сильный артиллерийско-ружейный огонь противника и выбытие из строя офицеров, германская батарея на ключевой позиции была захвачена.
7 августа развернулось Гумбинненское (Гумбиннен-Гольдапское) сражение – встречный бой с попыткой германского охвата русского 20-го армейского корпуса. Соотношение сил:[24] 74,4 тыс. штыков немцев при 224 пулеметах против 63,8 тыс. штыков русских при 252 пулеметах; 408 русских орудий против 408 легких и 44 тяжелых германских орудий.
Главный удар наносили 1-й и 17-й германские армейские корпуса. Русский 20-й армейский корпус, несмотря на тяжелую обстановку, выдержал удар и перешел в контратаку. Контрудар русских частей вызвал панику в 1-м германском корпусе, и его правый фланг в беспорядке стал откатываться назад. К этому времени был разбит и 17-й германский армейский корпус – 3-й русский корпус поймал его в огневой мешок. В германском описании войны говорилось: «Великолепно обученные войска, позднее всюду достойно себя проявившие, при первом столкновении с противником потеряли свою выдержку. Корпус тяжело пострадал. В одной пехоте потери достигли в круглых цифрах 8000 человек – треть всех наличных сил, причем 200 офицеров было убито и ранено».[25] Как отмечал русский участник боя: «На наш средний армейский корпус, 3-й генерала Епанчина, наступал 17-й германский корпус знаменитого генерала Макензена, едва ли не лучший во всей германской армии… Пехота Макензена, поддержанная сильнейшим огнем сразу развернувшейся артиллерии, перешла в решительное наступление и атаковала русский центр, проявив в этом встречном бою выдающийся наступательный порыв… Скоро немцы попали в устроенный здесь русским военным искусством огневой мешок, который наша артиллерия простреливала насквозь. Эта огневая ловушка их погубила. Жестоко расстреливаемые метким и сосредоточенным огнем нашей артиллерии, немцы к четырем часам дня дрогнули и неудержимой волной хлынули назад всей боевой линией, причем казалось, что паника одолела самую прочную немецкую дисциплину».[26]
35-я и 36-я пехотные дивизии немцев, потеряв моральную устойчивость и сея в тылу панику, отошли за р. Ангерап. Вечером 7 августа фон Притвиц, подведя итоги сражения, нашел невозможным дальнейшее продолжение предпринятой им наступательной операции.
Это было первое серьезное поражение немцев в войне.
Исследователь кампании 1914 г. на северо-западном театре военных действий профессор И. И. Вацетис констатировал: «8 германская армия в бою под Гумбиненом потерпела крупную неудачу, которая при продолжении боя могла бы обратиться в катастрофу».[27] Полковник Ф. Храмов отмечал: «Сражение под Гумбиненом выиграно русскими войсками. Они нанесли крупное поражение четырем германским дивизиям, имея со своей стороны значительно потрепанной только одну (28-ю) дивизию».[28]
Итогом сражения стали: а) смена командования 8-й германской армии и начало ее отступления на Вислу; б) самое главное – немцы приняли решение перебросить на восток с Французского фронта 6 корпусов. Три из них начали переброску (причем два из и так ослабленного и наиболее ответственного германского правого крыла, наносившего удар через Бельгию, – 11-й армейский и Гвардейский резервный корпуса; готовился к переброске также 5-й армейский из армии кронпринца). 5-й корпус был выведен с фронта и начал грузиться в эшелоны, но переброшен не был – надобность отпала. Перебрасывалась также 8-я саксонская кавалерийская дивизия.
9 августа продвижение 1-й армии было возобновлено, но соприкосновение с отходящим противником утрачено. Двухдневная остановка 1-й армии после Гумбиннена оказалась роковой для войск 2-й армии А. В. Самсонова.
В дальнейшем 1-я армия увлеклась осадой Кенигсберга, ее левый фланг (1-я кавалерийская дивизия) должен был войти в соприкосновение со 2-й армией, но безрезультатно.
Параллельно осуществлялись операции 2-й армии. Она имела своей задачей главные силы направить на фронт Рудшани – Ортельсбург (во фланг и тыл линии Мазурских озер).
10–11 августа произошел бой 15-го армейского корпуса 2-й армии с 20-м германским армейским корпусом у Орлау – Франкенау, окончившийся поражением немцев. Разгром группы генерала О. фон Шольца (3,5 пехотной дивизии, костяк которых составлял 20-й армейский корпус) на южной границе Восточной Пруссии создал предпосылки для успешного наступления армии А. В. Самсонова. «8-я пехотная дивизия русских энергичным ударом захватила с налета высоты у Орлау, а оборонявшую их 73-ю бригаду 37-й германской дивизии отбросила в северном направлении. Одновременно 6-я пехотная дивизия русских сосредоточенным артиллерийским огнем нанесла серьезное поражение 70-й ландверной бригаде».[29]
Этот бой стал вторым крупным успехом русских армий в Восточной Пруссии после Гумбиннена. Отбросив войска 20-го германского корпуса к северу, 2-я армия открыла себе путь вперед.
К сожалению, дальнейшие ошибки и неумение командования армии объективно оценить обстановку не позволили развить достигнутый успех. Уже с начала операции руководство армией начало допускать ошибки. Главная проблема заключалась в том, что «если бы генерал Самсонов знал действительную обстановку, а не наступал вслепую, то следовало всеми силами 13-го и 15-го корпусов и 2-й пехотной дивизии обратиться против группы Шольца и до окончания перегруппировки 8-й германской армии нанести ей решительное поражение. Но Самсонов представлял себе обстановку в соответствии с информацией фронта в том виде, что германцы отходят к Висле, а потому спешил на север, чтобы отрезать им пути отхода».[30]
С 11 августа «в руки германского командования начали регулярно попадать русские радиограммы оперативного характера, а иногда и армейские боевые приказы, которые германцы доставали якобы у убитых офицеров. Это указывает на то, что у них неплохо работала агентурная разведка… С этого дня германцы действовали, имея открытыми карты противника».[31]
Ситуация усугубилась и тем обстоятельством, что штаб 2-й русской армии оторвался от войск на пять переходов, что чрезвычайно осложнило управление войсками, особенно при недостатке технических средств связи. К тому же остановка 1-й армии вместе с уклонением 2-й армии на 60–70 км западнее для более глубокого охвата противника привела к тому, что 2-я армия, наступая на фронт Алленштейн – Остероде, оказалась в трех группах, растянутых на фронте около 100 км. На обоих флангах были созданы обеспечивающие операцию группы: на правом – в составе 6-го армейского корпуса и 4-й кавалерийской дивизии (оторванность от других корпусов на 50 км), на левом – 1-й армейский корпус, превращенный в неподвижный заслон у Сольдау, 6-я и 15-я кавалерийские дивизии. В центре наступала ударная группа в составе 13-го и 15-го армейских корпусов и 2-й пехотной дивизии 23-го армейского корпуса. Фактически около половины сил 2-й армии было задействовано на обеспечение операции, действуя пассивно. Массированного, таранного удара по противнику организовать не удалось.
Начиная с 13 августа (после перегруппировки) осуществлялась реализация замысла генерала Э. Людендорфа – нового начальника штаба 8-й германской армии. Оставив заслон против остановившейся 1-й армии, немцы (пользуясь развитой железнодорожной сетью и оперативной подвижностью) все силы сосредоточили против 2-й, решив сбить ее фланги и поймать в мешок центральные корпуса.
Фланговые корпуса самсоновской армии – 1-й и 6-й армейские – были сбиты с позиций в боях 13–16 августа и отошли, что дало возможность противнику окружить центральные русские 13-й и 15-й армейские корпуса. Если неудача 6-го корпуса была очевидна, то не все было однозначно в боях 1-го у Уздау. Так, корпус долго с успехом держался. Контрудар 14 августа против 5-й ландверной бригады и 2-й пехотной дивизии немцев был чрезвычайно энергичным. В скором времени контратакованные германские части были смяты и начали отход на север, многие из них поддались панике. В результате контратаки успех на стороне русских был очевидным, но развить его они не могли, так как их действия были слабо организованы, а руководство войсками со стороны командования корпуса отсутствовало, вследствие чего успех носил локальный характер. Весьма интересен следующий факт: когда на левом фланге 1-го русского армейского корпуса контратакой 22-й пехотной дивизии был достигнут значительный успех, около 11 часов на его правом фланге (в 24-й пехотной дивизии) был распространен по телефону от имени командира корпуса генерала Л. К. Артамонова ложный приказ об отходе, «скоро охвативший все части, и вследствие плохого управления в этом корпусе войска начали отходить».[32] Возможно, это недоразумение, а может быть, и одна из самых успешных операций германской разведки в войне. О данном факте писали исследователи самсоновской катастрофы комдив Г. С. Иссерсон и полковник Ф. Храмов.
В итоге германцы смогли спокойно приступить к окружению центральной группировки самсоновской армии – 13-го и 15-го армейских корпусов и 2-й пехотной дивизии 23-го армейского корпуса. С 15 августа около 13 германских дивизий действовали против пяти русских, личный состав которых был утомленным и голодным.
Следует отметить огромное значение (тем более при проведении операции на окружение) знания немцами из перехваченных радиограмм оперативных документов штаба 2-й армии с диспозицией войск и постановкой им боевых задач. Так, две перехваченные радиограммы от 12 августа вскрыли как группировку 1-й и 2-й армий, так и планы действий командующих этими армиями. Германские генералы действовали наверняка, «поэтому если бы русские радиограммы не помогли германцам, они знали бы о противнике так же мало, как и русские».[33]
Несмотря на все неблагоприятные факторы, в ряде боев русские войска центральной группы нанесли поражение немцам (Ваплиц, Мюлен и др.), заняли 14 августа Алленштейн. Части 15-го армейского корпуса и 2-й пехотной дивизии, разгромив 41-ю германскую дивизию, «фактически сорвали план германского командования окружения русских войск в районе Гогенштейна».[34] 15 августа бригада 1-й пехотной дивизии 13-го армейского корпуса, следовавшая в авангарде, около 14 часов атаковала в районе севернее Гогенштейна во фланг и тыл ландверную дивизию Гольца, и к 17 часам обратила ее в беспорядочное бегство на северо-запад.
Но общей картины это уже не меняло. Продвигаясь вперед, центральная группа корпусов 2-й армии сама еще глубже входила в капкан. Слишком поздно поступившее распоряжение на отход привело к плачевным результатам. 16–18 августа наблюдались попытки пробиться из окружения и гибель русских 13-го и 15-го армейских корпусов.
Не было принято мер ни по организации единого руководства окруженными войсками в целях прорыва, ни по помощи извне. В итоге отступающие части и группы солдат и офицеров вели локальные бои, пытаясь пробиться к своим. Даже в обстановке хаоса отступления и боев в окружении русские войска самоотверженно выполняли свой долг. «К полудню 29 августа (16-го по старому стилю. – А. О.) шесть русских батальонов 13-го корпуса, оборонявшиеся в лесу севернее Мёркена, в д. Мёркен и в озерном дефиле у Шлага-М, окруженные 1-м резервным корпусом (18 батальонов), дивизией Гольца, 37-й пехотной дивизией и 3-й резервной дивизией (тоже 18 батальонов), действительно отлично дрались и доблестно погибали».[35]
Немцы переключили внимание на войска П.-Г. К. Ренненкампфа.
Общая идея наступательной операции германцев сводилась к тому, чтобы, обходя левый фланг русских с юга и отбрасывая их к нижнему течению Немана, разгромить 1-ю армию. Противник располагал (помимо отдельных дивизий) уже шестью армейскими корпусами (в их числе переброшенные с Французского фронта 11-й армейский и Гвардейский резервный корпуса) против 4,5 корпуса у П.-Г. К. Ренненкампфа (2, 3, 4, 20-й корпуса, 57-я пехотная дивизия). Присутствовал у германцев и целый кавалерийский корпус – 8-я и 1-я кавалерийские дивизии. Противник обладал более чем полуторным превосходством в огневой мощи (212 батарей против 95–1146 орудий против 724). В начале операции около 12,5 активных пехотных дивизий русских противостояли 18–18,5 пехотным дивизиям 8-й германской армии. Непосредственно в операции участвовали 170 германских батарей против 85 русских.[36] Подход в ходе сражения второочередных русских дивизий не привел к изменению ситуации. Более того, эти необстрелянные соединения и дали основную цифру потерь 1-й армии.
Пользуясь тем, что 10-я русская армия доформировалась, а 2-я приводила себя в порядок, командующий 8-й германской армией П. Гинденбург провел 25–31 августа сражение у Мазурских озер. Бои, шедшие с переменным успехом (например, 29 августа 20-й русский корпус опять занял Гольдап), привели к вытеснению армии П.-Г. К. Ренненкампфа из Восточной Пруссии. Сами немцы считали, что «1-я русская армия не была разбита и значительная ее часть вообще не принимала участия в боях».[37] Э. Людендорф писал: «В большинстве случаев, в особенности в 20-м армейском корпусе, бои протекали не особенно удачно. Русские дали решительный отпор».[38]
В итоге к началу сентября противоборствующие стороны возвратились в первоначальное положение.
В Восточно-Прусской операции оба противника не решили поставленных задач: русские не смогли занять Восточную Пруссию, немцы не смогли выиграть на Востоке время для завершения кампании на Западе. Более того, произошло именно то, чего стремились избежать авторы плана Шлиффена: немцы ослабили ударную группу на Французском фронте ради интересов второстепенного театра военных действий и лишили себя надежды на благополучный исход всей войны.
Вместе с тем, говоря о Восточно-Прусской операции, можно отметить, что хоть немцы и терпели ряд жестоких поражений в рамках отдельных боев, но выиграли операцию. «19 августа (здесь и далее в цитате – новый стиль. – А. О.) 25-я и 29-я пехотные дивизии русских разгромили левый фланг 1-го германского корпуса генерала Франсуа; 20 августа под Гумбинненом были разбиты 1-й и 17-й армейские корпуса; в период августовского сражения Самсоновской армии русские разбили 6-ю и 70-ю ландверные бригады у Гросс-Бессау и Мюлена, ландверную дивизию Гольца и 3-ю резервную дивизию у Хохенштейна, 41-ю пехотную дивизию у Ваплица, 37-ю пехотную дивизию у Лана, Орлау, Франкенау; наконец, они нанесли поражение 2-й пехотной дивизии под Уздау. Но отдельные блестящие тактические успехи русских войск не были увязаны в общую победу… По вине русского высшего командования, с одной стороны, слепо шедшего на поводу у французского генерального штаба, а с другой – не сумевшего организовать согласованные действия двух армий, операция завершилась частным поражением 2-й и отходом 1-й русских армий».[39]
Но и германское командование не блистало особыми талантами, которые были раздуты после поражения 2-й русской армии. Даже германский официальный источник признает, что, несмотря на все ошибки русского командования, если бы после поражения 8-й германской армии под Гумбинненом 1-я русская армия продолжала преследование, а не топталась на месте, исход операции был бы совершенно иной: «Достаточно было последней (1-й армии) подойти, и бой, возможно, с большими потерями для германцев должен был бы быть оборван. Такая опасность все время давила на германское командование и не раз вызывала сомнения, не следует ли вывести из боя крупные силы, чтобы прикрыться со стороны Ренненкампфа».[40]
Да, германцы благодаря более умелым, но рискованным действиям Э. Людендорфа по внутренним операционным линиям добились тактической победы, нанеся поражение 2-й армии и окружив ее центральные корпуса. Германские войска опирались на более подготовленную материальную базу, мощная железнодорожная сеть позволила германскому командованию после неудачного сражения под Гумбинненом в кратчайший срок перегруппировать войска и обрушиться превосходными силами на 2-ю армию, а перехватываемые русские радиограммы позволили вести борьбу, зная планы противника.
Но все это было бы блестящей победой, если бы немцы преследовали только цель обороны Восточной Пруссии. Гибель двух русских корпусов – малозаметный оперативный эпизод великой войны. Другое дело, что это были первые бои, важные в психологическом плане, и погибли кадровые войска. Немцы чрезвычайно раздули свой успех при Танненберге, но самсоновское поражение стратегически не представляло собой никакого поворотного пункта в ходе войны. 2-я армия была пополнена двумя свежими корпусами и вновь стала в строй. Говоря глобально, Танненберг стал одной из многочисленных побед немцев, которые в конечном итоге привели Германию к поражению.
Вторым важнейшим значением операции стал беспрепятственный выигрыш русскими Галицийской битвы с разгромом австро-венгерской армии в целом. Командование 8-й германской армии, сумевшее извлечь оперативную пользу из разобщенного положения 1-й и 2-й русских армий, оказалось не на высоте положения, чтобы использовать успешную операцию против 2-й русской армии и довести ее до решительного стратегического успеха на восточноевропейском театре военных действий. Оно, несмотря на просьбы, протесты и жалобы австро-венгерского главного командования, повернуло свои войска на северо-восток против 1-й русской армии, предоставив русским свободу действий в Галиции.
18
Высказывание министра иностранных дел Великобритании Э. Грея.
Цит. по: Будберг А. П. Вооруженные силы Российской империи в исполнении общесоюзных задач и обязанностей во время войны 1914–1917 гг. – Париж, 1939. С.8.
19
На два фронта // Нива. 1914. № 52. С. 1012.
20
Головин Н. Н. Из истории кампании 1914 г. на Русском фронте – начало войны и операции в Восточной Пруссии. – Прага, 1926. С. 103.
21
Головин Н. Н. Россия в Первой мировой войне. – М., 2006. С. 379.
22
Раушер В. Гинденбург. Фельдмаршал и рейхспрезидент. – М., 2003. С. 41.
23
Евсеев Н. Августовское сражение 2-й русской армии в Восточной Пруссии (Танненберг) в 1914 г. – М., 1936. С. 38.
24
Радус-Зенкович Л. А. Очерк встречного боя по опыту Гумбиненской операции в августе 1914 г. – М., 1920. С. 92.
25
Цит. по: Сборник документов мировой империалистической войны на Русском фронте (1914–1917 гг.). Восточно-Прусская операция. – М., 1939. С. 15.
26
Андреев В. Первый русский марш-маневр в Великую войну. Гумбинен и Марна. – Париж, 1928. С. 28.
27
Вацетис И. И. Боевые действия в Восточной Пруссии в июле, августе и начале сентября 1914 г. Стратегический очерк. Действия 1-й и 2-й русских армий и 8-й германской армии. – М., 1923. С. 52.
28
Храмов Ф. А. Восточно-прусская операция 1914 г. Оперативно-стратегический очерк. – М., 1940. С. 20.
29
Там же. С. 31.
30
Там же. С. 31.
31
Там же. С. 31.
32
Там же. С. 46.
33
Там же. С. 35.
34
Там же. С. 55.
35
Евсеев Н. Указ. соч. С. 243.
36
Сборник документов мировой империалистической войны на Русском фронте (1914–1917 гг.). Восточно-Прусская операция. С. 20.
37
Там же. С. 22.
38
Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. – М., Минск, 2005. С. 65.
39
Сборник документов мировой империалистической войны на Русском фронте (1914–1917 гг.). Восточно-Прусская операция. С. 23.
40
Там же.