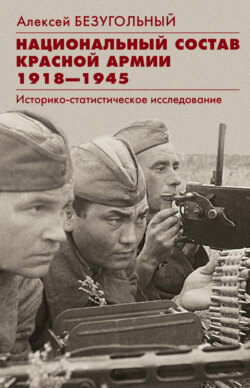Читать книгу Национальный состав Красной армии. 1918–1945. Историко-статистическое исследование - Алексей Юрьевич Безугольный - Страница 16
Глава 4. Комплектование Красной армии представителями нерусских народов в годы Гражданской войны
4.2. «На одинаковых основаниях с остальными гражданами…»: долгий путь к обязательной военной службе
ОглавлениеСказанного достаточно, чтобы составить себе представление о национальных воинских частях и разного рода национальных красных армиях как о формированиях по большей части слабо организованных и плохо обученных, недисциплинированных и нестойких в бою, часто политически ангажированных и своекорыстных. Впрочем, эти характеристики применимы ко всем партизанским формированиям периода Гражданской войны, а не только к национальным. Именно с этими сущностными чертами партизанщины боролись советские власти в течение всей Гражданской войны. Отсюда понятно, что значительно проще и выгоднее было использовать нерусских новобранцев в общей схеме комплектования войск на основе призыва военнообязанных. Рассмотрим этот аспект участия нерусских народов в Гражданской войне.
Формально с момента создания Красной армии граждане Советской России нерусской национальности принимались на военную службу «на общих основаниях и одновременно с соответствующими категориями русских граждан. Никаких изъятий для инородцев окраин установлено не было», – именно так, вполне однозначно утверждалось в «Справке об использовании призывавшихся на территории Республики инородцев», подготовленной 11 декабря 1919 г. врио начальника Мобилизационного управления Всероссийского Главного штаба Федоровым начальнику Всероглавштаба Н.И. Раттелем[412].
В основополагающем декрете Совета Народных Комиссаров «Об организации Рабоче-Крестьянской Красной армии», принятом 15 (28) января 1918 г., указывалось: «В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма»[413]. Правда, как отмечается в литературе, первоначальный проект декрета, перед утверждением подвергнутый многочисленной правке разных лиц, содержал слова «без различия национальностей». Их вычеркнул член коллегии Наркомвоена Э.М. Склянский[414]. Чем руководствовался этот военно-политический деятель, сейчас сказать нельзя, но следует отметить, что отказ от этой формулы не изменил общего посыла документа, ставившего единственный барьер для службы в Красной армии – классовое происхождение.
В многочисленных приказах Совета Народных Комиссаров и Реввоенсовета Республики, объявлявших всеобщие и частичные призывы, каковых за годы Гражданской войны было осуществлено несколько десятков, основными критериями, задававшими рамки призыва, являлись: социально-классовая принадлежность гражданина, его возраст, физическое состояние. Первый критерий был основополагающим. Для определения, как тогда говорили, «классового лица» военнообязанных граждан в июле 1919 г. была разработана и введена в действие отдельная инструкция[415]. Призываемый в Красную армию обязательно должен был относиться к трудовому классу, соответствовать требуемым возрастным характеристикам и быть годным к строевой службе. Эти критерии были определены с самого первого призыва рабочих, объявленного 12 июня 1918 г.[416], а затем распространились на всеобщие возрастные призывы, которые развернулись в сентябре 1918 г. (приказы РВСР № 4 от 11 сентября и № 6 от 22 сентября)[417] и все последующие призывы периода Гражданской войны. Национальность мобилизуемых граждан в них никогда специально не оговаривалась.
Несмотря на это, конкретные политические ситуации заставляли молодое Советское государство непрерывно решать национальный вопрос в связи с комплектованием вооруженных сил. Фактически проблемы в этой области встали на повестку дня только осенью 1918 г., когда комплектование Красной армии было поставлено на основу всеобщей воинской обязанности граждан (или, как тогда по инерции продолжали говорить, «всеобщей воинской повинности»). Неизбежно возникали ситуации принуждения к военной службе той или иной этнической группы.
Для определения места и роли нерусского населения в комплектовании Красной армии нужно принять во внимание географию Гражданской войны 1918–1921 гг. в России. Наиболее интенсивный численный прирост РККА пришелся на первые два года войны – до начала 1920 г. Основная тяжесть военных призывов этого периода падала на центральные губернии с почти монолитно русским населением, и особенно на крупнейшие промышленные центры страны – Москву и Петроград. Например, только по Москве и только в 1918 г. было призвано и отправлено в армию около 300 тыс. человек, что составило более трети от всех граждан, призванных в Советской России в этом году[418]. На окраинах страны, в том числе национальных, и в прифронтовой зоне призывы проводились эпизодически и, как правило, по решению местных властей или фронтового командования. Исключение составлял регион Поволжья, где среди местного тюркоязычного и финно-угорского населения призывы в армию проводились и при прежней власти. Большевики призывали татарское население наравне с русским, в том числе в местностях, где ни то ни другое не были доминирующим этносом, например в Киргизском крае. Татарами, как и русскими, здесь замещали недобор по мобилизации среди казахов. При этом советские власти настаивали на сохранении традиции призыва татар, чтобы не вносить смуту в ряды тех, кто уже нес службу. Учитывался прежний опыт призыва в Русскую армию. Например, при обсуждении призыва татар Ялуторовского и Тюменского уездов Тобольской губернии начальник штаба Сибирского военного округа Е.О. Монфор и военком Кригер в качестве аргумента в пользу призыва сообщали в Реввоенсовет Республики: «Татары всегда призывались и всегда были хорошими солдатами, и вопрос их освобождения неминуемо затронет вопрос увольнения уже служащих в армии татар…»[419]
В течение войны акцент смещался от добровольческих национальных формирований к обязательному призыву среди местных национальностей. В западных регионах мобилизации военнообязанных возрастов, как правило, проводились немедленно после утверждения в них советской власти. Причем власти Советской России стремились уравнять их в отношении нарядов на пополнения с остальными военными округами. Весной 1919 г. это было объявлено в отношении Украины и Литовско-Белорусской республики. Особенно активно мобилизации развернулись в многонаселенных украинских губерниях. Украина давала именно тот ценнейший «людской материал», на котором испокон веков держалась Русская армия. Поэтому советская власть подходила к мобилизациям на Украине столь же основательно, как и в губерниях Центральной России.
С февраля 1919 г. в советизируемых губерниях Украины организовывались военно-окружные управления по штатам аналогичных управлений в Советской России. Постепенно, по мере «налаженности как аппарата власти, так и успокоения массы»[420], разворачивалась работа по организации губернских, уездных и волостных военкоматов и учету военнообязанных, бывших офицеров, лошадей, повозок, пряжи. Уже к 15 мая 1919 г. только по четырем восточным губерниям (Харьковской, Полтавской, Екатеринославской и Донецкой) было взято на учет около 740 тыс. человек[421]. К концу июня 1919 г. на учет в 41 уезде Украины было взято 903,4 тыс. человек[422]. Численность запаса 22 подлежавших воинскому учету возрастов оценивалась Всероглавштабом в солидную цифру – 1875 тыс. человек[423].
С марта 1919 г., сначала в Харьковской губернии, а затем, в апреле, по мере укрепления советских органов власти и военного управления, в Киеве, в восточных губерниях Украины (Полтавской, Екатеринославской, Донецкой) стали объявляться призывы граждан, не эксплуатирующих чужого труда. Первые мобилизации проводились в основном в крупных городах (Киев, Одесса, Харьков, Екатеринослав и др.) среди пролетариата и давали относительно неплохие результаты. Мобилизации в сельской местности, напротив, «по политическим причинам» и «ввиду скверного положения» пробуксовывали[424]
412
РГВА. Ф. 11. Оп. 8. Д. 692. Л. 246–246 об.
413
КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза: Документы (1917–1968). М., 1969. С. 19.
414
Молодцыгин М.А. Красная армия: рождение и становление. 1917–1920 гг. М., 1997. С. 101.
415
РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 6. Л. 751.
416
Постановление СНК РСФСР № 436 от 12 июня 1918 г. объявляло первый в республике обязательный призыв рабочих и не эксплуатирующих чужого труда крестьян 1897–1893 гг. рождения.
417
Приказы РВСР № 4 от 11 сентября 1918 г. и № 6 от 22 сентября 1918 г., объявлявшие призыв на действительную военную службу «повсеместно всех граждан, родившихся в 1893–1897 гг.» (РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 3. Л. 2, 5).
418
Военный комиссариат города Москвы. История создания, становления, развития. М., 2006. С. 60.
419
РГВА. Ф. 11. Оп. 8. Д. 692. Л. 212.
420
РГВА. Ф. 11. Оп. 8. Д. 522. Л. 6.
421
РГВА. Ф. 11. Оп. 8. Д. 733. Л. 114.
422
РГВА. Ф. 11. Оп. 8. Д. 733. Л. 114.
423
РГВА. Ф. 11. Оп. 8. Д. 522. Л. 6 об.
424
РГВА. Ф. 11. Оп. 8. Д. 226. Л. 92–93.