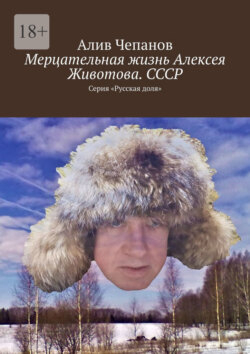Читать книгу Мерцательная жизнь Алексея Животова. СССР. Серия «Русская доля» - Алив Чепанов - Страница 4
Пролог
2.Деревенское детство
ОглавлениеЗаканчивались шестидесятые годы. Отец Алёши – Иван Андреевич Животов всегда имел безудержную тягу к путешествиям, ему никогда не сиделось на месте. Какой-то необузданный «ветер странствий» всю жизнь гнал и гнал его из спокойного столичного быта в дикую первозданную природу. Еще в молодости, будучи студентом Московского государственного университета, а потом и Московского геологоразведочного института, Иван Андреевич в составе геологоразведочных партий исколесил всю Восточную Сибирь, тайгу, монгольские и казахские степи. Там в диких условиях, преодолевая бурные реки и горные перевалы он чувствовал себя на своём месте. После ранения на фронте и получения инвалидности, путешествия стали возможными только на автомобиле и уже не по работе. Сына Алёшу он решил приучать к деревенскому быту с самого раннего детства, так как сам был родом из тульской глубинки. В связи с чем Иван Андреевич на всё лето снимал дачу в Долгопрудненском районе Московской области на Клязьминском водохранилище в районе речной пристани Хлебниково. Туда же на всё лето мама Алёши Светлана Николаевна «выписывала» сыну своих родных тётушек: Любу и Лену. Они заменили Алёши родных бабушку и дедушку, которые умерли ещё до его рождения. Бабушки с удовольствием возились и игрались с мальчиком.
Большинство детских воспоминаний, так или иначе у Алёши всегда были связанны с деревней и присущими ей атрибутами сельской жизни: с купанием в Клязьминском водохранилище, с играми на деревенских просторах, с полями, лесами, грибами, цветами, полянами, пароходами, рыбалкой, коровами, козами, собаками и кошками. Но самое первое и главное что поразило и впечатлило в деревне маленького Алёшу, это был пастух с длинным толстым кнутом, который пас большущее стадо коров. В то время корова была у каждого деревенского жителя. Время от времени пастух взмахивал кнутом, да так ловко, что кнут производил громкий хлопок похожий на выстрел и коровы после этого хлопка, недовольно мыча, тем не менее шли туда, куда было нужно пастуху. Этот весьма затрапезного вида в замызганном плаще и каких-то заляпанных: то ли грязью, то ли навозом, кирзовых сапогах с отворотами, этот простой деревенский мужик, казался Алёше каким-то волшебником, просто чародеем – повелителем коров и кнутов. Он мог смотреть на работу пастуха и ждать заветного хлопка-выстрела сколько угодно. И когда ему бабушки говорили со зла, что если не будешь учиться, то станешь пастухом, Алёша никак не мог понять, что в этом плохого. «С удовольствием стану и даже очень хочу стать! А если при этом и учиться сильно не надо, то это вообще то что мне и нужно!» – рассуждал про себя маленький Алёша. Простором, раздольем и волей веяло от этого чуда под названием – деревня. Так казалось маленькому человечку, вырвавшемуся не только из городских давящих со всех сторон железо-бетонных стен, но и из разнообразных ненавистных общественных объединений: яслей, детских садов, школ и пионерских лагерей, с их дисциплиной, режимом и построениями. Отец Алёши старался дать своему младшему сыну все то обширное представление о русских корнях, которое в детстве получил он сам. Он искренне считал, что сын должен, как и он сам, испытать ту радость от общения со всем деревенским миром, сельским хозяйством и ощутить на себе высший восторг единения человека и природы. Этих ощущений безвозвратно лишены городские дети, не выезжающие из города или выезжающие только по путёвке в пионерлагеря. Такие детки, не имеющие никакого представления о деревенской жизни, такой простой, радостной, вольготной и душевной, лишены чего-то очень и очень важного в жизни. Положительные эмоции летней сельской жизни, как бы компенсировали маленькому Алёше тот ужас городской жизни, проведённой им в дошкольных детских учреждениях. Только, здесь, в деревне, без привычных городских удобств мальчик чувствовал себя как будто бы дома, сам не понимая почему, но он расцветал как расцветало всё вокруг. Только на природе в слиянии с ней, Алёша чувствовал себя по-детски действительно свободным и полностью счастливым. Здесь было столько простора, можно было убежать от взрослых, спрятаться где-нибудь и предаваться своей детской свободе и гармонии с природой вместе с деревенскими пацанами и девчонками. Воздух здесь был совсем другим, не то что в городе, где повсюду дымили какие-то трубы и со всех сторон газовали автомобили. Деревенские же дети, казалось Алёше, были намного счастливей городских, они беззаботно бегали и играли на речке, в поле, в лесу, в садах и огородах. Городские же детки, впервые попавшие в деревню, не уставая в первое время всему удивляться, постепенно вливались в детский деревенский коллектив, отбрасывали очень скоро всякую обувь и через некоторое время носились босяком, похлеще местной деревенской детворы, по лугам, полям и просёлочным дорогам.
Берега Клязьминского водохранилища со стороны деревни, где снимали дом Животовы, были довольно высокие и крутые. По вершине крутого склона шла тропинка совсем близко от обрыва. Даже просто бегать городским детишкам по такому берегу, откуда все проплывающие корабли, яхты и моторные лодки казались какими-то игрушечными, было одно удовольствие. Они дружно везде носились как угорелые, лазили по садам-огородам и пихали в рот всё что только удавалось там сорвать. В поле рвали горох, в садах – фрукты и ягоды, в лесу – лесные ягоды и орехи. Конечно после этого болели всякими сопутствующими болезнями, но всё это происходило как-то дружно и весело. Все бескрайние просторы вместе с теми плодами, которые на них произрастали были в полном распоряжении деревенской детворы все будние дни.
Выходные же разительно отличались от будней своим невероятным наплывом «диких» городских отдыхающих, вырвавшихся на два дня из раскалённой, пыльной, дымящей трубами заводов и гудящей сигналами автомобилей, столицы. Первым делом, начиная с вечера пятницы, заполнялась частным автотранспортом огромная асфальтированная площадь-стоянка, расположенная перед зоной отдыха и пляжем. Со всех сторон к зоне отдыха подтягивались вагончики-палатки, торгующие пивом, в основном «Жигулёвским» или «Московским», газировкой, такой как: «Боржоми», «Ессентуки» или «Нарзан», сладкой газировкой: «Лимонадом», «Саянами» или «Крюшоном», мороженным: «Пломбиром в вафельном стаканчике», «Лакомкой» или «Ленинградским», бутербродами с копчёной колбасой, сыром или даже с чёрной икрой, воблой и горячими пирожками с мясом. Вот тогда тут – в зоне отдыха, закипало и приходило в движение всё: и выездная торговля, и местные дачники и весь понаехавший на выходные столичный люд. Прибрежная речная полоса заполнялась телами, лежащих сплошными рядами, дико уставших за рабочую пятидневку, москвичей. Разгорячённые городские жители ещё только приближаясь к зоне отдыха уже сбрасывали с себя верхнюю одежду и ходили все выходные в плавках и купальниках, пытаясь хоть как-то загореть за эти два неполных дня. В очень жаркую погоду, приезжие почти всё время проводили в воде, туда же перемещались с песчаных площадок и различные спортивные игры: волейбол, футбол, бадминтон и тому подобные. Московская интеллигенция среднего и старшего возраста предпочитала проводить время в тени в разных интеллектуальных играх: картах, шахматах, шашках и домино, периодически в перерывах между партиями охлаждая себя дальними заплывами и пропуская стопку – другую под бутерброд с чёрной икрой, копчёной колбасой или сыром. Пиво почти всегда сопровождалось, тут же сваренными прямо в пивной палатке, здоровенными красными раками или воблой. В каждой компании была разложена традиционная скатерть-самобранка в виде обычного казённого одеяла или брезента-чехла от автотранспортного средства. На подобной скатерти-самобранке присутствовала нехитрая привезённая с собой или купленная в местных палатках закуска, бывало даже шашлык, приготовленный в специальном павильоне совсем недалеко от пляжа. Ну и конечно же без водки «Столичной» или простой «Московской» ни один стол не обходился. Женщины обычно предпочитали вино.
В такие дни бурного взрослого веселья мелкой детворе было сложно пробиться к воде и просто поплавать как в спокойные будни. Вся водная прибрежная гладь кишела надувными матрасами, мячами и телами отдыхающих взрослых. Так было до того места в воде, где начиналась глубина. Где уже не чувствовалось под ногами дно и надо было уже только плыть, а не ходить и играть. Вот там был простор, но туда детвора не совалась, да и не отпускалась взрослыми. На глубину до бакена, покачивающегося на волнах в двух сотнях метрах от берега, плавали только взрослые, те кто хорошо умел плавать, как, например, отец Алёши, несмотря на свою, совсем несгибающуюся, ногу. В воде Иван Андреевич совершенно не хромал, не ощущал себя инвалидом и ни чем не отличался от других пловцов. За бакеном уже ходили речные трамвайчики, а ещё подальше судна на подводных крыльях. Большие лайнеры плыли величественно, степенно, не торопясь, зачастую с музыкой и песнями, разливающимися по всей водной глади водохранилища. Песни из палубных динамиков были слышны за многие километры. На Клязьминском водохранилище, среди детворы возраста Алёши, никаких соревнований по плаванию на глубину не проводилось, так как противоположного берега почти совсем не было видно, особенно в утреннем тумане. Соревновались только взрослые и то, только до бакена, который отмечал границу между зоной купания и судоходства. За бакен же никто, даже из взрослых пловцов, будучи даже в очень сильном подпитии, заплывать не решался. Прямо за бакеном, метрах в двадцати-тридцати, уже носились скоростные «Метеоры» и «Ракеты» на подводных крыльях. От них не успел бы увернуться ни один чемпион по плаванию, а огромные волны, исходящие от подводных крыльев скоростных лайнеров, накрывали зазевавшихся пловцов с головой даже у бакена.
Плотность человеческих тел в воде до начала глубины в особо жаркие дни была настолько велика, что Алёше казалось люди могут только стоять, а чтобы проплыть по мелководью хотя бы пару метров им места уже не хватит. Несмотря на то, что мальчик фанатично любил воду и иногда его было очень трудно выгнать на берег, он не любил такого слишком перенасыщенного скопления народа, он как-то терялся в толпе и на него это давило психологически.
Один раз Алёша пытаясь выйти из толпы, заполонившей всё мелководье до самого начала глубины, там, где ещё чувствовалось дно под ногами, немного отплыл в сторону предполагаемой глубины. На большие расстояния он не плавал, так как ему не хватало дыхания, почему он понять не мог. У всех ребят не было проблем с дыханием, а у него с недавнего времени, как только он научился более-менее плавать, начались проблемы – он задыхался после даже коротких заплывов. В этот раз, Алёша рассчитывал просто обогнуть толпу в воде, проплыв сверху по глубокому месту не очень далеко и планировал быстро вернуться на мелководье. Он хотел найти более-менее просторное, но в тоже время и не совсем глубокое место для плавания – чтобы чувствовалось дно под ногами и там уже потренироваться – поплавать. С этой целью мальчик заплыл на глубину и стал возвращаться назад, так как ещё не ощущал себя уверенным полноценным пловцом. Обогнув толпу и немного проплыв по предполагаемой глубине, остановившись, по его расчётам на месте, где уже можно было встать на дно, Алёша опустил вниз ноги в поисках дна. И… вдруг не обнаружил под ногами вообще ничего. Его как-то резко потянуло вниз, он начал проваливаться в холодную бездну. Это было совершенно неожиданно и потому он стал набирать воду носом, а потом и ртом. Ужас первый раз по-настоящему охватил маленького мальчика и от этого его ещё сильнее потянуло вниз. Сразу вылетели из головы все правильные телодвижения для плавания: кроль, брас, саженки и тому подобное. Почему-то, даже опустившись под воду примерно на метр, дна он так ногами и не нащупал. Алёша стал лихорадочно вспоминать как его учили плавать, но так ничего и не вспомнил. В истерике он начал делать какие-то инстинктивные природные телодвижения, вернее их делало само его тело. Алёша как-то автоматически задержал дыхание, взмахнул руками, преодолевая толщу воды и оттолкнувшись от неё, он сделал резкий рывок всем телом. Подняв голову на поверхность, Алёша резко выплюнул всю попавшую в рот воду и тут же вдохнул воздуха побольше. Немного успокоившись, он огляделся. Вокруг стоял такой шум и гам, плеск воды, детский визг и смех, что даже если он и смог бы что-нибудь прокричать, то его бы никто не услышал. Больше всего его взбесил беззаботный детский смех со всех сторон, в то время когда он совершенно натурально тонул, погибал и прощался с жизнью. Алёша мгновенно оценил обстановку и с сожалением сделал для себя неутешительный вывод, что теперь он предоставлен самому себе, в этой толпе ему никто не поможет, а родные очень далеко и его не услышат.
«Остаётся тихо или громко, неважно, тонуть. Так вот она какая смерть?! – ещё барахтаясь на поверхности по инерции думал Алёша. – Это вот так, перестал махать руками и всё? Пошёл в ту холодящую ноги глубину, которая так манит и влечёт куда-то туда – в черную бездну. Будто хочет мне там где-то в самой глубине открыть ещё что-то, чего я не видел и не знаю. А если там ничего нет? Вообще ничего? Только холодная мрачная пустота?! Не хочу проверять!» – он снова начал медленно опускаться, но тут же резко всем телом, уже отработанным приёмом, рванулся наверх и снова вынырнул на поверхность. Алеша жадно глотнул воздуха и отчаянно заколотил руками по воде, забыв про всякую технику плавания. Выбравшись на поверхность воды, он снова вдохнул побольше воздуха, сделал поворот всем телом и начал движение к берегу. Кое-как удерживаясь на поверхности, Алёша завертел головой, чтобы оглядеться вокруг. Мелководье в этом месте очень резко обрывалось и сразу начиналась глубина без дна под ногами. Где проходила граница между мелководьем и обрывом в глубину, никто не знал. Но многие детки особенно на надувных матрасах заплывали в эту зону, так как не понимали какая под ними глубина. Алеша прямо перед собой увидел такой матрас с двенадцати-тринадцатилетней незнакомой девчонкой. Вернее он увидел её пятки, она пыталась уплыть от него и отчаянно гребла по воде руками. Руки мальчика мгновенно вцепились в край матраса сами собой не дожидаясь команды от мозга. При чём десятилетний Алёша схватился за матрас так, что пока не почувствовал под ногами дно, его бы вряд ли кто-нибудь даже из взрослых смог бы от него оторвать. Поскольку Алёша имел почти уже вполне серьезный вес для своего возраста, он начал перевешивать и перетягивать матрас под себя и та девчонка, которая на нем плыла резко начала сползать в воду с другой стороны матраса. Девчонка заорала так, что заглушила весь гудящий как улей пляж. На тонущих детей конечно же обратили внимание и вместе с матрасом вытянули на мелководье. Алеша сразу со всех ног бросился подальше от воды и выбравшись на сушу, упал в прибрежный песок. Больше в этот день он уже не подходил к воде, как бы и кто бы его туда не звал.
Мальчик ещё несколько дней думал только о том, что вся та тысяча лет жизни, которую он сам себе отмерил могла закончиться прямо в один миг. Ещё ему казалось, что он там – на глубине, под водой, чувствовал смерть и она холодная, мрачная, жестокая и беспощадная, и ещё – она тянет за собой, и всё и больше ничего. Там, по ту сторону, теперь он был уверен – ничего нет, ровным счётом – ничего.
Вспоминая этот эпизод, Алексей всегда задавался вопросом, могла ли из-за него утонуть та девчонка, не успев она также как он вовремя ухватиться за матрас. «А если бы у меня был только такой выбор: или я или она, как бы я поступил? – и почему-то Алёша не мог себе представить другого варианта, кроме как: конечно же я!» Ему очень много рассказывали и в школе, и с экрана телевизора о подвигах, когда люди осознано шли на смерть ради жизни других людей. Слушая эти рассказы, видя документы, фотографии и просматривая фильмы про героев, он ничего не понимал. Он не мог представить себя на их месте. То есть представить себя он мог, но представить что он сам кончает по своей собственной воле со своей жизнью, этого он представить никак не мог, как не пытался.
Это были пожалуй самые яркие воспоминания деревенского дачного детства, разве что ещё коровы. Детство ассоциировалось в памяти Алёши обязательно с: колодцем, печкой, дровами, колуном, пастухом, кнутом и коровами. Как колют дрова Алёша мог наблюдать часами, а ещё он любил по вечерам смотреть, как возвращается стадо в деревню. Коров было много и они по вечерам возвращались в деревню, проходя мимо дома, в котором отец Алёши снимал две комнаты. Мальчик всегда выходил к калитке послушать кнут пастуха, который в это время «стрелял» особенно часто, так как всех коров надо было загнать в один узкий проход, а они именно перед домом переставали слушаться пастуха и разбредались в разные стороны. Картина захода стада в деревню действительно была какой-то завораживающей. Коровы при входе на деревенскую улицу, уплотнялись и представляли для маленького мальчика довольно зловещее зрелище из туш и рогов. Впереди шли две-три совершенно черные коровы с изогнутыми громадными белыми рогами и как-то озверело мычали, как казалось Алёши. Ещё ему казалось, что хлипкий забор из полусгнившего штакетника когда-нибудь не выдержит напора стада и коровы устремятся во двор, сметая по дороге всех и всё, включая его бабушек и его самого. Иногда он видел страшный сон с участием этих черных ужасных коров, одна из которых поднимала на рога его отца. Он так ясно это видел, что просыпался в холодном поту и в слезах, а если был выходной и отец был дома, то Алёша бежал к нему и успокаивался только тогда, когда видел его живым.
Это весь негатив, присутствующий в таком райском по сравнению с унылой городской режимной жизнью, месте. Всё остальное – только положительные воспоминания.
Алёша с раннего детства был очень любознательным и внимательным. Примечал всё вокруг, особенно его почему-то безудержно тянуло ко всему запретному. В то время была такая, порицаемая в Советском обществе, группа молодежи, которая вела праздный образ жизни, не хотела учиться, не хотела работать, а хотела только жить в своё удовольствие и всё. Такие группы возникали в каждом городском дворе и даже в каждой деревне. Взрослые их называли с каким-то отвращением, пренебрежением и с плохо скрываемой опаской: «шпана». Для нас мелкой детворы это были настоящие герои нашего времени, эталоны для подражания. Шпана слушала очень громкую свою особую, как правило, иностранную музыку и песни на английском языке, под неё танцевала, веселилась когда хотела и где хотела. Танцы представляли собой какие-то таинственные, агрессивные, даже воинственные на первый взгляд телодвижения. Молодые люди именуемые «шпаной», пили пиво, а иногда и креплёное вино прямо из горла, постоянно курили и водили с собой, таких же как и они на вид, лохматых девчонок, с которыми так в обнимку они всегда и ходили. Шпана всё делала как-бы назло всем окружающим и особенно постоянно косившимся на них пожилым бабулям. Одна составляющая единица такого общественного объединения мужского рода называлась «чувак или кент», женского рода – «чувиха или тёлка» иногда «старичок» и «старушка». Они не стриглись вообще никогда и очень редко причёсывались, ориентируясь в прическах и одежде на фотографии иностранных рок-звёзд. Чем длиннее были волосы, тем больше уважения в своём «шпанском» коллективе «чувак» к себе вызывал. В то время деревенская «шпана» носила разноцветные пестрые, цветастые рубашки и носила их определённым образом, не застёгивая ни одной пуговицы, а завязывая концы рубашек внизу на узел чуть выше пупка. Алёша быстро перенял эту понравившуюся ему моду и её распространил в среде деревенских и приезжих городских малолеток, за что был преследуем и гоним своими бабушками, которые были в курсе кто носит рубашки таким образом и что это за мода. Бабушки сами очень опасались шпаны и ещё больше опасались её пагубного влияния на маленького Алёшу.
Все деревенские годы были для Алёши незабываемы и прекрасны. Время свободы блуждания и шатания где хочется, сколько хочется, когда хочется и с кем хочется. Всё деревенское детство Алёша впоследствии вспоминал с каким-то трепетом, добротой и любовью. Хорошо помнил, наверное, и потому, что это тоже были те дни, часы и минуты настоящего счастья, которые мы в пылу обыденной жизни сразу и не замечаем, а осознаём их настоящую ценность лишь потом, спустя уже многие, многие годы, став уже совсем взрослыми людьми.