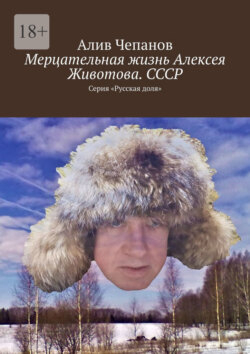Читать книгу Мерцательная жизнь Алексея Животова. СССР. Серия «Русская доля» - Алив Чепанов - Страница 5
Пролог
3.Городское детство
ОглавлениеАлёша был поздним ребёнком и наверное из-за этого не отличался безупречным здоровьем. Помимо врождённого порока сердца, он часто простужался и много болел респираторными заболеваниями, видимо от того, что бабушки старались его всегда потеплее укутывать, а не закалять. В самом раннем детстве ему сделали операцию на аденоиды, после чего ему прописали какие-то ужаснейшие процедуры по прижиганию чего-то в горле какими-то белыми дымящимися стержнями, которые он потом вспоминал всю жизнь, как страшный сон. Периодически, примерно раз в неделю мама возила его, полуживого только от предчувствия этой изощрённой пытки, в какую-то специальную больницу. Переживая всю дорогу только от предчувствия этой пытки и потом в процессе уже всю нестерпимую боль, от которой слёзы лились как-то сами собой, Алёша всё это время пытался хоть как-то отвлечься от этой страшной экзекуции. Он думал о «наших» – о разведчиках, подпольщиках, партизанах, которые во время войны попадали в плен к гестаповцам и те пытали их выведывая военные секреты нашей армии. Он был уверен, что в то время гестаповцы просто не додумались до такой изощрённой пытки, иначе бы они только её и применяли.
Кроме того Алеша с самого раннего детства очень мучился зубами, ненавидел стоматолога с его адской дрелью и относил его также к гестаповцам, как и почти всех врачей. Тогда в самом младшем детсадовском возрасте Алёша был постоянным пациентом стоматолога и находился в полном отчаянии от того, что эта регулярная пытка на зубах может вообще никогда не закончится и останется с ним на всю его оставшуюся жизнь… Но случилось чудо – примерно в семилетнем возрасте вдруг все проблемы с зубами как-то резко закончились. В дальнейшем в школе, при периодическом плановом осмотре уже больше ничего никогда не сверлили, а иногда только ставили пломбы, которые вскоре вылетали, их снова ставили, а они снова вылетали, зато это было совершенно безболезненно. Алёша в конце концов, уже учась в школе, просто забыл что у него есть зубы. Зато ему постоянно напоминали на медосмотрах о его сердечной патологии. Кормили Алёшу с раннего детства как на убой, что мама, что бабушки. Вес в скором времени начал зашкаливать до такой степени, что его начали водить и к эндокринологу. Сам же Алёша не испытывал никаких неудобств по поводу обнаруженных врачами проблем с сердцем или ещё с чем-то, за исключением разве что реальных проблем с ожирением, здорово мешающим ему в жизни. Алёша совершенно не подходил социалистическому обществу, он с детства не любил работать, не любил прилагать вообще хоть какие-нибудь усилия и делать много лишних как ему казалось телодвижений. С раннего детства он любил: рисовать – мог рисовать обычным карандашом часами; сочинять всякие истории и их рассказывать сверстникам или бабушкам; играть в разные настольные игры, особенно в карты и шахматы; любил стрелять в тире из пневмонического ружья – «духовушки»; смотреть кинофильмы и мультфильмы в кино – в цвете, в меньшей степени по черно-белому телевизору. Беда в том, что все эти занятия предполагали минимум движений. От малоподвижного образа жизни ожирение только прогрессировало. От своего избыточного веса и далеко неспортивного внешнего вида, Алёша сильно комплексовал в компаниях сверстников, когда те соревновались в каких-нибудь физических упражнениях, недоступных толстым: на турнике, на канате, на кольцах, на брусьях и тому подобном. Он любил футбол, но в игре из-за его нерасторопности, тяжёлого и неловкого бега, и одышки как у старика, Алёшу ставили в лучшем случае в защиту, а чаще всего на ворота.
Несмотря на лишний вес, всё же реакция у толстого Алёши была уникальная. Если он бил кого-нибудь, тот не только не успевал отбить удар и отклониться в сторону, но даже глазом моргнуть не успевал. К сожалению этот талант в мальчишеской драке приносил ему мало пользы, поскольку сам удар у Алёши ещё не был поставлен как положено. Показать и поставить было некому, а спрашивать боксёров было неудобно. Могли подумать, что он до сих пор не умеет драться. Что касалось борьбы, ему казалось, что он познал от старшего брата Лёни всё, что ему было необходимо знать. Все показанные Лёней приёмы Алёша испытывал непосредственно на себе и если что-то было непонятно, брат не без удовольствия повторял ещё и ещё раз для полного закрепления пройденного материала. Лёне же различные приёмы и удары демонстрировал его отец – старший офицер внутренней службы дядя Володя. Любовь к боевым искусствам объединяла братьев с самых ранних лет и встретившись, они традиционно первом делом сразу отходили в сторону и искали место для спарринга. Лёню в свою очередь, как старшего брата и более сильного партнёра, устраивал Алёша в качестве спарринг-партнёра, так как он представлял собой самый настоящий борцовский мешок или боксёрскую грушу. На нём Лёня отрабатывал и доводил до совершенства выведанные у отца приёмы рукопашного боя, те болевые приёмы, которые не преподавались ни в одной секции. Алёша со своей стороны никогда не жаловался, а наоборот терпел боль до последнего и всегда прилагал максимум усилий, стараясь всё-таки победить своего старшего брата. Он серьёзно изучал показанные Лёней разные приёмы и таким образом постепенно развивал свою технику боя, создавая свой особый смешанный стиль: борьба всех видов, плюс уличная драка, плюс бокс – всё в одну кучу. Единственным постоянным условием любой его схватки было время. Он должен был действовать и победить противника быстро, пока ещё не чувствовалось недостатка воздуха – одышки. Бой должен был быть коротким: раз, два, ну в крайнем случае – три, и противник должен быть повержен. Иначе, как говорили ребята-спортсмены, не хватит так называемой «дыхалки». В борьбе с «дыхалкой» было легче, можно было держаться долго, но вот с боксом полной ясности по времени ещё так и не было. Одно было ясно, что на длительный бой у Алёши «дыхалки» точно не хватит. Предстояло всё это выяснить на практике.
В секцию же бокса или борьбы был вход только четверочникам, отличникам, упакованным – деткам богатых родителей и «блатным» – чьим-нибудь родственникам из власти предержащих. Как раз тем, кого этот бокс или борьба не очень-то и интересовали. Алёше же нужны были два-три правильных и эффективных удара, а он их не знал. Алёша везде: и в жизни, и в кино старался запоминать разные удары и приёмы. Что-то подглядев в кино, что-то в уличных драках, что-то у ребят, занимающихся боксом или борьбой, так и создавался его личный стиль, система самообороны и нападения – быстрый и короткий уличный бой, практически совсем без правил, сокращенно он его называл «убой». Настоящую драку на улице совершенно незнакомых парней без судей и вообще без тех, кто бы мог вовремя разнять дерущихся в случае чего, бой до конца, может быть даже до смерти – вот что считал Алёша настоящим прикладным боевым искусством, на которое не жалко было тратить свободное время. После регулярных практических занятий с Лёней он слыл среди сверстников хорошим борцом и неплохим боксёром, когда наконец поставил-таки удар, общаясь с знакомыми боксёрами. Единственно, что ему никак не давалось, это ударить другого человека в лицо, как бы зол он на него не был. Боксёры-разрядники же спокойно били любого соперника, но на тренировках. Им не хватало уличной практики реального боя и они тоже никогда не били других в лицо вне ринга. Следовательно боксёры-спортсмены уже ничего полезного ему дать не могли, так как в обычной жизни также как и он не могли ударить человека в лицо. Алексей же упорно смотрел и смотрел бокс по телевизору и вроде бы всё было понятно, но на практике у него не поднималась рука. Это был тот психологический барьер, который мешал мальчишескому продвижению по дворовой и школьной иерархической лестнице, ещё мешала природная жалость, сострадание и доброта ко всему живому, с ранних лет привитая ему мамой и бабушками. В душе настоящего уличного пацана, по его разумению не должно было быть место этим совершенно бесполезным для бойца качествам. Он должен был стать непременно злым, жестоким и непримиримым к врагам. В школе и на улице в фаворе был тот, кто мог не задумываясь ударить своего оппонента прямо в лицо и не важно за что, пусть даже не за что, так для профилактики. Это было эффектно и ценилось среди ребят больше, чем знание какого-нибудь приёма борьбы или даже спортивный разряд, например по боксу.
Средняя школа, в которой учился Алёша, именуемая в народе как «шэпэша», что расшифровывалось, как «школа подрастающей шпаны», пользовалась самой дурной репутацией среди прочих школ Тимирязевского района. В школе царили «законы джунглей» и правила свободной любви среди учеников начиная с самого юного возраста. Девчонки начиная уже с тринадцатилетнего возраста гуляли с пацанами намного старше себя и не просто гуляли. Начав раннюю половую жизнь, семиклассницы ощущали себя уже вполне взрослыми и крутыми тётями, их уважали и боялись не только сверстники и старшеклассники, но даже и взрослые. Про них говорили: «Ты знаешь с кем она ходит?! О-го-го! С самим…» Бывали случаи когда в восьмом классе девчонки уже рожали и выходили замуж.
Многие ученики шэпэша ещё не доучившись до первого выпуска – окончание восьмого класса, уходили в спецшколу, на зону-«малолетку» и дальше уже на взрослую, за тяжкие и довольно дикие для того времени преступления, такие как изнасилование малолетнего, зачастую даже не девочки, а такого же мальчика только на пару-тройку лет моложе. В школе и вокруг неё издевательство старших над младшими или слабыми было привычным явлением и в крайнем своём пике могло доходить и до полного рабства. Просто сделать из кого-то слабей себя прислугу – «шестёрку» это вообще было в порядке вещей. Самые крутые школьные пацаны – «основные», как они себя называли, были абсолютно раскомплексованные и раскрепощённые ребята, зачастую из пьющих семей и уже с ранними психическими отклонениями. Начиная уже приблизительно с третьего класса такие ребята уже курили и не отказывались когда старшие им наливали стакан-другой портвейна, чтобы посмеяться над ними, когда они опьянеют. Они учились кое-как или не учились вообще, посещали школу в основном чтобы собрать дань – отобрать карманные деньги у младших и слабых. Когда «основные» подрастали и становились, что называется, уже здоровыми лбами, они уже стояли на учёте в детской комнате милиции за неуд по поведению в школе, разбитое стекло, кражу или какую-нибудь драку. Будучи двоечниками, они оставались на второй и третий год в одном и том же классе. Переростки-второгодники умудрялись держать в страхе и обирать не только младших и ровесников, но даже и старшеклассников. Любая встреча с «основными», в школе или вне школы, начиналась с обязательного окрика: «Стоять!» и последующего удара в лицо несчастного паренька, попавшегося по воле судьбы им на пути. Если же паренёк не сразу остановился, не услышал или не так поглядел, то следовало незамедлительное наказание. Независимо от силы удара, удар в лицо был крайне эффектен и производил нужное впечатление на жертву, а заодно и на публику. Обычно такой наезд проходил в школе на перемене и как правило на глазах других учеников, но мог был произведен и в любом другом месте при встрече, например, на улице. Но всё же главной целью было устрашение всех остальных, поэтому «основные» предпочитали места с большим количеством зрителей. Слишком очевидного повода было не нужно. Достаточно было спросить у встреченной жертвы закурить или какую-нибудь мелочь типа десяти – двадцати копеек. Больше двадцати копеек никто никогда не спрашивал. Среди шпаны бытовала байка, что за двадцать копеек не посадят, а вот если спрашивать больше, тогда могут. Били и обирали «основные» всех подряд, кто не имел хорошей «крыши» в виде старшего брата, соседа или знакомого в старших классах. Били, чтобы указать жертве на её место под солнцем и воспитания в ней покорности и постоянного страха. Жертве в очень жестком силовом виде объясняли, как она должна себя вести перед крутыми – «основными» пацанами, что она должна была стоять перед ними смирно, руки держать по швам и молчать как бы над ней не издевались и чтобы с ней не делали. Всё, что позволялось жертве, это жалобно просить о пощаде. Любое другое поведение жертвы «основной» расценивал как «борзость», то есть высшую степень наглости и неуважения к старшим товарищам. Такое поведение немедленно наказывалось уже более сильными ударами и уже не только руками. Продолжительность экзекуции зависела от настроения «основного» пацана или пацанов, сопровождающих «основного», так как по одному они почти никогда не ходили. Избиение как ответ на «борзость» могло продолжаться до крови или до падения жертвы. Младшие классы, присутствующие в школе на школьном дворе или рядом со школой на переменах или после уроков, подобными сценами подготавливались к будущей настоящей школьной жизни. Малыши наглядно знакомились с жёсткими традициями шэпэша. Младшие школьники быстро начинали понимать, чтобы над ними не издевались, не избивали и не унижали на глазах у одноклассников, надо смириться, закусить губу и регулярно выплачивать дань старшим из той мелочи, которая ежедневно выдавалась родителями на завтраки и карманные расходы. По школьным традициям младшие должны всячески угождать старшим – таков был закон школьных джунглей. Чтобы прекратить поборы старших с младших родители некоторых классов на родительских собраниях решали сдавать деньги на обеды и завтраки напрямую администрации школы через родительский комитет. Тогда некоторые нерасторопные, слабые и забитые ученики оставались вообще голодными, так как прямо перед ними их столы опустошались хулиганами и двоечниками, почти у них же на глазах. Школьники же, не проплачивающие дань старшим, приходили из школы почти каждый день с фингалами, разбитыми носами и в слезах. Регулярная психологическая обработка и сбор дани старшими с младших происходил скрытно только от взрослых: родителей, учителей и в особенности от физруков. Оба физрука были бывшими спортсменами и тоже были не прочь потренировать удар и лишний раз врезать кому-нибудь из распоясавшихся старшеклассников. Один был бывший тяжелоатлет и представлял собой, особенно в глазах детей просто ходячую гору из мяса и жира, и имел здоровенное пузо. Ученики между собой его звали по имени – Михаил, но с каким-то отчётливо смиренным уважением. «Основные» держались от него подальше, хоть раз испытав на себе его тяжёлую руку. Второго звали между собой также по имени – Валентин, он был бывший лыжник и совсем ни Геракл на вид, по сравнению с Михаилом, но зато больше него любил почесать руки и отработать пару – тройку боксёрских ударов, тем более что груш и тренировочных мешков в виде довольно крепких уже старшеклассников было предостаточно. Таким образом, но только в пределах территории школы и своей видимости, физруки хоть немного сдерживали разгул хулиганства, мелких грабежей и насилия в школе. За стенами же школы малолетние группировки контролировались только инспекторами отделений милиции, которых было очень мало и работали они со школьниками крайне не эффективно. Работа детской комнаты милиции порой заключалась лишь в постановке всех учащихся, имеющих стабильный «неуд» по поведению, замеченных в хулиганских выходках, поборах с младших или в хищениях, на учёт. Чаще всего этим и ограничивалась их работа с малолетками. Детвора, попавшая на учёт в детской комнате, так там и стояла до получения уже реального срока или ухода в армию. Избиение старшими школьниками младших, унижение их человеческого достоинства и издевательство ничем вообще никогда не наказывалось и чаще всего даже нигде не всплывало и не привлекало внимание общественности, если конечно никто из пострадавших не жаловался, а никто и не жаловался. Пожаловаться взрослым – считалось самым позорным в пацанской среде, особенно со стороны мальчишек, это «каралось» всем детским коллективом «тёмной» – это когда ябеду накрывали чем-нибудь сверху, чтобы он никого не видел и били все, ещё всеобщим бойкотом и вечным презрением.
Алёшу, как и большую часть детворы, в то время влекло всё запретное и противозаконное, он завидовал всем старшим и «основным» ребятам, их свободной жизни, тому, что их уважают и знают старшие ребята, уже давно закончившие школу, уважают сверстники и боятся даже совсем взрослые люди. Для того, чтобы стать таким – «основным», надо было отбросить все страхи и сомнения, наплевать на всё своё будущее с высокой колокольни, «оборзеть», что означало крайне обнаглеть и начать дубасить младшие классы и даже своих ровесников прямо по мордасам. Дубасить надо, что называется по-настоящему и совсем неважно за что. На вопрос пострадавшего: «За что?», следовал ответ «оборзевшего»: «Было бы за что, вообще бы убил!» А вот как раз бить-то в лицо у Алёши никак и не получалось. Но сосем он всё же не отказался от идеи подняться когда-нибудь до уровня «основного», ведь об этом мечтали все пацаны шэпэша, за исключением наверное только редчайшего вымирающего вида – ботаников-отличников, коих было во всей школы всего-то раз-два и обчёлся.
Несмотря на свою природную лень и нелюбовь к лишним телодвижениям, Алёшу всё же привлекали такие активные занятия, как: футбол, волейбол и настольный теннис. Хоккей в меньшей степени, так как в хоккей лучше играл тот, кто умел кататься на коньках. А коньки освоить ему так и не удалось, наверное всё из-за того же избыточного веса и в конце концов он бросил это занятие. И вообще, к чему долго учиться, прилагать много усилий и терпения, рассуждал Алёша, когда хочется всего прямо сейчас, не когда-то – через год или два, а сейчас же. На бесконечное вложение времени, терпения и сил он был не согласен, а следовательно продолжал расти толстым, совершенно неспортивным, ленивым и неуклюжим, словно экономя свои силы для чего-то очень важного в будущем.
С четвёртого класса в Алёшин класс добавили двоих новых учеников: Сашу Громова и Никиту Чернова. Их сразу окрестили: одного – «Гром», по фамилии, другого – «Никита», по имени. Никита Чернов первым делом, по какому-то великому блату, поступил в секцию дзюдо, куда никто из пацанов класса не мог записаться из-за наличия большого количества троек в дневниках. Никита был лёгким на подъём, спортивным, а по внутренним характеристикам: пронырливым, юрким и хватким. На него сразу обратили внимания даже взрослые из-за присутствия в нём какой-то совсем не детской ушлости. Алёшина мама называла его просто – «хитряй-митряй». Это был коренастый светло-русый кучерявый невысокого роста деревенский парень. Он быстро закрепился в новом коллективе за счёт физических данных и умения драться, но у него отсутствовали лидерские качества и умение сплотить вокруг себя коллектив. Обычно он гулял и дружил с кем-то одним, его как-то на большее не хватало. Никита старался выбирать себе друзей не просто так, а с какой-нибудь но пользой для себя. Первым делом, Никита конечно же объединился с Громом, так как они вроде как изначально оказались товарищами по несчастью, попавшими в новый коллектив, в котором все уже друг друга знали четыре года. Никита с Громом просто не могли не объединиться на этой почве, несмотря на явную разность интеллекта, воспитания и интересов.
Что касается Саши Громова, это был брюнет, стройный, спортивный, восточного типа, поначалу несколько застенчивый. Первое время он подвергался издевательствам и насмешками по поводу своих слегка раскосых глаз. Бывало, что жестокое мальчишеское сообщество доводило его этим до слёз. Алёше, в то время лидирующему среди сверстников, даже приходилось неоднократно утешать Сашу, когда его уж совсем донимали ребята. Так был с раннего детства воспитан Алёша, он и рос простым, честным, справедливым и порядочным человечком, защитником всех униженных и оскорблённых. Он всегда брал под защиту во дворе слабых и маленьких, заступался за них перед старшими и вся мелюзга его любила, ему частенько доверяли младших, чтобы он за ними приглядел. Самое уважительное отношение было к Алёши у сверстников, и среди классного костяка, который и формировался с первого класса именно вокруг него. После же прихода двоих спортивного вида ребят из других школ, Алёша очень медленно, но верно стал терять власть над одноклассниками. Происходило это в основном из-за того, что во всех спортивных играх и соревнованиях неуклюжий толстяк с одышкой уступал, спортивного вида, ловким, легким и шустрым парням: Грому и Никите. Во дворе, взрослея и продолжая вести борьбу со злом за добро, как учили, Алёша стал натыкаться на ребят постарше или державшихся большими группами, которые не несли в мир добро и справедливость, а силою и жестокостью утверждались в жизни, физически и психологически подавляя тех, кто слабее. Главным девизом их было «кто сильнее, тот и прав» или, например «семеро одного не боятся». Имея за своими плечами в основном слабых и малых, Алёша стал проигрывать неприятелю по силе. Тут ещё как-то раз в общей драке-свалке двор на двор, ему перебили нос. Врач как не старался ему вправить перегородку, так, видимо, и не смог. Алеша стал задыхаться ещё быстрее, чем раньше, даже после самой короткой физической нагрузки. Он был подвинут с пьедестала не только в своём классе, но и в своём дворе, после того, как здоровые спортивные ребята взяли верх и подчинили себе большинство. Алёша совершенно неожиданно оказался в одиночестве, не только из-за недавно выявленной, при очередной диспанцеризации, у него мерцательной аритмии, но и из-за своего наплевательского отношения к спорту и своему внешнему виду. Последнее время он меньше двигался, зато больше ел и в еде совсем себе не отказывал. Мама и бабушка, пережившие войну и настоящий голод, считали, что ребёнка надо кормить, что называется – пока лезет. Алёшу стало разносить: он весил шестьдесят килограмм, в то время когда его сверстники весили в среднем по сорок. Парню стало трудно не только бегать, но даже ходить. Он начал прогуливать занятия по физкультуре. …И тогда, деваться было некуда и Алёша твердо решил худеть, до нормального стандартного веса, адекватного росту и обязательно заняться каким-нибудь видом спорта. И Гром и Никита в отличие от него, не только мастерски катались на коньках, но и довольно сносно играли в хоккей, футбол и плавали. Он ни как не мог за ними угнаться, тем более имея проблемы с «дыхалкой». Ребята вокруг это видели и всё больше и больше склонялись к Грому и Никите как к «основным» в классе, да и в дворовой компании они тоже здорово поднялись и стали центром притяжения и во дворе, и на улице.
…А тут ещё с Алёшей произошёл, выходящий из нормального ритма, случай и случай этот произошёл снова на воде, но уже в Москве. Он походил на тот случай, который имел место на Клязьминском водохранилище в Хлебниково, когда ещё десятилетний Алеша только учился плавать и чуть, чуть не утонул почти прямо около берега рядом с шумным пляжем. Новый случай был куда посерьёзнее того, хотя Алёша и был уже в более старшем возрасте, чем тогда в Хлебниково, но сама ситуация оказалась куда опаснее. В это лето, по какой-то причине, его не вывезли в деревню и он остался в городе. Городская дворовая ребятня, которой ни к кому или не с кем было ехать из душной раскалённой Москвы, кое-как в эти жаркие месяцы спасалась поездками на ближайшие городские водоёмы. Варианты были следующие: первый – это Останкинский пруд, до которого добирались минут пятнадцать на автобусе и еще потом в течении получаса на электричке, второй – это большой пруд, называемый среди пацанов «Плотина» рядом с кинотеатром «Байкал». До него добираться было проще – прямо на автобусе без пересадок не более двадцати минут. Потом «Плотина» была более привлекательной из-за своих проливов, трамплинов, водных горок и прочих пляжных прибамбасах. Но там всех пацанов, особенно ещё плохо плавающих, могло ждать серьёзное испытание и вот какое. Время от времени кто-нибудь из компании, тот кто был более других природно одарён мускулатурой или имел какой-нибудь спортивный разряд, выдвигал довольно дерзкое предложение для всей компании – переплыть на другой берег на перегонки, при этом рассказывалось, что там есть какие-то ещё неиспытанные трамплины и горки. От общего соревнования можно было конечно отказаться, но как же тогда авторитет среди сверстников, он опускался на самую нижнюю ступеньку в дворовой иерархии. В общем отказаться Алёша никак не мог, это означало потерять свой авторитет среди пацанов, как среди ровесников, так и среди младших, всегда присутствующих в их компании. Кроме того, Алёша месяца два сидел на жесткой диете, пытаясь похудеть и добился некоторых результатов в похудении – сбросил около десяти килограммов, что не без удовольствия демонстрировал сейчас на пляже. Толстые парни совсем не котировались в мальчишеском коллективе того времени. В фаворе были мальчишки скорее худые чем толстые, а ещё больше оценивались спортивные фигуры с рельефной мускулатурой и высокими спортивными показателями на занятиях по физкультуре и на различных соревнованиях. Естественно, что с более лёгким весом, Алёша уже стал и подтягиваться и отжиматься на много раз больше, да и дышать стало как-то полегче. Его авторитет снова начал набирать обороты. Но было одно «но» в этой почти полной Алёшиной победе над жиром – при таком резком и жестком похудении терялся не только жир и объёмы, а уходила и мышечная масса, и физическая сила. А тут, как раз кто-то из ребят предложил переплыть «Плотину» и все ребята согласились. Отказаться – означало снова уронить, свой, только что начавший с таким трудом расти авторитет. Причём даже ниже чем он был тогда, когда его считали жирдяем, сосиской и сарделькой, хотя и не в глаза. Другими словами надо было плыть, презрев все страхи, все свои проблемы с сердцем, во что бы то не стало и точка. Вариантов просто больше не оставалось. С виду он был здоровым мальчиком и невозможно было объяснить сверстникам, что на самом деле у него врождённый порок сердца и мерцательная аритмия, просто этого по нему не было видно и никого из ребят не интересовало. Одно только такое объяснение пацаны могли расценить просто как дешёвую отмазку и трусость с его стороны. «Хоть умри, но плыви!» – приказал Алёша самому себе и мысленно попрощавшись со всем миром, решительно последовал за пацанами в воду.
Само соревнование предполагало заплыв на тот берег широченного пруда причём в самом широком его месте. Затем какое-то времяпровождение там – на другом берегу, а заодно и отдых, и после этого обязательное совместное возвращение назад тоже вплавь. Таким образом переплыть протоку шириной около триста метров нужно было два раза, туда и обратно. Все ребята поплыли, поплыл и Алёша. Почти дружно и одновременно переплыли в одну сторону. Немного отдышавшись, ребята разошлись по берегу в поисках какого-нибудь нового интересного занятия и ничего не найдя, вскоре поплыли обратно. Алёша только и успел кое-как отдышаться, и тут снова нужно было плыть. Он поспешил в воду за всеми, но всё-таки немного отстал, потому что пока он плыл сюда силы куда-то очень быстро стали уходить. Сказалось двухмесячное недоедание и как следствие этого – упадок сил. В этот момент на плотине ещё и открыли шлюзы. Началось довольно сильное течение. Мальчик пока решался и собирался с мыслями, существенно отстал от основной группы. Он прибавил темп и у него сбилось дыхание. После того как он немного сбавил темп, решив перевести дух, его стало сносить течением влево от намеченного маршрута. Вместо кротчайшего расстояние по прямой он поплыл по полуокружности, уносимый течением всё левее и левее в сторону от прямой, по которой плыли все ребята. Алёша прибавил ходу столько, сколько он только мог и перешёл на более ускоренный стиль – кроль, как он его себе представлял, уже не обращая внимание ни на дыхание, ни на направление. Силы были на исходе, он доплыл почти до середины пруда, отступать было поздно и некуда. Расстояние назад и вперёд сравнялось. Не было смысла возвращаться обратно на чужой берег, при таком же сильном течении, а потом ещё и всё равно плыть на свой. Нет, только вперёд, решил Алёша. Мальчик упорно изо всех сил устремился к берегу, жадно со свистом втягивая воздух, пытаясь как-то выпрямить свой маршрут и тем самым сократить его протяжённость, но получалось не очень. Его посетило то жуткое ощущение полного одиночества и близкой гибели, какое он испытал тогда совсем маленьким мальчиком на пляже Клязьминского водохранилища. Разница была в том, что в нынешней ситуации и берег, и люди были очень далеко, да и вокруг больше чем на сто метров не было ни единой души.
«Вот как люди умирают, я уже это проходил и точно знаю как это! Раз и просто перестал бороться, опустил руки и пошёл ко дну, и всё – конец всему, всем мечтам, всем играм, всему, всему, всему… Дальше пустая мутная холодная глубина и больше ничего! Какой ужас!» – от этих мыслей откуда-то взялись дополнительные силы, а может быть открылось второе дыхание, о котором он где-то слышал. Алёша всем телом резко рванул поперек течения и отчаянно заколотил руками по воде со всей оставшейся силы. Он жадно и часто задышал, как рыба выброшенная на берег. Со стороны, наверное, это выглядело довольно смешно, но самому парню было совсем не до смеха, он боролся за жизнь. Алёша больше не смотрел на берег, к которому плыл, и совсем не обращал внимание на течение, но интуитивно он чувствовал что плывет по кротчайшему расстоянию прямо к берегу. Лишь бы хватило этой чёртовой «дыхалки», лишь бы силы его не оставили раньше, чем он доплывёт, это было для него самым важным в тот момент. Движения становились всё замедленнее и замедленнее, вдохи всё короче и чаще.
«Ещё, ещё чуть-чуть! Врешь, не возьмешь!» – вспомнил Алёша знаменитый фильм про Чапаева, и почти уже теряя сознание, представил, что он и есть Чапаев… Он остановился только тогда, когда уже коленками упёрся в песчаное дно берега. Алёша буквально выполз по пояс из воды и тут силы оставили его…
Он ещё долго, долго лежал тяжело-тяжело дыша. Иногда ему казалось, что он теперь так и будет дышать, как тот Ихтиандр, человек-амфибия из кино, которое он очень любил. Алёша лежал долго восстанавливая дыхание, оставаясь на половину в воде, на половину на берегу. Постепенно дыхание стало реже, глубже и вскоре совершенно восстановилось. Это было неповторимое ощущение, словно чудесное возвращение к жизни. Мышцы рук надулись до предела и казалось, что вот-вот лопнут, но это было тоже приятное ощущение. Сколько он пролежал на берегу в таком положении он не помнил. Вокруг него с визгом бегали, прыгали и играли малыши, но его это не раздражало, он радовался жизни вместе с ними. Видимо где-то совсем недалеко был так называемый «лягушатник» – огороженная купель для самых маленьких. Вокруг него было полно и взрослых и никому не было дела, что несколько минут назад, этот, лежащий в изнеможении на песке мальчик, на середине пруда прощался навсегда со своей короткой детской жизнью. Как оказалось его здорово снесло течением в сторону и ему пришлось преодолевать по воде ещё дополнительно метров сто. Отлежавшись на берегу какое-то время, совершенно восстановив дыхание, полностью придя в себя, но ещё качаясь из стороны в сторону, Алёша побрёл по берегу и вскоре добрался до своей компании. Ребятам он объяснил своё отсутствие так: он решил проплыть немного вдоль берега и изучить там местность, так как там никогда не был.
Несмотря на патологическую природную лень, всё же у Алёши появлялись иногда прямо взрывы силы воли и тут открывался какой-то невероятный ранее дремавший энергетический потенциал, особенно он проявлялся в опасных жизненных ситуациях, в которых ему уже ни раз пришлось побывать за свою такую ещё короткую мальчишескую жизнь. Он себя с раннего детства всё же морально готовил к подобным ситуациям и конечно же к борьбе, к драке, к бою. После двух случаев, когда он мог очень даже реально проститься с жизнью, он всё же пришёл к мнению, что без физической подготовки в жизни не обойтись и сила никогда не будет лишней. Алёша решил теперь быть ближе к спорту. Под впечатлением какого-нибудь остросюжетного фильма, его и раньше безудержно тянуло заняться каким-нибудь видом спорта. Но таким, который бы действительно его интересовал и которым бы он занимался с удовольствием: к боксу, к борьбе, к футболу или к настольному теннису. Алёша любил драки и всерьёз интересовался боевыми искусствами. С вниманием он смотрел по телевизору соревнования по боксу. Когда же он подружился с Никитой, они вместе перепечатывали на отцовской печатной машинке запрещённую литературу по каратэ, боевому самбо и даже рекомендации какого-то майора морской пехоты США. Всю литературу, тоже отпечатанную на пишущей машинке, Никита брал на время у кого-то из секции дзюдо, в которой он занимался. Алёша тоже неоднократно пытался устроиться в какую-нибудь секцию. Но во всех этих абсолютно бесплатных в то время секциях, которые были почти в каждой школе и на каждом стадионе, не говоря уже о дворцах и домах пионеров, везде требовали дневник с четвёрками по основным предметам как минимум по русскому, литературе, математике, истории и конечно же «удовлетворительно» по поведению. А там где не требовали, там он уже не подходил по возрасту. Были ловкие ребята, которые пытались проникнуть в секцию по чужому дневнику, однако обман очень быстро раскрывался и обманщик с позором изгонялся из секции.
Один раз вместе с одноклассниками, Алёше удалось-таки устроиться в соседнюю школу в секцию баскетбола, только потому, что она недавно открылась, в ней был недобор и брали даже с тройками по основным предметам. В виде исключения учащихся другой школы приняли в секцию с жёстким условием исправить тройки по основным предметам на четверки в следующей же четверти. Баскетбол Алёша не любил вообще и не понимал, зато занятие в секции было в то время престижным показателем спортивности среди школьных и дворовых пацанов. Ребята всем стали рассказывать, что они занимаются в спортивной секции и это сразу подняло их авторитет среди сверсников.
Но так продолжалось недолго. Ребята из «школы подрастающей шпаны» (ШПШ) вскоре стали устанавливать свои жесткие порядки и в чужой школе, на что получили адекватный ответ, так как в той, более-менее приличной, школе не ожидали таких крутых разборок среди учеников. Все выяснения отношений: кто «основной», а кто «борзой» происходили с участием именно учеников шэпэша и непременно с драками. После того как один ученик, занимающийся в секции за нарушение «пацанского этикета» был избит «подрастающей шпаной» коллективно почти до полусмерти, руководителем баскетбольной секции было принято справедливое решение исключить из секции всех учащихся шэпэша и больше из скандальной и криминальной школы никого никогда не принимать…