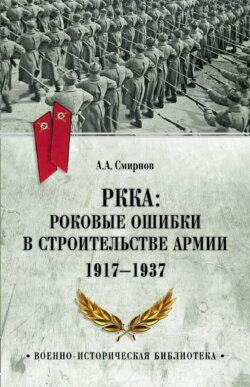Читать книгу РККА: роковые ошибки в строительстве армии. 1917-1937 - Андрей Смирнов - Страница 3
Глава I
Непосредственные причины слабой боевой выучки «предрепрессионной» РККА
Низкий уровень общего образования комсостава и младшего комсостава
Оглавление«Как известно, – писал в 1935 г. заместитель начальника 2-го отдела Генерального штаба РККА комкор С.Н. Богомягков, – тактически грамотные командиры – это на 99 % – люди с хорошим общим развитием и широким кругозором. Исключения единичны»1. Мысль о связи между общим развитием командира и его умением эффективно решать боевые задачи проводил и видный русский военный писатель полковник Е.Э. Месснер, когда отмечал в 1938 г., что «офицерство знающее и – это самое важное – офицерство интеллигентное [выделено мной. – А.С.] проливает кровь бережно, как искусный хирург, офицерство же неинтеллигентное «пущает кровь» без меры, как цирюльник»2.
Действительно, недостаток общего развития и обусловленная им узость кругозора неизбежно порождают у командира тягу к шаблону, не позволяют ему действовать по обстановке. Ведь человек с небольшим багажом знаний психологически склонен возводить то немногое, что он знает, в абсолют, смотреть на немногие известные ему сведения как на некую «универсальную отмычку» для разрешения любой проблемы – словом, «держаться устава, яко слепой стены». Именно так и командовали, в частности, в апреле 1932 г. курсанты Среднеазиатской объединенной военной школы – «тактическая подготовка» которых «упиралась, в основном», в «недостаток общей грамотности», в «малограмотность и отсутствие достаточного общего развития». «Шаблон в решениях и в постановке задач, – констатировала проверявшая школу комиссия начальника штаба Среднеазиатского военного округа С.А. Пугачева, – заучивание подаваемых команд и приказных формулировок при недостаточном их осмысливании и недостаточно гибком приложении их к конкретным условиям реальной обстановки»3… Писательница М.С. Шагинян фактически очертила требования к офицеру, когда отметила в 1933 г., что от начальника политотдела МТС требовалось «суметь очень быстро, толково и правильно найти один из миллиона способов, отличающийся от остальных девятисот девяноста девяти тысяч, которым легче и лучше всего надлежало бы руководить в данном месте и при данных условиях, отличных от других мест и условий. А эта гибкость и способность ориентации […] зависит в очень большой мере от степени интеллигентности начальника политотдела»4.
Вовсе не случайно, что успешными действиями финских войск зимой 1939/40 гг. в Средней и Северной Карелии руководили офицеры, которые «не только получили хорошую военную подготовку, но и принадлежали к интеллектуальной элите страны», были «людьми разносторонними»5 и способными поэтому легко переключаться на поиск нового, соответствующего вновь сложившейся обстановке решения. Это начальник Генерального штаба генерал-лейтенант К. Эш (не только выпускник военной академии, но и ученый-ботаник, известный «проявлением интереса к научным тонкостям»), командующий группой «Северная Финляндия» генерал-майор В. Туомпо (являвшийся еще и «специалистом по истории и филологии») и последовательно разбивший советские 163-ю и 44-ю дивизии командир 9-й пехотной дивизии полковник Х. Сииласвуо – стать «находчивым», «расчетливым и изощренным командиром»6 которому явно помогло изучение, помимо военного дела, юриспруденции и опыт работы в Министерстве образования.
Именно «повышенный уровень общей интеллигентности» офицеров артиллерии, считал русский военный писатель генерал-лейтенант Б.А. Штейфон, помог им быстрее пехотных усвоить новые требования, выдвинутые Русско-японской войной. Ведь «для усвоения, конечно, не механического, а идейного, всех этих новшеств требовалась соответствующая психологическая подготовка» (психологическая готовность к новому. – А.С.)7. Связь между «уровнем интеллигентности» и способностью к усвоению и анализу нового была ясна и генерал-майору Н.В. Нагаеву, характеризовавшему прикомандированного в сентябре 1916 г. к лейб-гвардии 2-му стрелковому Царскосельскому полку поручика лейб-гвардии Драгунского полка А.М. Ставского: «Как офицер с широким кругозором, отлично образованный (окончил университет), он мог быть и действительно был, хотя, к сожалению, и недолго, таким же отличным офицером пехоты, как и конницы», «быстро осваивался с непривычной для него обстановкой окопной жизни и входил в роль командира роты»8.
А вот воспоминания участников Великой Отечественной И.Г. Кобылянского и А.З. Лебединцева. Решения командовавшего в 1943–1944 гг. нашей батареей старшего лейтенанта Л.Н. Винокурова, пишет Кобылянский, «всегда были взвешенными и своевременными». А ниже замечает, что в беседах с комбатром – бывшим архитектором, чья речь «выдавала в нем образованного горожанина» – он «ощутил широкий кругозор Льва Николаевича»… Общий кругозор явно помогал и капитану Л.И. Салопу – геологу, ставшему на войне начальником штаба полка и учившемуся в 1944 г. вместе с Лебединцевым на курсах «Выстрел». «Учеба его интересовала мало»: Салоп добивался демобилизации и направления на работу по специальности. Тем не менее ответы на занятиях этот бывший вузовский преподаватель, кандидат наук, давал «всегда аргументированно»9…
Лейтенант М.В. Краскин – проявивший, в отличие от большинства командиров РККА – участников пограничных конфликтов 1936–1937 гг. в Приморье, хорошие командирские качества – имел высшее образование и до призыва в армию был директором курсов повышения квалификации инженерно-технических работников.
Правда, само по себе хорошее общее развитие тактической грамотности не гарантирует. Так, командиры полков польской армии, проверенные в 1931 г. виленским армейским инспекторатом, при «значительной интеллигентности» все-таки отличались «некоторой узостью тактического кругозора, особенно поражающей во встречном бою»10 (их подводила плохое знание военной науки). Но слабое общее развитие (повторим мнение специалиста) – это 99-процентная гарантия «узости тактического кругозора».
«Хорошее общее развитие и широкий кругозор, – продолжал С.Н. Богомягков, – приобретается всей суммой полученного образования и опыта жизни, и то лишь людьми, которые обладают не менее, чем средними умственными способностями. Невозможно простым натаскиванием внедрить эти качества, какие-либо [так в тексте; должно быть: «какие бы». – А.С.] методы мы для этого ни рекомендовали»11. Значение жизненного опыта и способностей в комментариях не нуждается; что же до «всей суммы полученного образования», то ясно, что в данном случае важно образование не только и не столько специальное, сколько общее.
Больше того, без достаточного общего образования тактически грамотным командир в 30-е гг. ХХ в. не мог стать даже и при наличии жизненного опыта и умственных способностей. В самом деле, к чему можно свести задачи командира в боевых действиях того времени – насыщенных разнообразной техникой и потому чрезвычайно динамичных, изобилующих внезапными изменениями обстановки? Прежде всего к тому, чтобы быстро оценить вновь сложившуюся обстановку и адекватно отреагировать на нее – отдав соответствующие команды или распоряжения. Иными словами – к тому, чтобы проанализировать вновь поступившую информацию и использовать ее в своих интересах. А именно к этому и приучает человека общее образование! Ведь, учась в общеобразовательной школе, человек делает, по существу, то же самое:
– постоянно сталкивается с новой информацией (новым учебным материалом) и
– постоянно же пытается использовать эту информацию в своих интересах, запоминая и анализируя учебный материал (если не для того, чтобы овладеть знаниями, то хотя бы для того, чтобы не иметь неприятностей в школе и дома, получить документ об образовании и т. п.).
Можно выразиться и еще проще: общее образование приучает человека думать – а это именно то, что прежде всего требуется от современного командира.
Общее образование, таким образом, не только побуждает командира искать адекватное обстановке решение (формируя понимание той истины, что известными ему шаблонами военное искусство отнюдь не исчерпывается), но и дает ему необходимый для такого поиска навык – навык умственной работы, привычку к такой работе. На это еще в 1815 г. указывал «прекрасно разбиравшийся в сущности офицерской профессии и веяниях времени» саксонский генерал-лейтенант Г. фон Черрини: «Знания, как таковые, бесполезны на поле сражения: с этим легко согласиться. Что нам нужно, так это навык. С другой стороны, особенно в мирное время, скорейший путь к приобретению навыков – образование». «Шаг от знаний к навыкам, возможно, велик, но от невежества – значительно больше», – подчеркивал и командующий сухопутными войсками «веймарской» Германии генерал пехоты Х. фон Зект12.
Понятно, что чем больше классов общеобразовательной школы закончил командир, тем этот навык, эта привычка к умственной работе у него прочнее. Когда в августе – сентябре 1943 г., во время битвы за Днепр, в 48-м стрелковом полку 38-й стрелковой дивизии 47-й, а затем 40-й армии Воронежского фронта три штатных стрелковых батальона приходилось сводить из-за больших потерь в один, командиром этого единственного батальона стали назначать старшего лейтенанта Т.Ф. Ламко – хотя, в отличие от штатных комбатов, он не имел никакого военного образования и в офицеры был произведен за боевые отличия из сержантов. Дело в том, что Тихон Федорович, был, видимо, единственным в полку офицером с законченным средним образованием – и потому лучше других умел думать над тем, как выполнить боевую задачу (соответственно, лучше и выполнял). Если его предшественник ломал голову в основном над тем, как избежать ответственности за невыполнение задачи, то Ламко умел принять решение, адекватное сложившейся обстановке; если требовалось – нестандартное. Так, когда вечером 18 августа 1943 г. его роты вынуждены были залечь у переднего края обороны противника, он проанализировал обстановку и, осознав, что:
– бойцы не смогут окопаться, так как вырытые на мокром лугу окопы тут же заполняются грунтовой водой и
– с наступлением утра (когда солнце уже не будет бить немцам в глаза) лежащий на открытом месте батальон будет быстро уничтожен огнем обороны,
решился не ждать назначенной на утро артподготовки и атаковать противника ночью, без выстрела, сделав ставку на внезапность и эффект от залпа ручных гранат. В результате первая траншея заранее подготовленного оборонительного рубежа немцев была захвачена батальоном практически без потерь (при одном убитом и трех раненых).
А вот упомянутые выше курсанты Среднеазиатской школы с их «недостатком общей грамотности», сталкиваясь с новой обстановкой, «в большинстве терялись, медленно реагировали на вводные данные». Не будучи «достаточно» развитыми», продолжала комиссия С.А. Пугачева, они «не могут быть» и «достаточно инициативными командирами»13… Отмечая осенью 1935 г., что командиры слабо умеют организовать и вести разведку, управлять войсками «в динамике встречного боя», организовать выход из окружения – словом, действовать там, где быстро изменяется обстановка, где необходимо проявлять инициативу, хитрость, изобретательность, составители годового отчета политуправления Московского военного округа (МВО) прямо указывали, что одной из причин этого является «низкая общая грамотность начсостава [так официально до 26 сентября 1935 г., а полуофициально и позже именовали комначсостав. – А.С.], особенно среднего».
О том же говорилось и в отчете об итогах боевой подготовки войск Северо-Кавказского округа (СКВО) в 1934/35 учебном году (в дальнейшем подобные документы будут именоваться годовыми отчетами или отчетами за такой-то год): плохое умение среднего комсостава организовать современный, динамично развивающийся бой, отсутствие у младшего комсостава твердых навыков в выборе боевых порядков с учетом местности и огня противника и в ведении боя внутри оборонительной полосы противника (то есть по завершении спланированной ранее атаки ее переднего края, в обстановке, требующей новых решений. – А.С.) – все это коренится в «недостаточной общей грамотности» младших и «невысокой грамотности» средних командиров (начальник Управления боевой подготовки РККА (УБП РККА) командарм 2-го ранга А.И. Седякин еще и в сентябре 1936-го отмечал, что комсостав СКВО «медленно разбирается в сложной обстановке и много затрачивает времени на принятие решений»)14.
Умение управлять подразделением «в напряженной, сложной, меняющейся обстановке», освоение тактики, «построенной на внезапности, на тренировке в находчивости, на тренировке в быстроте решений и действий» – все эти задачи, подчеркивал 23 декабря 1934 г. начальник Управления военно-учебных заведений РККА (УВУЗ РККА) Е.С. Казанский, «НЕ БУДУТ РАЗРЕШЕНЫ БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ»15.
Наряду с принятием адекватного решения от командира требуется организовать проведение этого решения в жизнь – а это в 30-е гг. также было сопряжено с большим объемом умственной работы. Ведь здесь требовалось организовать и взаимодействие родов войск, и разведку, и тыловое и инженерное обеспечение боевых действий, и управление войсками в ходе боя или операции… Отсутствие привычки к умственным усилиям делало очень большим соблазн сэкономить на этих усилиях и организовать все вышеперечисленное лишь в общих чертах – а то и вовсе не организовывать, пустить на самотек. Именно в этом и коренилось, по нашему мнению, столь характерное для «предрепрессионной» РККА игнорирование командирами и штабами необходимости вновь и вновь (по мере изменения обстановки в ходе боя) организовывать разведку и взаимодействие родов войск, управлять «сочетанием огня и движения» подразделения (куда проще просто гнать его в сторону противника, подав единственную команду «Вперед!»), ставить конкретные задачи органам тыла – словом, неумение комсостава организовать бой и управлять им.
В мемуарах участников Великой Отечественной это нежелание советского комсостава напрягать свою мысль, предпринимать интеллектуальные усилия высвечивается очень явственно; показательны, в частности, воспоминания трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина и дважды Героя Советского Союза А.Н. Ефимова. «Боевой летчик, а занялся писаниной», – недоумевали летом 1941 г. пилоты 55-го истребительного авиаполка, наблюдая, как старший лейтенант Покрышкин пытается, анализируя воздушные бои, усовершенствовать тактику истребительной авиации. А в 198-м штурмовом авиаполку весной 1943 г. с недоумением воспринималась даже и такая умственная деятельность командира, которая (в отличие от новаторства в области тактики) является его прямой обязанностью – планирование боевого вылета! Когда ставший командиром звена лейтенант Ефимов стал тщательно планировать перед вылетом действия своей группы над целью, над звеном в полку «посмеивались», «стали называть академиками»16…
Еще один мемуарист – офицер-артиллерист В.М. Иванов – со стремлением командиров сэкономить на умственных усилиях сталкивался дважды: в марте 1942 г. на Калининском фронте и в январе 1945-го на 1-м Белорусском. В первом случае командир батальона 208-го стрелкового полка 117-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии на переданное лейтенантом Ивановым предложение артиллеристов поддержать его атаку огнем двух гаубиц, выдвинутых на прямую наводку, отреагировал словами: «Шляетесь тут со своими картинками», – и обсуждать идею и рассматривать «картинки» (составленную Ивановым схему огня) отказался. Во втором случае командир стрелкового полка 8-й гвардейской армии, который должен был поддерживать дивизион капитана Иванова, сначала вообще заявил последнему: «Обойдемся», а затем предложил ему самому «искать, куда стрелять и откуда корректировать огонь». Поведение комбата Иванов объясняет тем, что тот «находился в нервном возбуждении, сознавая, что для готовившейся атаки у него нет ни сил, ни средств, что она, как и предыдущие, обречена на неуспех и новые жертвы». Но в этом случае он должен был бы смотреть на артиллеристов как на своих спасителей и носить их на руках – а не прогонять их представителя со своего КП. Ведь во время зимнего наступления Красной Армии в 1942 г. – когда артиллерия из-за нехватки снарядов почти не помогала пехоте – поддержка огнем двух орудий (и не каких-нибудь «сорокапяток», а 122-мм гаубиц!) для пехотного комбата должна была показаться просто манной небесной! Тем более, что она свалилась на него в виде подарка; ее не пришлось даже выпрашивать… Все ставит на свои места слово «картинки»: комбата явно отпугнуло то обстоятельство, что, для того, чтобы воспользоваться подарком, надо анализировать какие-то схемы, напрягать мысль… Во втором случае нежелание командира прикладывать лишние умственные усилия сквозит еще более явно (хотя В.М. Иванов и здесь ищет другое объяснение тому, что «командир стрелковой части пренебрегает тесным взаимодействием с артиллерией поддержки», и списывает все на «вздорный характер командира, уверившего [так в тексте. – А.С.] в легкую победу, подобно одержанной» накануне)17.
Без достаточного общего образования – приучающего людей не только думать, но и формулировать свои мысли (превращая их в связную речь), иметь дело с книгой, текстом, ручкой, карандашом – командиру трудно выработать и такие необходимые ему навыки, как умение быстро составить внятное донесение, сформулировать внятный приказ или распоряжение, быстро и грамотно нанести обстановку на карту, графически изложить на ней свое решение, оценить по карте характер местности и т. п.
Мы не говорим уже о том, что нехватка общего образования не позволяет овладеть техническими и математическими знаниями, необходимыми командирам специальных родов войск. Так, артиллеристам, чтобы быть в состоянии решить любую огневую задачу (а не несколько типовых), требовалось владеть теорией стрельбы, а это было возможно лишь при хорошем знании математики. «До тех пор, – напоминал в сентябре 1934 г. начальник УВУЗ РККА Е.С. Казанский, – пока теоретическая часть курса артстрельбы (теория ошибок, математическое ожидание и рассеивание, теория вероятности, теория стрельбы по наблюдениям знаков разрывов и проч.) не будет курсантами твердо усвоена, неизбежны растерянность, схематизм в работе, слабая выработка практических сноровок»18.
А между тем, отмечал в 1933 г. ведавший командными кадрами начальник Главного управления и19 военно-учебных заведений РККА (ГУ и ВУЗ РККА) Б.М. Фельдман, «общеобразовательная подготовка является самым уязвимым местом нашего начальствующего состава» (который 26 сентября 1935 г. постановили именовать «командным и начальствующим». – А.С.); «ахиллесова пята» всей нашей Красной Армии – это общеобразовательная подготовка»20. Это утверждение оставалось абсолютно верным и в 1935 – начале 1937 г. «Общеобразовательная подготовка начальствующего состава, – отмечал в своем докладе от 1 декабря 1935 г. «Об итогах боевой подготовки РККА за 1935 учебный год и о задачах на 1936 г.» начальник 2-го отдела Генштаба РККА А.И. Седякин (по привычке именуя комначсостав начсоставом), – неравномерна и, в большинстве, слабая»21. У большинства комначсостава «предрепрессионной» РККА не было среднего образования (9-, а с 1935 г. 10-классного), а у значительной части вообще имелось лишь низшее, то есть не было даже и неполного среднего (7-классного). Вот, например, те дивизии передового (!) КВО, по которым сохранились соответствующие данные.
Таблица 1
Общеобразовательный уровень среднего и старшего командного состава 24-й и 96-й стрелковых дивизий КВО на 15 февраля 1936 г.22
А ведь 24-я дивизия была «ударной», а 96-я – приграничной! В 10 соединениях, проверенных в КВО к октябрю 1936-го, ситуация была еще хуже: 40,7 % их командного состава окончило не больше 5 классов. (Среди начальствующего состава – политического, административно-хозяйственного, военно-технического, военно-юридического, военно-медицинского и военно-ветеринарного – 28,4 %23). В Закавказском военном округе низшее образование было тогда у 60 % командного состава, а в Уральском, к концу 1935-го – у 86,2 %24.
До чего могла доходить слабость общеобразовательной подготовки комначсостава «предрепрессионной» РККА, видно на примере 5-й механизированной бригады БВО. По крайней мере с февраля 1935 г. в этом ударном соединении приграничного округа – предназначавшемся к тому же для самостоятельных действий в глубине обороны противника – служили и такие средние командиры (например, комвзвода 3-го танкового батальона Г.Я. Прибыщук и комвзвода стрелково-пулеметного батальона И.Т. Иванов), которые были вообще «без образования»25. Правда (как явствует из таблицы 3), в армии они сумели приобрести знания в объеме как минимум 4-х классов, но той умственной тренировки, которую дает посещение общеобразовательной школы, им получить так и не довелось. Общеобразовательные занятия в армии эту тренировку в полной мере заменить не могли: мозг взрослого человека уже не так восприимчив к усвоению и переработке информации, как мозг ребенка и подростка.
С фактическими знаниями дело обстояло еще хуже, чем с количеством оконченных классов. Так, в 5-й стрелковой дивизии и 3-й и 5-й механизированных бригадах БВО в 1935 г. служило немало бывших одногодичников26, то есть лиц со средним или высшим образованием, произведенных в средние командиры после одного года службы в качестве бойцов и младших командиров. Но по данным ноябрьской проверки фактических знаний (которой в мехбригадах не избежал никто, а в 5-й дивизии избежали всего 8 человек), средний комначсостав со знаниями в объеме средней и высшей школы в этих соединениях (см. табл. 3) отсутствовал…
Конечно, общеобразовательные знания как таковые (здесь генерал Черрини был прав) на поле боя нужными оказываются редко. Однако без разносторонних знаний нет достаточного общего развития – дающего, как мы видели, необходимую командиру умственную гибкость. А плохое знание математики и само по себе свидетельствует о недостаточном умении мыслить: ведь изучение математики есть одно из лучших средств для развития мышления. И, между прочим, как минимум у пятой части комначсостава «предрепрессионной» РККА умение мыслить не могло быть хорошо развито уже поэтому. Согласно результатам проверки общеобразовательных знаний кадровых военных, докладывал 8 октября 1936 г. К.Е. Ворошилову заместитель начальника Политуправления РККА (ПУ РККА) армейский комиссар 2-го ранга Г.А. Осепян, 14,6 % старшего, 23,8 % среднего и 60,0 % сверхсрочного младшего комначсостава Красной Армии «совершенно» не знает алгебры, а соответственно 4,2 %; 7,8 % и 35,6 % – геометрии; «значительная часть старшего и среднего командного и начальствующего состава» вообще «имеет лишь чрезвычайно отрывочные знания по математике»27. Что конкретно стояло за этими формулировками – это видно, в частности, из того, что в 177-м стрелковом полку 59-й стрелковой дивизии ОКДВА служили тогда «целые группы лейтенантов и старших лейтенантов», которые «не могли решить простых арифметических задач» (например, определить, какой процент от 200 составит 6)…28
Вообще же, согласно докладу Г.А. Осепяна от 8 октября 1936 г., у 10 % старшего и 30 % среднего командного и начальствующего состава (то есть более, чем у трети всего комначсостава. – А.С.), а также у 70 % сверхсрочного младшего комначсостава РККА фактические общеобразовательные знания были не выше, чем у выпускника начальной (4-классной) школы. «Остальная масса старшего [ком] начсостава, по данным ЛВО [Ленинградского военного округа. – А.С.] и КВО, типичным для всей армии», имела знания «в объеме 5–6 классов, а среднего [ком] начсостава – 4–5 классов»29. Практически та же картина была и в конце 1935 – начале 1936 г.
– когда в КВО и БВО большинство старших командиров и начальников обладало знаниями в объеме 5–7 классов, а средних – в объеме 4–5 в КВО и 4–6 в БВО,
– когда комначсостав МВО «в общей массе» имел знания в объеме 5–6 классов, а
– «значительная часть» комначсостава Приморской группы ОКДВА – в объеме 5 классов и меньше30…
В Киевском и Белорусском округах так было и в последние перед началом чистки РККА месяцы. В БВО к октябрю 1936 г. у более, чем 50 % старшего комначсостава фактические знания соответствовали тем же 5–6, а у 60 % среднего – тем же 4–5 классам, что и в ноябре 35-го; большинство младших командиров-сверхсрочников 2-й стрелковой дивизии в начале 1937 г. проходило программу 4-го и 5-го классов, то есть обладало знаниями в объеме тех же 3–4 классов, что и (см. табл. 2) в конце 35-го. В КВО к марту 1937 г. (как доложил замначполитуправления округа корпусной комиссар Н.О. Орлов) более 50 % старшего комначсостава «имело знания лишь в объеме 5–6 классов», а остальные – «значительно ниже 8 кл[ассов]»31 (то есть надо полагать, в объеме 7 классов) – все, как и в начале 36-го. В Харьковском военном округе (ХВО) в 1936 г. на сборах командиров батальонов ни один комбат не смог сказать, чтó отделяет от СССР река Днестр; нашелся и помкомполка, не знавший, с кем СССР граничит на западе и где находится Польша…
Если судить по единственной известной нам с этой стороны стрелковой дивизии (21-й), мало что изменилось и в Примгруппе ОКДВА. Зимой 1936/37 г. программу 5-го и 6-го классов в 21-й все еще проходила (то есть все еще имела знания в объеме 5 и меньше классов) такая же значительная часть комначсостава, что и зимой 1935/36 г.: в 61-м стрелковом полку – 57 человек, в 62-м – 83 (почти все!), в 63-м – 58, в 21-м артиллерийском – 3432. Неудивительно, что в 62-м полку даже к маю 1937 г. не добились «того, чтоб командир был инициативен и умел правильно решать [тактические. – А.С.] задачи, умел принимать соответствующие меры в быстро меняющихся обстановках», – и что в 63-м полку таким не оказался ни один из трех командиров рот и батальонов, столкнувшихся 5–6 июля 1937 г. с японцами у Винокурки… «Такое явление, когда командир небольшой рапорт пишет с 4–5 ошибками, довольно обыденное», – сообщал 16 октября 1936 г. заместитель командующего ОКДВА комкор Я.К. Берзин33.
Более подробную информацию о фактическом уровне общеобразовательных знаний комначсостава «предрепрессионной» РККА дают таблицы 2 и 3 – характеризующие, подчеркнем, важнейшую стратегическую группировку советских войск на Западном театре военных действий…
Таблица 2
Уровень фактических общеобразовательных знаний старшего и среднего комначсостава и сверхсрочного младшего комначсостава БВО в ноябре 1935 г.34
Таблица 3
Уровень фактических общеобразовательных знаний старшего и среднего комначсостава ряда соединений БВО в ноябре 1935 г.35
* Без учета знаний по математике (ввиду отсутствия соответствующих данных по среднему комначсоставу).
** Без учета знаний по географии (ввиду отсутствия соответствующих данных по среднему комначсоставу).
Как видим, общее развитие большей части комначсостава БВО и полученная ими в наиболее восприимчивом возрасте умственная тренировка были явно недостаточными. Уже одно это делает понятным обстоятельство, зафиксированное в приказе командующего войсками округа командарма 1-го ранга И.П. Уборевича № 04 от 12 января 1936 г.: к концу 1935-го командиры рот и батальонов БВО в своих командирских решениях еще не могли подняться выше «усвоенного тактического шаблона»36…
Как видно из таблицы 3, наименее образованным в БВО был комначсостав 43-й, 81-й и, как ни странно, «ударных» 4-й и 5-й стрелковых дивизий. Становится понятно, почему в 5-й еще осенью 1936 г. встречались абсолютно не желавшие думать командиры. Вспомним, как на Полоцких учениях 2–4 октября 1936 г. в этой дивизии совершенно не заботились об охране своих флангов и об организации разведки на глубину более 1–2 км; как командиры взводов и рот передового батальона 13-го стрелкового полка оказались настолько «малоинициативны»37, что не организовывали разведку, даже приблизившись к переднему краю Полоцкого укрепрайона, как подразделения 5-й в открытую шли на извергавшие огонь доты, как командир 2-й стрелковой роты 13-го полка старший лейтенант Абдулин приказал роте броситься на бетонный дот… в штыки!
После изучения таблицы 3 не приходится удивляться и тактической слабости командиров взводов и рот 27-й (средний комсостав которой был лишь немногим образованнее, чем в четырех перечисленных выше) и 43-й дивизий. Тому, например, что на Лепельском учении в 27-й 17 марта 1935 г. они не только не стремились «охватить, обойти, окружить противника» (предпочитая вести малоэффективное, но простое «равномерное лобовое наступление»), но и не управляли подразделениями. Или тому, что на Идрицком учении в 43-й дивизии 11–17 сентября 1935 г. они «недостаточно» проявляли «инициативу, решительность, расчетливую дерзость» – из-за чего даже «хорошо задуманный сверху маневр» «не находил полного понимания, развития и обеспечения активными действиями снизу»38. Или тому, что командиры взводов 43-й дивизии, назначенных 3 октября 1936 г., на Полоцких учениях, в разведку, ничего для организации этой последней не делали. Такая умственная неповоротливость, умственная леность покажется нам совершенно естественной, если мы учтем,
– что даже более грамотный, чем в 27-й и 43-й, комсостав 37-й дивизии и тот в октябре 1936 г. продемонстрировал в массе своей недостаточное знание русского языка (нашлись и «совершенно неграмотные командиры», делавшие «в диктовке из 150 слов 78 грубых ошибок») и «совсем неважное» знание географии (когда командиры не знали, как называются столицы западноевропейских государств и путали государства, граничившие с СССР)39,
и вспомним,
– что даже этот более грамотный комсостав, выйдя в октябре 1936 г. на тактические учения, часто «не умел оценивать обстановку, сделать вывод из данных разведки», атаку организовывал «шаблонно, без [отвечающего обстановке. – А.С.] замысла», «без учета обстановки и местности» (словом, выказывал все то же неумение думать, анализировать информацию), «забывал» ставить задачи поддерживающей его артиллерии и своим собственным пулеметам – а то и вовсе не организовывал взаимодействие с ними (то есть проявлял еще и нежелание предпринимать умственные усилия),
– что на Лепельском учении то же неумение и нежелание напрягать мысль, что и комвзводы и комроты, проявляли даже заметно более грамотные, чем они, комбаты 27-й дивизии (точно так же предпочитавшие охватам и обходам «равномерное лобовое наступление», а управлению «сочетанием огня и движения» – крики «Вперед!»),
– в решениях, принимавшихся в марте 1936 г. комбатами 129-го стрелкового полка 43-й дивизии (которые опять-таки были грамотнее своих средних командиров), и то преобладали «шаблон и схематичность» (данные таблицы 3 укрепляют нас и во мнении, высказанном нами ранее – о том, что управлением огнем и движением в 1935 г. пренебрегали комбаты не только 27-й, но и 43-й дивизии)40.
Значение отсутствия у большинства комсостава «предрепрессионной» РККА среднего образования – которое только и могло развить человека в умственном отношении до уровня, необходимого командиру 30-х гг. ХХ в. – хорошо видно и на примере 96-й стрелковой дивизии КВО. Вспомним, как и в апреле 1935-го и в феврале 1937 г. командиры подразделений ее 286-го стрелкового полка выказывали на учениях отсутствие «стремления к маневру во фланг противника», «медлительность, выжидание», тягу к действиям по шаблону, редкое использование засад41. Связь между этим явным неумением (или нежеланием) среднего комсостава 96-й напрягать мысль и тем, что (см. табл. 1) лишь четверть его имела среднее образование, а у трети не было и неполного среднего, представляется нам несомненной. Именно отсутствие у трех четвертей среднего комсостава среднего, а у трети даже и неполного среднего образования привело к июлю 1937 г. и к наличию в дивизии командиров, не умеющих «формулировать донесение в ходе боя», и к «весьма слабой топографической подготовке» среднего комсостава, и к отсутствию у 50–60 % его навыков выполнения графических работ на карте…42
В ведомости, послужившей источником при составлении таблицы 3, нет данных по 4-й механизированной бригаде – но из общего ряда не выбивалась и она. Одному заключению инспектировавших ее в марте 1935 г. работников 2-го отдела Штаба РККА («Тактическая подготовка – слаба»), закономерно сопутствует другое: «Общеобразовательная подготовка неудовлетворительна». Правда, инспектировавшие видели причину слабости тактической выучки бригады в «отсутствии методических навыков у начсостава», но это отсутствие упиралось все в тот же недостаток общего образования. (О связи между тем и другим напоминали, например, составители годового отчета КВО от 11 октября 1935 г.: «В большинстве случаев еще далеко не достаточна общеобразовательная подготовка (а подчас и элементарная грамотность) младших командиров, а отсюда и трудность привития такому младшему командиру навыков по методике тактической подготовки») 43. Столь же явной представляется и связь между двумя тезисами доклада, подготовленного политотделом 4-й мехбригады к бригадному партсобранию 21 апреля 1937 г.:
а) у комсостава «слаба тактическая и топографическая ориентировка» и
б) «большой процент командиров слабы по русскому языку и математике» (на собрании уточнили, что «очень низкую общеобразовательную подготовку» имеет и младший комсостав, то есть большинство командиров танков)44…
Вообще, комначсостав танковых соединений – не только насыщенных сложной техникой, но и являвшихся главной ударной силой РККА – был ничуть не образованнее пехотного. «Общеобразовательная подготовка среднего н[ач] с[остава] низка», – констатировала комиссия заместителя начальника Автобронетанкового управления РККА (АБТУ РККА) комдива М.М. Ольшанского, обследовавшая в июле 1936 г. 1-ю тяжелую танковую бригаду БВО45. В 4-й тяжелой танковой бригаде КВО, докладывал 19 августа 1936 г. начальник ее политотдела батальонный комиссар Д.Я. Зубенко, есть командиры и с 4 и с 3 классами образования, есть и такие, которые «плохо пишут и плохо владеют 4 действиями дробей [так в документе. – А.С.]»46… В 133-й механизированной бригаде 45-го механизированного корпуса КВО к началу 1937 г. имелось 211 командиров (почти исключительно средних), обязанных сдать экзамены за неполную среднюю школу47, то есть комначсостав бригады в большинстве своем имел низшее образование…
Не выше, чем у строевых командиров, был и общеобразовательный уровень комсостава войсковых штабов. Так, в годовом отчете 37-й стрелковой дивизии БВО от 1 октября 1936 г. в качестве одной из двух причин слабой подготовленности штабов батальонов и дивизионов прямо названо «недостаточное общее развитие командиров штаба батальона (дивизиона)» – особенно помощников начальника штаба и начальников связи48. Назначенный в 1935 г. начальником штаба одного из танковых батальонов 4-й мехбригады БВО И.М. Колесников окончил лишь 2 класса, лейтенант Ухалов из штаба 40-й стрелковой дивизии ОКДВА в ноябре 1936 г. не знал простых дробей, а задания для командирской подготовки, составленные в конце 1935 г. в штабе 7-й стрелковой дивизии КВО, содержали (помимо 54 профессиональных) 18 грамматических ошибок. «Это разящий пример, показывающий наш общеобразовательный ценз», – подчеркнул 22 декабря 1935 г. на партсобрании начальник штаба 15-го стрелкового корпуса П.А. Ляпин49.
Командиров со средним общим образованием недоставало и в артиллерии – в том числе и в корпусной и в артиллерии РГК, стрельба из тяжелых орудий которых требовала особенно хорошей математической подготовки. Так, в 17-м корпусном артиллерийском полку 17-го стрелкового корпуса КВО еще к 15 февраля 1936 г. среднее и высшее образование было лишь у двух третей комсостава; у 1,4 % средних командиров было неполное среднее, а почти треть (31,9 % среднего и 26,7 % старшего комсостава) имела только низшее50. Проверка весной 1936 г. боевой подготовки дислоцировавшегося в ЛВО 111-го артиллерийского полка РГК показала, что «общеобразовательная и в особенности математическая подготовка командного состава слабая»51.
Не выделялся и технический состав артиллерии. В начале 1937 г. для многих специалистов была очевидна связь между тем, что Артиллерийская академия РККА выпускает «еще недостаточно квалифицированных инженеров», и «недостаточной общеобразовательной подготовкой» пришедших из строевых частей слушателей академии: «они не могут освоить в результате этого ряда предметов»52.
Не выделялся и комначсостав войск связи. Его «техническая подготовка, – прямо отмечалось, например, в годовом отчете ОКДВА от 30 сентября 1936 г., – упирается в слабость общеобразовательного уровня»53. Проверив в начале июля 1936 г. комсостав отдельного батальона связи 2-й стрелковой дивизии БВО, комиссия заместителя начальника УБП РККА комкора Л.Я. Угрюмова выяснила, что по электротехнике и радиотехнике «знания у преобладающего большинства слабые»54. И неудивительно: ни один из 10 проверенных не смог решить ни одной из данных им задач по алгебре и тригонометрии…
«[…] У нас командный состав Пролетарской дивизии развитой в большей степени, чем командиры какой-либо другой части», – подчеркнул 20 февраля 1937 г. на совещании по повышению общего образования в РККА один из политработников 2-го стрелкового полка 1-й Московской Пролетарской стрелковой дивизии МВО. Однако, продолжал он, и у нас есть малограмотные; так, на проверке, устроенной в ноябре – декабре 1936 г., ряд командиров 2-го полка сделали в диктанте по 50–60 ошибок55.
О том, каким было общее развитие командиров, вливавшихся в Красную Армию еще незадолго до начала массовых репрессий, наглядно свидетельствуют, например:
– сообщение начальника УВУЗ РККА армейского комиссара 2-го ранга И.Е. Славина на совещании комначсостава военно-учебных заведений Киевского гарнизона 7 апреля 1936 г. («Специальной проверкой молодых лейтенантов [выпуска 1935 года. – А.С.] установлено, что за 3 года обучения они выпущены малограмотными»56);
– заключение комиссии инспекции автобронетанковых войск РККА, обследовавшей 19 февраля – 2 марта 1936 г. Горьковскую бронетанковую школу («Выпускаемый весной ускоренный выпуск малограмотен»57);
– вывод комиссии, проверявшей тогда же 1-ю Ленинградскую артиллерийскую школу («Многие курсанты старшего курса и выпускники безграмотны по русскому языку и слабы по математике; пишут с грубыми ошибками и, упражняясь в логарифмировании, путаются в действиях с простыми и десятичными дробями»58), а также
– итоги выпускных испытаний 1936 года в военных школах РККА. На тех, которым подверглись выпускавшиеся в апреле командиры-артиллеристы, многие «показали абсолютную неграмотность, допуская по 20–40 ошибок в диктанте из 120 слов. «Значительная часть, – подытоживал 13 мая 1936 г. И.Е. Славин, – не может правильно написать даже легкие, обычные, повседневно встречающиеся слова. Чтение не беглое [выделено мной. – А.С.], переложение прочитанного слабое. Язык при письменном и устном изложении мыслей беден». Выпускники 2-й Ленинградской артиллерийской школы, писал Славину присутствовавший на испытаниях комдив А.К. Сивков, «плохо владеют» даже «разговорным языком: употребляют неправильные обороты речи, неправильно строят фразу» и «тем самым иногда искажают смысл того, что хотят высказать» (и неудивительно: «минимум художественной литературы, обязательный даже для младшего командира, всем без исключения проверенным не известен даже на 50 %»)59.
Часть выпускников артиллерийского отделения Омской объединенной военной школы, докладывал председатель тамошней выпускной комиссии полковник А.А. Вейс, «производит впечатление окончивших школы ликбеза»; когда «им было предложено написать рапорт о прибытии в полк, то пришлось ужаснуться их неграмотности, многие не могли написать слово «артиллерийского» […]». Да и не только его… «Командир артелирийского звода литинат [орфография подлинника. – А.С.]», – выводили в рапортах командиру «стрилкового» полка выпускники-омцы; «одним словом, в трех-четырех строках 8—10 ошибок и самых грубых». «Только единичные товарищи, – продолжал Вейс, – могли правильно составить деловую бумагу, прочие же писали прямо достойное пера «Крокодила». В устной речи они искажали не только слова с иноязычными корнями («отЛегулировать», «эксКренно» и т. п.), но и обычные («одеются» вместо «одеваются», «средствá» и т. п.)60…
Соответственно, продолжал И.Е. Славин, и «письменное оформление распоряжений и донесений, графика, ведение карты – неумелое и недостаточно грамотное». Донесения выпускников Омской школы вообще были «не всегда […] понятны как по своему содержанию, так и [по. – А.С.] внешнему оформлению»)61.
Часть выпускавшихся в апреле 1936 г. командиров-артиллеристов показала также, что «не только не усвоила элементарных сведений по алгебре, геометрии и тригонометрии, но даже арифметику знает плохо, особенно действия с дробями». Естественно, об овладении теорией стрельбы не могло быть и речи. В итоге, констатировали экзаменаторы, правила стрельбы этими лицами заучиваются «без сознательного их понимания». Соответственно, они не могут и «делать практических выводов из теории» – прилагать ее к «конкретным боевым условиям», в которых проводится та или иная стрельба. Поэтому они «приучены к схеме, шаблону», то есть, будучи «натасканы» на определенных стандартных вопросах», «автоматически применяют» способы решения этих типовых стрелковых задач к любой стрельбе, «не вдаваясь в существо» стоящей перед ними задачи. И «при получении результатов стрельбы, несколько отличных от ожидаемых», «теряются»…
Понятно также, что отличавшиеся «полной неграмотностью», не умевшие даже бегло читать (!) выпускники 1-й Ленинградской артиллерийской школы демонстрировали «неумелое и медленное пользование таблицами стрельбы» и медленно готовили данные для стрельбы, что в принятии тактического решения у них тоже «наблюдался шаблон», что столь же малограмотные выпускники артиллерийского отделения Среднеазиатской объединенной военной школы не умели, «в соответствии с обстановкой, принять самостоятельное решение на подавление целей»62 (то есть опять-таки были плохо подготовлены не только как стрелки, но и как тактики).
Малоразвитыми оказались и лейтенанты, выпущенные в артиллерию осенью 36-го. «Изложение недостаточно связное», отмечал присутствовавший на октябрьских выпускных испытаниях в Московской артиллерийской школе помощник начальника 2-го отдела УВУЗ РККА майор С.Б. Софронин; «тяжелое и неправильное построение предложений, бедный язык – характерные черты большинства сочинений», «пунктуация – слабое место». Эта малоразвитость органично сочетается с другими наблюдениями Софронина: «решения часто принимаются шаблонно, не учитывая конкретной обстановки, местности», «особо необходимо подчеркнуть нечеткость и неконкретность распоряжений»63…
В 1-й Ленинградской артиллерийской школе «неуд» за письменные работы по русскому языку и математике получили соответственно 41 % и 52 % октябрьских выпускников (большинство их стало лейтенантами артиллерии со знаниями в объеме лишь 5–7 классов по русскому и 6–8 – по математике). Правда, с теоретическим обоснованием правил стрельбы «затруднилось» только 20 %, но это потому, что по стрельбе выпускников проверяли лишь на задачах № 5 и № 7, а эти задачи, напоминал уже известный нам полковник Вейс, «стреляют отлично даже младшие командиры полевой артиллерии без всякой теоретической основы. Для лейтенанта этого недостаточно, для лейтенанта нужны основательные теоретические знания, а не натаскивание в стрельбе»64…
О младшем комсоставе нечего и говорить. Для него, отмечалось в докладе начальника 2-го отдела Генштаба РККА командарма 2-го ранга А.И. Седякина от 1 декабря 1935 г. «Об итогах боевой подготовки РККА за 1935 учебный год и о задачах на 1936 г.», характерно «недостаточное общее развитие, мало выделяющее младшего командира из среды бойцов»65. О младших командирах переменного состава территориальных частей 43-й стрелковой дивизии БВО (комплектовавшихся из «малоразвитых» крестьян «районов, сильно отставших в культурном отношении») подчиненный Седякина И.П. Хориков 19 сентября 1935 г. вынужден был доложить совсем резко: «Младший начсостав из переменников в большинстве случаев – пустое место»66… После этого не приходится удивляться тому, что фиксировал в своей директиве от 29 июня 1936 г. замнаркома обороны Маршал Советского Союза М.Н. Тухачевский (младший командир РККА не проявляет инициативы в наступательном бою и не способен к «самостоятельному движению вперед»…)67.
«Очень многое [выделено мной. – А.С.] во всей работе командного и начальствующего состава упирается в недостаточную его общеобразовательную подготовку, особенно старших возрастов», – подчеркивал 8 декабря 1935 г. на Военном совете при наркоме обороны начальник ПУ РККА армейский комиссар 1-го ранга Я.Б. Гамарник68 (то же можно было сказать и о младшем комсоставе).
Это и методика тактической подготовки командиров, штабов и войск – прямо связанная с уровнем тактического мышления (а значит, и общего развития) обучающих. «Мы в области методики обучения идем по проторенной дорожке, по схеме, по шаблону […], – писал 2 февраля 1936 г., адресуясь своим подчиненным, командир 1-го стрелкового корпуса ЛВО комдив В.Н. Курдюмов. – А между тем н[ачальник] Г[енерального] ш[таба] РККА требует, чтобы «ведение всего обучения (даже одиночного бойца и отделения) проходило всегда на фоне кризисной обстановки, требующей быстрого, ясного и короткого решения от каждого бойца и командира». […] А мы стараемся даже в командирские занятия внести схему, статику. Впрочем, это легко объяснить: каков руководитель – таково и занятие [выделено мной. – А.С.]»69.
Это и методика огневой подготовки – овладению которой мешало то обстоятельство, что малограмотные командиры плохо знали теорию стрелкового дела. Жалобы на это мы находим и в годовом отчете КВО от 4 октября 1936 г., и в документах единственного стрелкового корпуса (15-го) и обеих стрелковых дивизий (44-й и 45-й) этого округа, от которых сохранилась документация за 1936 год, и в приказах по единственному такому корпусу БВО (23-му), и в документах одной из двух мехбригад БВО, от которых сохранились документы за первую половину 1937-го (4-й), и в докладе временно исправляющего должность (врид) начальника штаба ОКДВА комбрига Э.Я. Магона о состоянии боевой подготовки армии к 15 июля 1937 г. (основанном на материалах за май – июнь) … Плохое знание математики и общая малоразвитость не позволяла комсоставу «решительно взяться за сознательное, а не механическое изучение теории стрельбы»70, и бойцам он подчас – как, например, в 132-м стрелковом полку «ударной» (!) 44-й стрелковой дивизии КВО зимой 1935/36 г. – теорию просто не объяснял. «А отсюда неумение воспитать вполне сознательного и самостоятельного стрелка»71…
Вполне естественно, что особо «слабым местом» оказывались здесь сложные стрельбы из станковых пулеметов72. Они требовали очень серьезных математических знаний, а уровень теоретической подготовки тех, кто должен был обучать бойцов, виден уже из оценки, данной 4 августа 1935 г. на заседании полкового бюро ВЛКСМ пулеметному взводу одной из стрелковых рот 130-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии КВО. Младшие командиры, отметил ответственный секретарь бюро, «не знают теории стрелкового дела» и поэтому не используют необходимую для сложных стрельб линейку Филатова; не использует ее и сам комвзвода73. И это в «ударной» дивизии передового округа…
Это, далее, знание топографии – которое у основной массы командиров РККА еще к лету 1937 г. было, как мы видели, плохим. Лейтенантов и старших лейтенантов, которые не могли (см. выше) вычислить, сколько процентов от 200 составит 6, явно поставила бы в тупик и задача, с которой не справился ни один из 35 проверенных в апреле 1932 г. курсантов ускоренного курса Среднеазиатской объединенной военной школы с их «недостаточным знанием простейшей арифметики»: перевести линейный масштаб в численный74. Или задача, которую в 1934-м не смог решить даже один из самых сильных в математике курсантов той же школы: определить масштаб карты, если расстоянию в 375 м на местности соответствует расстояние в 1,5 см на карте…
Это, наконец, и элементарное управление войсками и их обучение. «Большинство» командиров, закончивших военные школы, отмечал в 1930 г. начальник управления военно-учебных заведений Главного управления РККА (УВУЗ ГУ РККА) А.И. Тодорский, «не могут ясно докладывать и отдавать распоряжения. Многословие часто не позволяет красноармейцу уловить, чего требует от него командир»75. При охарактеризованном выше уровне знания выпускниками военных школ русского языка такие случаи должны были быть частыми и в середине 30-х. Еще в начале июня 1937 г. бойцов 8-й стрелковой роты 62-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии ОКДВА приводили в недоумение вопросы командира полуроты: «Какую задачу занимает пехота?», «Где занимаю [sic! – А.С.] станковый пулемет в обороне?». А помощника начальника 2-го отдела штаба ОКДВА капитана Воронова – формулировка, которую выдал 13 мая 1937 г. на занятии с младшим комсоставом командир 3-й стрелковой роты 6-го Хабаровского отдельного стрелкового полка старший лейтенант Л.В. Симонов: «Цель настоящего урока, товарищи, дать практику в определении сторон горизонта, по части света, солнцу и как определить»76…
Командование РККА пыталось повысить общеобразовательный уровень комначсостава, организуя для него обязательные занятия по русскому языку, математике, географии и физике. Распоряжением начальника Генерального штаба РККА Маршала Советского Союза А.И. Егорова от 6 января 1936 г. высшим и старшим командирам с неполным средним образованием на занятия общеобразовательной подготовкой (не считая времени на выполнение домашних заданий) отводилось 8 часов в месяц, молодым командирам выпусков 1934 и 1935 гг. – 12, комначсоставу с низшим образованием – 16. Однако общеобразовательная подготовка комначсостава в войсках была крайне малопродуктивной.
Во-первых, обучаемые систематически пропускали занятия. В 1935-м «низкий процент посещаемости» общеобразовательных занятий был «обычным явлением почти во всех частях» РККА77. Зимой 1935/36 г. у среднего комначсостава КВО процент явки составлял обычно 65–75, а у старшего 40–50 (в 51-й стрелковой дивизии в январе и феврале 1936 г. – и вовсе 15)78. В 1936-м в МВО посещаемость составляла 60–85 %, в ЛВО – 50–80 %, в КВО – 65–75 % (в 4-й тяжелой танковой бригаде в июне – июле отмечалась 79—85-процентная явка, но в 133-й механизированной в ноябре – лишь 50—60-процентная)79. Не лучше было и в БВО; так, на общеобразовательных занятиях в 5-м стрелковом полку 2-й стрелковой дивизии 4 марта 1936 г. вместо 95 командиров присутствовало лишь 40… В начале 1937 г. у среднего комначсостава этого полка процент явки на эти занятия составлял не более 50, у старшего комначсостава 4-й механизированной бригады БВО – 50–60, у комначсостава 133-й мехбригады КВО – 40–50. Только в четвертом из известных нам с этой стороны соединений трех самых крупных военных округов – 21-й стрелковой дивизии ОКДВА – этот процент доходил тогда до 60–65 (в 61-м стрелковом полку), 70–75 (в 21-м артиллерийском) и даже до 70–80 (в 62-м стрелковом)80.
Во-вторых, обучаемые плохо готовились к занятиям, систематически не выполняя домашние задания. Согласно докладам и годовым отчетам политуправлений КВО и БВО (с 1936 г. за общеобразовательную подготовку отвечали политорганы), в 1936-м это было общим явлением; о том, что командиры и младшие командиры-сверхсрочники занимаются плохо, заместитель начальника политуправления КВО корпусной комиссар Н.О. Орлов докладывал и в марте 1937-го. «Все еще низкая подготовка по заданному материалу к занятиям»81 отмечалась тогда и в тех соединениях трех округов, от которых остались подборки политдонесений за начало 1937 г. – в 1-й тяжелой танковой бригаде БВО и 21-й стрелковой дивизии ОКДВА.
Итоги такой «учебы» подвела, например, комиссия УБП РККА, проверившая в июле 1936 г. отдельный батальон связи 2-й стрелковой дивизии БВО: «Занимаются как будто регулярно, а данные задачи по алгебре, тригонометрии никто из комсостава (группа в 10 человек) решить не мог»82.
Плохую подготовку к занятиям обуславливали, с одной стороны, «слабая требовательность» преподавателей и «отсутствие ответственности» за невыполнение домашних заданий83, а с другой – нехватка у обучаемых времени. «Значительный процент командиров или не желают выполнять домашние задания, – отмечалось 20 февраля 1937 г. на совещании по повышению общего образования в РККА, – или не имеют возможности заниматься. Сверхсрочники слабо готовятся дома и они всегда ссылаются или на политсобрание или на массовую работу. Часть из них ссылается на то, что они ежедневно составляют конспекты по политзанятиям»84. (Как известно, в Красной Армии можно было пренебречь чем угодно – но только не политучебой).
В-третьих, командование и политорганы часто плохо организовывали (а то и срывали) общеобразовательную подготовку. Она то назначалась на часы, когда командиры должны были заниматься другими делами по службе, то, наоборот, заменялась совещанием у командира бригады, партсобранием и т. д. Большинство частей КВО в 1935 г. не сумели обеспечить учебниками, а, по крайней мере в 95-й стрелковой дивизии еще в январе 1936-го не было и письменных принадлежностей. А ОКДВА страдала от нехватки в ее таежной глуши квалифицированных преподавателей.
Поэтому в 1935-м срывы общеобразовательных занятий были «обычным явлением почти во всех частях» РККА, а в КВО летом того года общеобразовательная подготовка вообще была «почти полностью свернута»85. Срывы ее не прекращались там и в 36-м. «Ежегодно мы пишем в планах о общеобразовательной подготовке с сверхсрочниками, – говорилось еще 15 декабря 1936 г. на партсобрании штаба 15-го отдельного корпусного зенитно-артиллерийского дивизиона КВО, – но она не организована так, как это необходимо – часто срывается она»86.
В итоге общеобразовательная подготовка комначсостава в войсках сводилась к тому, чтобы «заниматься и заниматься без перспективы»87. Весь «предрепрессионный» период в трех крупнейших округах констатировалось одно и то же:
– достижения в общеобразовательной подготовке «еще крайне малы» (годовой отчет КВО от 11 октября 1935 г.);
– «значительная часть командиров и начсостава, главным образом старшего, слабо усвоили пройденные предметы» (годовой отчет политуправления КВО от 4 октября 1936 г.);
– результаты общеобразовательной подготовки «незначительны» (заключение начальника культпросветотдела ПУ РККА полкового комиссара Б.И. Риэра по итогам обследования частей БВО, стоявших летом 1936-го в лагере «Савецкая Беларусь»);
– эффективность общеобразовательной подготовки комсостава артиллерии невысока (годовой отчет ОКДВА от 30 сентября 1936 г.);
– старшие командиры частей Славянского гарнизона и средние командиры управления дивизии «остались с теми же чрезвычайно низкими знаниями, какие были у них и в начале учебного года» (приказ по 40-й стрелковой дивизии ОКДВА № 0117 от 19 ноября 1936 г.)88 – и т. п. Весной 1935 г. зачет по алгебре и геометрии в КВО смогли сдать только 50 % старших и 47 % средних командиров, по русскому языку – соответственно 50 % и 44 %, по географии – 30 % и 41 %, по физике – 24 % и 18 %, по тригонометрии (которую сдавали только средние командиры) – 17 %. В 1936-м в 17-й механизированной бригаде 18 %, а в 96-й стрелковой дивизии 21 % проверенных по общеобразовательным дисциплинам командиров и начальников пришлось оставить в том же классе на второй год; «примерно такая же картина» была тогда «и в других дивизиях» КВО89. В Киевском и Житомирском гарнизонах к декабрьским экзаменам 1936 года не подготовился ни один командир. Перед мартовскими экзаменами 1937-го та же ситуация сложилась в 4-й и 81-й стрелковой дивизиях, 16-й и 21-й механизированных бригадах и еще в пяти соединениях БВО (всего на экзамены в этом округе тогда смогли выйти лишь 228 из более чем тысячи командиров, а из 182 сдававших за неполную среднюю школу сдали только 10590)…