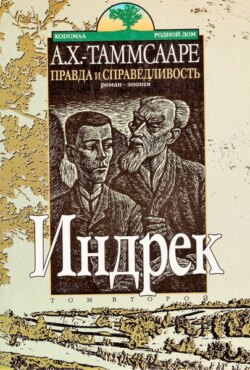Читать книгу Правда и справедливость Toм 2 Индрек - Anton Hansen Tammsaare - Страница 6
III
ОглавлениеНа следующее утро Индрек проснулся от звонка. Звонил самый обыкновенный колокольчик, какие слышишь на свадьбах, у дружек или в рождественский Сочельник, когда ты, счастливый и радостный, обгоняя всех, мчишься в темноте к дому — ведь там тебя ждет разостланное на полу сено или солома, а в комнате так вкусно пахнет всевозможными яствами, что и на дворе слышно. Вот и сегодня Индреку пригрезилось в полусне что-то домашнее, родное, но тут колокольчик рявкнул над самым его ухом, да так оглушительно, что сладкую истому как рукой сняло. Индрек рывком сел на кровати: закопченная лампа горела под потолком, и латыш, помогавший ему вчера нести сундучок, стоял с колокольчиком возле самой его кровати. Никто, кроме Индрека, даже не шевельнулся. Но Копфшнейдер продолжал трезвонить, пока на него не закричали с разных сторон:
— Да будет тебе! Пошел к черту! Олух! А ну — убирайся отсюда!
Но иным трезвон доставлял удовольствие. Те кричали:
— Поближе подойди! Что-то плохо слышно! Завтра с двумя являйся.
Когда латыш убедился, что эстонцы и русские — прочие национальности в «Сибири» не были представлены — зашевелились, он прижал язычок колокольчика и скрылся в люке. Кто-то сразу вскочил с кровати и потушил свет, все снова улеглись — как говорится, подремать на зорьке. Индрек тоже залез было под одеяло, но уснуть не мог, хотя со всех сторон и раздавалось ровное дыхание спящих и даже храп. Так продолжалось недолго, на лестнице снова послышались шаги и сквозь щель в люке блеснул луч света.
— Ребята, Белый! — крикнул кто-то.
В следующее мгновение крышка люка приподнялась и показалась белая голова господина Оллино. Трепетный огонек свечи отбрасывал робкий свет на кровати и проходы между ними.
— Что это значит? — спросил Оллино. — Разве здесь звонка не было?
— Мы ничего не слыхали, — раздалось со всех сторон.
— Значит, завтра надо будет посильнее звонить, — заметил Оллино.
— Сильнее и дольше, — подхватил кто-то.
— Вот именно, — согласился Оллино. — А теперь вставайте, да поживее! — приказал он и начал стаскивать со спящих одеяла.
— Господин Оллино, еще минуточку! — взмолился какой-то мальчик, крепко прижимая к подбородку одеяло. — Я только полежу немножко.
— Некогда, — ответил Оллино. — Вылезай — и сразу мыться!
— Холодно, не могу, я и под одеялом-то дрожу, — упорствовал мальчик.
— Внизу вода холодная, сразу согреешься, — утешил его Оллино и не успокоился до тех пор, пока все не встали. Один за другим парни скрывались в люке и спускались вниз, в умывальную. Казалось, весь дом сотрясается от бесцеремонного топота сонных парней.
— Тише! — крикнул им вслед господин Оллино, наклонясь над люком. — У вас точно не ноги, а подкованные копыта.
Но поток грохочущих шагов спускался все ниже, наполняя дом суетой.
— Можно ведь и наверху умываться, тогда не будет такого грохота,
— заметил Индрек, обращаясь к шедшему перед ним парню.
— Воду таскать тяжело, да зимой она в «Сибири» замерзает,
— ответил тот.
— Неужто так холодно! — удивился Индрек.
— Стужа! — отозвался парень. — Прямо мороз!
— Как же там спать-то? — недоверчиво спросил Индрек.
— Поживешь — узнаешь, — спокойно ответил тот. — Будешь и ты радеть вместе со всеми.
Последних слов Индрек не понял, но спустя несколько недель смысл их сделался ему ясен: тогда и он начал возиться вместе со всеми, чтобы согреться, а согревшись, ложиться в постель. Это была своего рода вечерняя гимнастика, во время которой рвалась не одна рубаха, не одни штаны. Были парни, приходившие в такое исступление, что скидывали рубахи, и тогда мелькали одни лишь голые спины да руки. Об этих «радениях» надзиратели знали, но смотрели на них сквозь пальцы, хотя иной раз в «Сибирь» поднимались и ученики с нижних этажей, и тогда шум становился прямо-таки адским. Вихрь подхватывал даже стулья, столы и кровати — все, что попадалось на пути, и случалось, многие из этих предметов теряли ножку или какую-нибудь другую часть. Парни стояли вверх ногами на стульях, балансировали на спинках кроватей, прыгали через столы, играли в чехарду, бесились без всякого порядка и системы. Индрек никогда не был озорником, но здесь научился. Общее настроение передавалось и ему. На него и впрямь точно накатывало.
Был еще один способ согреться: украсть внизу дрова и притащить в «Сибирь» или соблазнить чем-нибудь Юрку, чтобы тот натаскал поленьев и спрятал их где-нибудь, к примеру, положил каждому по два полена в изголовье. И когда вечером все затихало, парни вылезали из постелей и затапливали большую железную печь, стоявшую посреди чердака. Иной раз топили до тех пор, пока печь не раскалялась докрасна, затем придвигали кровати спинками поближе к теплу. К утру печь, конечно, остывала и в «Сибири» воцарялась обычная стужа. Поэтому многие предпочитали тепло «радений» теплу железной печки.
— От печного тепла на клопов накатывает, — говорили они. — А человеку плохо спится, когда на клопа накатывает.
— Это верно, человеку плохо, когда на клопа накатывает, — соглашались все.
— Пусть уж лучше на человека накатывает, — рассуждали парни, и поэтому в «Сибири» по вечерам, а то и до самого утра стоял адский шум и поднималась такая пылища, точно здесь разбрасывали золу или молотили хлеб.
После умывания грохот шагов устремлялся наверх, а затем опять скатывался вниз — ученики расходились по классам. Индрек шел со всеми, вернее, с маленьким Либле, который тоже числился в четвертом классе. Либле-то и посвятил Индрека во все учебные и прочие дела. В его руках Индрек впервые увидел какую-то растрепанную книгу без обложки (книга на языке Либле называлась «капустой»), в которой прочитал amo, amas, amat и mensa, mensarum11. Особенно запомнился ему почему-то последний падеж этого незнакомого слова.
— Mensarum, — произнес Индрек, глядя на Либле. — Mensarum, — повторил он еще раз.
— Хочешь, я продам тебе эту капусту? — спросил Либле.
И не успел Индрек решить, нужна ли ему эта старая «капуста», как достал из кармана деньги и уплатил запрошенную сумму. Потом выяснилось, что это была цена почти новой книги. Но не беда, Индрек не обиделся на Либле, он был бесконечно рад, что ему сразу досталась книга, в которой было напечатано mensa, mensarum.
И еще одну старую «капусту» купил Индрек у Либле — ту, в которой часто повторялись удивительные слова, несколько лет назад столь сильно поразившие его воображение. Хотя с тех пор и слова эти, и сама книга успели утратить для Индрека былое очарование, он все-таки он купил ее, такую власть имели над ним воспоминания.
Либле выбрасывал на рынок все новые «капусты» — казалось, он готов был продать все свои книги, если бы Индрек их купил. Но нет, Индрек купил только эти две.
— Почему ты продаешь свои книги? — спросил как-то Индрек.
— Чтобы купить еды, — ответил Либле.
— Разве здесь плохо кормят? — спросил Индрек.
— Кормить-то кормят, только съедобного не дают, — объяснил Либле, но Индрек так и не понял его. Только за столом ему стало все ясно: Либле явился сюда «со своими харчами» — с сепиком12, маслом, нарезанной чайной колбасой, тогда как «старик» и его «тетка» давали один лишь черный хлеб, уже намазанный маслом, а вот сепика никогда не давали, лишь немного белого хлеба по утрам. Либле принялся за еду с какой-то подчеркнутой торжественностью и победоносным выражением лица — казалось, он вдруг каким-то непонятным для всех образом перешел в более высокое сословие, что позволяет ему восседать на том конце стола, где располагаются господа Коови, Тимуск и Оллино, а из учеников — наиболее знатные и денежные.
— Любопытно, что этот Дурачок пожирает: свою «капусту» или свое тепло? — спросил кто-то.
— «Капусту», конечно, «капусту», — ответили ему с другого конца стола.
— Ну, значит, он встретил какого-нибудь большого Дурня, который купил ее у него, — заметил первый.
— Большой рядом с маленьким сидит, — сказал третий.
На лицах окружающих мелькнула завистливая усмешка.
Индрек догадался, что «Дурачком» зовут маленького Либле, а «Большим Дурнем», это очевидно, его самого — ведь это он купил у Либле по дорогой цене «капусту», дав ему тем самым возможность на глазах у всех уплетать вкусные вещи. Новое прозвище сразу пристало к Индреку, очевидно, главным образом потому, что и в классе, и за столом он сидел рядом с Дурачком. Но, убедившись, что последний относится к своему прозвищу с полнейшим равнодушием, Индрек решил последовать его примеру и позволял называть себя Большим Дурнем даже тогда, когда стал одним из первых учеников в классе. Случалось, никто не мог ответить на вопрос учителя, тогда Либле пищал тоненьким голоском:
— Господин учитель, Большой Дурень знает!
И учитель говорил, смеясь:
— Ах, значит, Дурачку известно, что Большой Дурень знает? Ну тогда отвечайте.
И Индрек отвечал, словно имя Дурень дано было ему при крещении.
К таким удивительным последствиям привело то обстоятельство, что Индрек купил у Либле две старые книги. Но о второй покупке ему в дальнейшем пришлось пожалеть, о покупке, которую он совершил ради слов «папа римский». Эти слова когда-то пробудили в нем чудесные мечты. Однако здесь они оказались прозвищем законоучителя — личности, которая убила детскую мечту Индрека, превратив ее в свою полную противоположность. Учитель был тучным человеком, с большой, как бы квадратной головой, с толстой багровой шеей; у него были крепкие челюсти, широкие скулы, вечно стиснутые зубы, казалось, даже голос с трудом пробивается сквозь них; губы толстые, красные, слегка искривленные в высокомерной или презрительной усмешке; лоб узкий вверху и расширяющийся к глазным впадинам; волосы подстрижены ежиком, глаза точно две узкие щелки, в которых таится и вспыхивает что-то колючее. Одного нельзя было отнять у господина Вихалеппа: свое прозвище он заслужил вполне. Он был непоколебимо верующим человеком и слово Божие считал настолько вечным и незыблемым, что не разрешал отломить или отколупнуть от него ни малейшей крупицы. Прищурив глаза, он, точно изваяние, восседал на кафедре с карандашом в руке. Заставляя учеников рассказывать что-нибудь из Ветхого завета или читать псалмы, он то и дело стучал карандашом по кафедре и тихим, неестественно ласковым, почти женским голосом говорил:
— Погодите! Еще раз! Вы пропустили там одно «и».
И ученик начинал сначала. Но вскоре опять раздавался стук карандаша и нежный голос тянул:
— В книге сказано: «И это случилось, дабы...» Поэтому еще раз.
Едва отвечающий успевал исправить и эту ошибку, как его постигала новая беда — «папа римский» говорил ему вкрадчиво:
— Дитя мое, вы опять все путаете и искажаете! Ведь там сказано «и», а не «да». Еще раз это место.
Особенно трудно было, отвечая, найти правильный тон. Индреку пришлось не раз испытать это на собственной шкуре.
— Ветхий завет и Катехизис — священное слово Божие, а не сказка и не какая-нибудь древняя эстонская побасенка, которая есть не что иное, как богохульство, — поучал господин Вихалепп. — А священное слово Божие настолько священно, что нам, грешным, не подобало бы и произносить-то его своими нечестивыми устами, но коль скоро мы произносим его ради спасения души, то должны при этом молитвенно складывать руки и говорить тихо и смиренно, как и подобает людям, сознающим свою вину и возносящим молитву. Посему не так, а вот как...
И господин Вихалепп показывал, как надлежит человеку произносить слово Божие нечестивыми устами.
Несколько иное толкование священного слова Божьего получал Индрек за утренней молитвой, на которую все перед началом занятий собирались в столовой; чтобы освободить место, столы и скамейки сдвигались на это время в угол.
Молитву читал сам господин Маурус, к тому же по такой древней и почтенной немецкой книге, что Либле называл ее «молитвенной капустой». Читая, господин Маурус опускал очки на самый кончик носа. Уже на другой день Индрек понял, почему директор, читая молитву, сдвигает очки на столь неподобающее место. Индрек понял это, увидев, как господин Маурус вдруг прервал молитву, швырнул книгу на подоконник, точно разъяренный бык, ринулся в толпу учеников и схватил за шиворот Либле, который, присев с другим парнем на корточки, занимался коммерческими делами. Господин Маурус подтащил парней к окну и отодрал обоих за уши.
— Прохвост этакий, — накинулся он на Либле, — он мне всех мальчиков перепортит, погубит всю мою школу. А у самого волосы так коротко острижены, что и не ухватишь. Ну что делать господину Маурусу с этаким плешивым? Почему у тебя волосы такие короткие, что господину Маурусу и ухватиться не за что? Отвечай!
— Господин Маурус, это вы сами велели покороче остричься, — захныкал парень.
— Так коротко я не велел, — ответил директор. — Нужно так стричься, чтобы было за что ухватить, иначе как мне с тобой справиться. В следующий раз помни: не так коротко. А теперь будешь стоять здесь, рядом со мной, чтобы не смел больше портить моих мальчиков.
Господин Маурус снова взял молитвенник и начал читать, однако глаза его почти беспрерывно следили поверх очков за учениками, лишь изредка опускаясь на книгу. Индрек даже усомнился, читает ли вообще директор то, что написано в книге; может быть, с годами весь ее текст врезался ему в память.
Затем директор сделал ученикам внушение по-русски:
— Господин Маурус говорит: во время молитвы нельзя играть, нельзя шалить, а что делают Либле и тот, другой? Они считают деньги. Понимаете? Они считают деньги, точно фарисеи. Господин Маурус молится, а они деньги считают. Где твои деньги, прохвост? — обратился он к Либле, полагая, что тот стоит рядом, однако парень успел уже удрать. — Где Либле? — крикнул директор. — Либле, сюда!
Когда тот выступил вперед, господин Маурус накинулся на него:
— Прохвост, ты где? Где твои деньги?
Паренек протянул директору несколько медяков.
— Вот видите, — воскликнул директор, обращаясь ко всем. — У него во время молитвы деньги в руках. Прохвост этакий! — И он хотел было опять дернуть парня за вихры, но спохватился: — Ах, у тебя ведь волосы короткие! Ты нарочно велел себя покороче остричь, чтобы господин Маурус не мог тебя наказывать! Прохвост! Где ты взял эти деньги?
— Большой Дурень дал! — послышался озорной голос,
— Это кто такой? — полюбопытствовал директор. — Кто тут Большой Дурень? Ты маленький, а кто большой?
— Паас, тот верзила, что два дня назад в «Сибири» поселился, — пояснил господин Оллино.
— Паас! Паас! — позвал директор. — Где вы?
— Здесь, — ответил Индрек; он, как высокий, стоял в заднем ряду, у самой стены.
Когда Индрек, протиснувшись вперед, подошел к директору, тот сказал:
— Что говорит господин Маурус? Он говорит: никому нельзя давать денег, кроме как господину Маурусу. А почему вы дали этому низенькому, если вы сами высокий? Отвечайте! Быстрее! Господину Маурусу некогда. Почему?
— Я купил у него книгу, — ответил Индрек.
— Как вы смеете, пес этакий, покупать у моих мальчиков книги? Разве я для того дал вам рубль, чтобы вы, верзила, начали скупать у моих мальчиков книги? Что это за книга?
— Учебник латыни.
— Либле, почему ты продал ему эту книгу? — спросил директор.
— Так это теперь старый хлам, на что он мне?! — ответил Либле.
— Как на что? Ты, прохвост, вздумал врать на молитве господину Маурусу. Сам третий год в одном классе сидит, и ему не нужен учебник латыни? Господину Маурусу стыдно принимать деньги от твоего честного отца, ведь его сын не учился в прошлом году, не учился в позапрошлом, а нынче и книги свои продает. А вы, верзила, какой вам прок от вашего роста, если вы покупаете книги у этого коротышки? Какой прок в том, что отец воспитывал вас, кормил вас чистым хозяйским хлебом? А вы ведете себя так, будто у вас в сумке батрацкая мякинная краюха. Поглядите-ка все на этого верзилу, поглядите на его длинное лицо: это он...
Одному Богу известно, как долго разглагольствовал бы еще директор и до чего бы он в конце концов договорился, если бы господин Оллино не подошел к нему и не шепнул что-то на ухо. Директор умолк на полуслове и только буркнул:
— Потом, потом! Господин Оллино мне потом напомнит.
Он сделал левой рукой какой-то жест, и ученики начали шумно расходиться. Но тут директор, по-видимому, вспомнил что-то и опять заговорил, однако теперь никто его не слушал, и, таким образом, на сей раз молитва осталась как бы незавершенной.
— Чем все это кончится? — спросил Индрек у Либле в классе.
— Что именно?
— Да с книгами, — сказал Индрек.
— Вот чудак! — воскликнул Либле. — Какое старику дело, куда я свои старые книги деваю.
Однако директору, по-видимому, все-таки было до этого дело; после обеда он потребовал Индрека к себе вместе с купленными книгами.
— Сколько вы за них отдали? — спросил он, указывая на книги, и, когда Индрек назвал цену, директор воскликнул:
— Вы только поглядите на парня: рост у него долог, а ум короток. Маленький Либле — хитрая лиса. Вот я за него возьмусь... Для чего вы купили этот хлам? — директор указал на учебник по латыни.
— Она мне понравилась, — простодушно ответил Индрек.
— Понравилась? — удивился директор и взглянул на парня так, словно усомнился, все ли у него дома. Потом повернулся к окну и пробормотал (Индрек слышал, как директор пробормотал себе под нос): «So ein grosser Narr!»13
11 Aino (лат.) —любить, mensa (лат.) — стол.
12 Сепик — пшеничный хлеб из несеяной муки.
13 So ein grosser Narr! (нем.) — Этакий большой дурень!