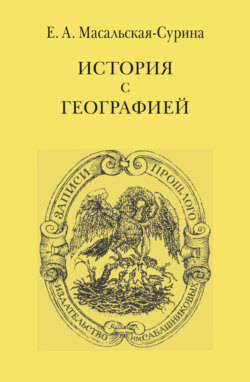Читать книгу История с географией - Е. А. Масальская, Евгения Масальская-Сурина - Страница 14
Часть II. Щавры
Глава 11. Октябрь 1909. В Щаврах
ОглавлениеВопрос о том, чтобы провести вторую зиму с нами в Минске, был поднят Тетей с Оленькой еще летом. Для нас их приезд являлся большой радостью. Не только я, но и Витя их обожал: нам было о ком заботиться и с кем разделять наши впечатления. Теперь, когда в начале сентября Татá уехала с детьми в Екатеринослав к мужу, Минск многое потерял для нас. Сам Шидловский уехал на новое место службы еще в июле, и мы тогда, между хлопотами о Щаврах и Веречатах, сделали им прощальный обед, который, нам показалось, вышел очень удачным.
В августе Ольга Граве стала звать «наших» в Петербург устроиться вместе. Оленька стала вспоминать, что давно не видела своих «душевных» друзей: Корелл, Алтухову, Лидерт и др., что Тетя будет скучать о своих душоночках-внучках, и было решено зимовать в Петербурге, вместе с Граве. Потом в сентябре передумали: в Минске хорошо и покойно, и нас одних оставлять жаль. Решили зимовать с нами в «Гарни». Только Оленька выпросилась съездить на две недели во Владикавказ, к своей приятельнице Марии Степановне Пушкаревой. Ее супруг, теперь генерал в отставке, задумал, ради климата, поместить мальчиков во Владикавказский корпус, что не мешало им тут-то и начать болеть: северный климат был для них куда здоровее. Уже двадцатого сентября по Волге на Царицын Оленька выехала к ним «на крыльях любви», как подтрунивали мы над верной и долголетней ее привязанностью к Марии Степановне. Тетя же, проводив ее, собралась в Минск, хотя по дороге зажилась по обыкновению в Саратове у Адель[192].
В их скучном доме теперь было оживление. Незадолго перед тем кончились земские собрания, и Володя, отказавшись от председателя уездной управы (его очень ценили и любили в уезде), уступил свое место Григорьеву, человеку в Саратове совсем незнакомому. Григорий Гогурин был выбран членом уездной управы. Можно представить его восторг, но он заслужил такой выбор, а что касается Григорьева, то все качали головой: «красный, но не прекрасный». Оленька, которая совсем не выносила его идей, называла его «язычником времен Нерона». «Проводить культуру в народ, но душить своих противников?» – заметила и Тетя. Ей пришлось довольно долго ожидать Г. С. Кропотова. Конечно, все по тем же вопросам школы, питомника в Новопольской школе, жалование учителю и пр.
Как только она приехала к нам в Минск и устроилась в прошлогоднем «апартаменте» своем, рядом с нашими номерами, она выразила желание, не дожидаясь весны, съездить взглянуть на Щавры. Тетушка оставалась все той же отзывчивой, молодой душой. Витя немедля списался по этому поводу с Фомичем, а я позаботилась купить кое-что к нашему приезду в Щавры. Только 10 октября получили мы известие от Ивана Фомича, что дом, очень запущенный, приведен в порядок, т. е. выскоблен и отмыт целой армией поденщиков, и на другой день мы с Тетей двинулись в путь с багажом необходимых дополнительных вещей: ламп, посуды и провизии. Витя не мог выехать раньше субботы, и с нами поехал Бернович, собиравший свои вещи в Вильне для переезда на зиму в Щавры насовсем.
Было тепло и ясно. На станции Крупки ожидала Зябкинская бричка для Берновича и какой-то допотопный фаэтон для нас с Тетей. Впряжена в него была пара заморенных вороных лошадей, взятых у соседа арендатора на пробу. Коган, встретивший нас на станции, очень рекомендовал купить эту пару, потому что кроме сивой тридцатилетней водовозки, купленной Фомичем на торгах, в имении не было ни одной лошади.
Сморенные вороные потащили нас в Щавры, и мы подъехали к крыльцу, теперь обвитому полуоблетевшим красным витисом, при последних лучах низкого октябрьского солнца. На крыльце нас ожидал сияющий Иван Фомич, а рядом с ним, с хлебом-солью Мишка, одиннадцатилетний мальчишка, бывший пастушонок, которого Фомич приучил к себе. Дом сиял чистотой, но мебели было немного, да и та довольно потрепанная, хотя ореховая и красного дерева. Благодаря темным коридорам, низким потолкам и небольшим окнам, уютно устроить этот дом было мудрено.
Зато парк в осеннем уборе был еще прекраснее. Пользуясь чудной погодой, Тетя целыми часами гуляла по расчищенным Павлом дорожкам и аллеям, любуясь красотой и уютностью усадьбы. «С точки зрения хозяина, лучшей усадьбы желать нечего», – писала Тетя Леле и сообщала о наших мечтах видеть в Щаврах и Шунечку с детками весной, до Губаревки, и его самого зимой, Святками. Ничто так не могло понравиться Тете, как эта непроницаемая зеленая ограда, окружавшая усадьбу. Это придавало ей особенный характер порядка и уюта. Во дворе за сквером, но в ограде, были и все хозяйственные постройки, причники, коровники и пр., все пока пустое, ибо, кроме сивой водовозки, Скудомиры оставили из живности одну лишь собачку и двух кошек. Поэтому мы послушали Когана, и, хотя Фомич и Павел ворчали, что вороные – одры – сморены и опасны, мы поставили их до приезда Вити в конюшню и стали их подкармливать. Витя понял, что лошади хорошие, полукровные, и уступались за двести рублей только благодаря своему изможденному виду. Он немедленно велел закупить овса и поручил Павлу приводить их в порядок, сам три раза в день бегал следить за их чисткой и кормом.
Витя, после всех его бесконечных поездок по ревизии, мог опять взять десятидневную отлучку. Ему начинало нравиться в Щаврах. Мы с ним обошли и объездили все имение, широко раскинутое фольварками, ездили даже за двадцать пять верст на Выспу. Так назывался принадлежавший к имению остров десятин в двести на громадном озере Селяве, прозванном так по ценной мелкой рыбке, которой нас соблазняли в озере Миадзоль. На остров вела старинная искусственная дамба, так что мы могли на него проехать в экипаже. Вид на безбрежное озеро в пятьдесят верст длины был замечательный, особенно с высокой горы на острове, со следами былой крепости. Павел пробовал нам объяснять, что это бывшая крепость Стефана Батория. Но подтверждение этому в «Спутнике» мы не нашли. Исторические сведения Павла, вероятно, черпались у Судомира и могли быть равноценны сведениям о кушетке Екатерины II в Шклове.
Иногда и Тетя ездила с нами кататься. Бернович повез нам показать «красу имения» пущу (за три версты). Отчасти вырубленная, пуща была еще богата лесом, и в ней попадались дубы в три обхвата. Теперь, когда мы воочию убедились, что Щавры действительно прекрасное имение, с прекрасной землей, мы предложили Берновичу взять себе всю прибыль, сохранив наш капитал, но за вычетом всех накладных расходов: купчей, куртажей, повинностей и, главное, проценты банку и по семейному капиталу. На заработок за наш риск, наш труд и хлопоты мы себе оставляли одну усадьбу. Бернович был на все согласен, был очень счастлив и усердно ремонтировал себе «аптечку», беленький флигель за сквером, и говорил, что устроится совершенно самостоятельно от нас со своими землемерами, людьми и лошадьми. Фомич должен был переехать со своей семьей в дом, вести хозяйство, счета, кассу парцелляции, заведовать сдачей аренд и сбором посева. Мы слышать не хотели о продаже центра: лучшей усадьбы, «укрытой» и желать было нечего.
Конечно все это отписывалось Леле в длинных письмах к нему, но ответы его, увы, погибли! Он, кажется, еще не совсем был уверен. На Казанскую мы пригласили щавровского священника. Он отслужил нам молебен с водосвятием. Молодой и картавый, он даже не очень занял Тетю. С бывшими владельцами, хотя и католиками, он был в хороших отношениях, а народ в Щаврах он считал диким и вороватым. Обедню мы стояли в своей бедной церкви с униатским колоколом. Теперь мы рассмотрели речку, отделявшую церковь и усадьбу от села. Действительно, гнилая лужа. Недаром кучер Павел, как оказалось, чуть не лишился места, когда в первый наш приезд сунулся нам пояснять, что это не река. Реки в Щаврах не было. Были колодцы и болотные лужи, а подальше – озера.
«А все-таки было хорошо, право хорошо!» – убеждала я Лелю. То же писала ему и Тетя. Ее все занимало в этой новой непривычной обстановке. Она с утра с широкого крыльца, оттененного витисом, за утренним кофе, следила за постоянными передвижениями по двору Вити, Берновича, Фомича. Она лучше нас уже знала, что переживал Бернович в молодости, слушая лекции агрономии в Венгрии. Он бежал тогда из Львова, не выдержав общества сстудентов, которые выпивали по тридцать бутылок на голову. У «аптечки» уже толпился народ, толкуя о продаже земли. Явились покупатели из Седлецкой губернии. Рядом с ним, ДонКихотом, Фомич был настоящий Санчо-Пансо. Он весь день был поглощен хозяйственными делами: запыхавшись, бегал с курами для супа под мышками, гремел ключами по всему двору, поднимал драмы по поводу дороговизны яиц и телятины, сам заказывал обед кухарке Марии и пересматривал каждое яйцо. Мы обедали все вместе, в два часа, в восемь часов ужинали, и это, конечно, было самое оживленное время.
К сожалению, с самого начала, как и следовало ожидать, между Фомичем и Берновичем установилась глухая вражда, и задирой был Фомич, который не мог простить, что Бернович будто сумел нас так «обойти» и занял его место. Придраться к Берновичу он пока не мог, но Бернович вставал поздно, Фомич вставал рано. По этому поводу, неизменно, каждый день, а иногда по три раза в день, Фомич повторял на все лады, кстати и не кстати, что он встал рано или встает рано: «Молочка попил, корочкой закусил и пошел». Этой «корочкой закусил и пошел» он набил нам все уши.
Что касается расчетов Берновича на большую прибыль, то Фомич очень в ней сомневался и постоянно язвил на этот счет, хотя не мог ничего сказать против них определенного, а так… Но когда у нас был поднят вопрос о вознаграждении, он заявил, что желал бы получить от нас, сверх пятидесяти рублей в месяц за управление имением, еще по два рубля за каждую проданную десятину, хотя продажа земли его вовсе не касалась. Витя, как-то необыкновенно любивший этого старика, согласился. Тогда Фомичу показалось, что Бернович все-таки заработает слишком много, и он заявил желание и с Берновича получать по два рубля за каждую проданную десятину, что составило бы уже несколько тысяч. Да кроме того поставил в условие: получение этих четырех рублей за десятину непременно в первую голову, при запродажной, не дожидаясь, когда мы покроем нами затраченный капитал.
Меня взорвала такая жадность, такой эгоизм! Бернович, до сих пор спускавший ему все его выходки, посмеиваясь только над его «корочкой закусил», теперь был задет за живое и деликатно, сдержанно, сумел обратить внимание Вити на то, что «сварливый старик» хватил через край не только в своих требованиях, но и вообще в критике наших действий, т. к. он был не только жаден и мелочен, но и нестерпимый болтун. Чего-чего не говорил он ему же, Берновичу про нас: и доверчивы мы, как дети, и добры, особенно Витя, до безрассудства. И хоть Витя кипятится, загораясь как зажженная солома, но стоит какому-нибудь негодяю поплакаться, и он все ему простит, все отдаст. А уж в деле-то нашем мы ровно ничего не понимаем. Витя, конечно, сообщил мне все эти комплименты. И, несомненно, побежал бы к Фомичу за объяснением, спрашивая имя того негодяя, которому он будто все прощает и все отдает, но Фомич в это самое утро уехал в Минск за женой и за вещами, намереваясь привезти с собой еще какого-то очень преданного ему человека, Викентия, плотника, который за зиму заделает все щели в усадьбе.
Перед отъездом в то утро Фомич поднял вопрос о будущем огороде для себя и преданного Викентия. Такой огород он облюбовал себе и Викентию в самой усадьбе за домом. Когда же я спросила, где же будет экономический огород, он указал на картофельник, вне ограды усадьбы, у большой дороги. «Ну, хорошо же, – подумала я, – его интересы всегда на первом месте, а нам уж потом, что останется; думает, что оседлал нас». Эта мелочь решила участь Фомича. Когда Витя прибежал мне жаловаться на него, в ответ не могло быть двух мнений: с Фомичем надо расстаться и немедля. Таково было мое мнение, вполне определенное.
Надо сказать, что при ближайшем знакомстве с Фомичем в Щаврах, он начал нас изводить своими жалобами и ворчанием: и труды-то его, и лишения, и неудобства, и печень шалит. Нет, в большом деле такой избалованный старик был непригоден. Теперь, когда еще никакого не было дела, он уже изнемогал, что же будет дальше? Но как же это осуществить? На то есть почта и телеграф: заработала почта, и Король прусский написал Фомичу очень вежливое, но решительное письмо, мотивируя трудностью задачи, которая будет ему не по силам, и в особенности не по здоровью: надо же печень полечить! А заработал телеграф, и Витя экстренно вызвал Горошко. Оставить Щавры без надзора и попечения было нельзя: Бернович брал на себя одну только парцелляцию. Мы решили платить Горошко даже шестьдесят рублей, то, что он получал в губернском присутствии, но отнюдь без обязательств платить еще и с десятины. Горошко отличался большой честностью и не был жаден: блестяще закончив продовольственную кампанию в 1908 года Вити, он решительно отказался от всякого вознаграждения, полагая, что он только исполнял свой служебный долг. Звезд он с неба не хватал, но на такого человека можно было вполне положиться. Это назначение нового министра очень утешило Витю, думавшего в первую минуту, что без Гринкевича мы пропадем.
А Горошко был совершенно осчастливлен этим предложением. Когда по телеграмме Вити он прискакал на другой же день, он даже не хотел брать денег на переезд, потому что губернское присутствие неожиданно выдало ему при расчете шестьдесят рублей, и, не теряя времени, поехал за семьей. У него была очень милая жена и трое маленьких детей. Младшая дочка, двух лет, была крестницей Вити. С Иваном Фомичем были сведены все счеты. По своей книге я высчитала ему сто дней в поездках и в Щаврах. Чек на триста рублей позолотил пилюлю, и, хотя сюрприз для него и мог быть неприятен, но зима в деревне, далеко от церквей и рынков, а также от сына и внучонка совсем не улыбалась его супруге, да и ему было жаль уезжать от своих домов. Поэтому операция обошлась без боли, он остался нашим добрым приятелем и только настоял, чтобы преданный Викентий, уже обнадеженный им, все-таки провел зиму в Щаврах за ремонтом «щелей» в усадьбе. Свою незадачу он приписал исключительно интригам Горошко, хотя тот и во сне не ожидал этого назначения. Но по мнению Фомича, Горошко мстил ему за то, что он, Гринкевич, как честный человек, жалея чужие деньги, так сетовал на него за переплаченные семьдесят пять копеек за коленкоровые шторы, приняв какие-то бляхи за «золотые карнизы» на торгах Судомира, уверял он.
Со своей стороны, Бернович винил себя за неудачу Фомича благодаря его рассказам о нем Вите: он никак не ожидал, что от слов к делу у Вити займет пять минут. Но виноват был сам наш бородач. Наслушавшись о прибылях куртажах (куртаж Когана не давал ему спать), он считал за благо и себе выговорить хороший куш из заработка, хотя и повторял, что не верит ему, чем невинно и объяснял свое требование, чтобы ему деньги выдавались вперед…
Вскоре после Казанской мы вернулись в Минск поджидать Оленьку, которая запаздывала из-за болезни своего крестника Шурика Пушкарева. Да и дорога из Владикавказа до Минска была мучительно длинна. Одно ее письмо пропало, одна телеграмма запоздала, словом, бедная Тетушка измучалась. И наконец второго ноября мы получили радостное для нас известие, что она будет у нас на другой день. А в тот же день вечером получили другую телеграмму из Щавров: Бернович телеграфировал о заключении первой сделки. В Пущи им было запродано сто семьдесят пять десятин из-под вырубленного леса крестьянам деревни Самоседовки. На другой день, в день приезда Оленьки, от него было получено и подробное письмо. Сделка прошла блестяще, по сто двадцать четыре рубля за десятину, всего на сумму в двадцать одна тысяча семьсот рублей, и вслед за ней еще другая в Пуще же: тридцать десятин по сто двадцать семь рублей. Задаток, по пять рублей за десятину, он целиком высылал нам. Обе купчие были назначены на пятнадцатое марта, до ссуды Крестьянского банка, которая выдается через полтора года под закладную для того, чтобы убедить покупателей, что теперь задатки не пропадут (как за Судомиром).
Мы были счастливы обрадовать Оленьку таким удачным началом распродажи. И, конечно, я немедленно сообщила все подробности Леле и добавляла: «Считая математически, мы заплатили за этот участок четырнадцать тысяч, а продали за двадцать одну тысячу семьсот. Вычтя тысячу семьсот на купчую, закладную, землемера и прочее, остается двадцать тысяч, т. е. шесть тысяч чистого заработка. Надеюсь, теперь ты будешь покойнее и Шунечка доверчивее. А для почина моя попадья засолила Вам к празднику окорок».
Попадья моя действительно тут как тут явилась в Минск, всегда интересная и полная энергии. Теперь она привезла нам в музей подлинную рукопись о жреце Кейте. Эта рукопись очень интересовала Лелю, и он вообще стал проектировать прислать к нам экспедицию для изучения старины, которую так усердно собирали наши археологи. «Какого рода экспедиция может быть прислана тобой? Прими в ней сам участие», – уговаривала я его, зная, с каким увлечением он относится к тому, мимо чего другие пройду совершенно равнодушно. Когда я, например, сообщила ему, что нам из Пинского уезда привезли очень искусно сделанные из соломы царские врата и венчальные венцы, ему непременно хотелось, чтобы я их зарисовала, и в каждом письме он спрашивал, нет ли еще чего нового? И чем более его интересовала эта минская старина, тем дороже становился нам этот край, и Тетя не ошибалась, когда писала Леле, что его желание посетить здешние интересные места вызывают в нас радостное чувство, и у нас, по ее мнению, явилось уже чувство собственности к этому краю: «Хвалят все здешнее». Да, это правда. Мы полюбили этот край и за его прошлое, и за его историческое значение.
192
Адель и Владимир Михалевские – дети Надежды Николаевны Михалевской, сестры тети Ольги Николаевны. В молодости Владимир считался женихом Евгении Александровны, а Адель – невестой Алексея Александровича Шахматовых.