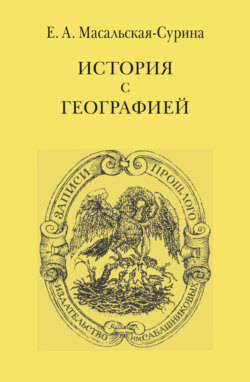Читать книгу История с географией - Е. А. Масальская, Евгения Масальская-Сурина - Страница 6
Часть I. Минск
Глава 3. Декабрь 1908. Минское церковное историко-археологическое общество
ОглавлениеНо что же это было за общество, только в котором разрешалось Витей участвовать?
Помнится, еще весной, я как-то писала брату, что не «успеваю за жизнью». «И визиты, званые вечера, обеды, а сверх того масса общественных обязательств, заседаний и пр. Кроме Второго Благотворительного Общества и приюта и Тата́, архиерей зовет меня в Красный Крест, врачебным инспектором во вновь учреждаемое «гигиеническое общество». Вчера меня выбрали в попечительство Домов трудолюбия. Состою членом покровительства животных и Археологического Общества[98]. А по утрам перевожу на французский язык один реферат, который знакомый техник Опоков готовит к конгрессу гидрологов пятнадцатого мая. Гонорар пойдет в пользу нашего приюта».[99] На это письмо Леля мне тогда ответил: «Очень жалею тебя, что ты взялась за перевод специальной работы на французский язык. Вещь очень трудная и ответственная. Береги свои силы и не разбрасывайся. Получится в результате полное неудовлетворение. Сужу по себе, а силы наши в общем одинаковые. Лучше всячески сокращать свою деятельность, чтобы делать ее производительнее. Если бы ты сосредоточилась на Археологическом Обществе, было бы, думаю, целесообразнее и вышел бы действительно толк».[100] Я всегда считала брата неизмеримо выше себя по мудрости житейской (ученые достижения мало меня трогали), и я послушала его совета. Работу Опокова пришлось, конечно, закончить. Она, действительно, была очень специальна (о речных системах) и нестерпимо скучна.
Но, хотя от приюта Татá я не могла отказаться никоим образом, я смогла, числясь членом других обществ, ограничиваться одними пятирублевками и внимательнее отнестись к Археологическому Обществу, как мне рекомендовала Леля, а теперь и Витя, по-видимому, как панацею от всех зол. Это общество не привлекало внимания дам патронесс: там, кстати, ни одной из них и не было. Оно скромно, по инициативе епископа Михаила, работало под сенью архиерейского дома, занимая в нем две комнаты и два сухих подвала. Средства были очень ограниченные, зато любви к делу премного. Председателем общества был скромный старичок Былов – директор народных училищ. Далее главными действующими лицами были Панов, инспектор духовной семинарии, Смородский – преподаватель малой гимназии, Скрынченко[101] – редактор епархиального ведомства, А. К. Снитко – помещик. Комитет существовал фактически уже с весны 1907 года, но устав его был утвержден Синодом в октябре и официальное открытие его было тринадцатого февраля 1908 года, в день трехсотлетия со дня кончины князя Константина Константиновича Острожского[102], ставшего патроном этого общества. Членами общества были разбросанные по губернии священники, учителя и любители старины.
Следы этой старины, хоть и слабые, стертые польской культурой, бережно и упорно собирались ими, чтобы доказать, что этот край – исконно русский и православный, не «забранный» у поляков, как утверждали последние. Из дальних и глухих церквей стали присылать в музей старинную и церковную утварь, иконы, рукописные Евангелия. Попадались интересные вещи, старинные облачения, соломенные двери, соломенные венчальные венцы из древних бедных церквей Полесья, старообрядческие кресты, слуцкие пояса, деревянные ангелы из униатских церквей, бронзовые изображения языческого божества, бронзовые кольца и монеты из раскопок, даже окаменелости, а также старые книги и рукописи. Конечно, последние более всего заинтересовали Лелю, который очень обрадовался, узнав о создании такого музея, причем он все справлялся, не будет ли у нас печатного органа? Тогда бы я мог дать свою статейку об одной Туровской церкви, писал он[103]. Таким печатным органом явилась «Минская старина», изданная позже, уже в 1909 году.
Еще в начале 1907 года мы случайно узнали о смерти известного коллекционера Г. Х. Татура[104], «ограбившего», как говорится, все церкви Минской и Могилевской губерний. Витя, разделявший мою страсть к старине и тоже член Археологического Общества, тогда немедля разыскал домик Татура, где-то на выезде за рекой Свислочь, и мы поехали к его вдове – бездетной, полуграмотной и придурковатой женщине. Покойный оставил ей весь свой музей, в котором, конечно, она ровно ничего не понимала. Со слезами умоляла она нас «просить государя купить у нее эти оставленные ей мужем вещи», причем, в глазах ее, этот муж был очень неосновательный человек, совсем не умевший деньгу зашибать! Но покойный путем мены именно умел ее зашибать, потому что четыре низкие комнаты ее деревянного домика были сплошь завалены такими ценностями, которые, конечно, не могли быть им выкрадены. Чего тут только не было! Начиная с полного рыцарского вооружения с гербом князя Радзивилла, ценных картин, громадного количества книг и рукописей, церковной утвари, антиминцев, крестов, древних икон и Евангелия и кончая коллекциями монет, минералов, египетских ценностей, амулетов, драгоценных камней, колец и пр., пр., все это было навалено одно на другое и покрыто густым слоем пыли и паутины. У знатока-антиквара глаза бы разбежались!
Мы с Витей, не медля, переписали названья нескольких рукописей и послали их Леле, умоляя приехать его самого. В ответ, через день, Леля телеграфировал, что Академия Наук командирует ученого, хранителя рукописей Срезневского, а еще через день Срезневский[105][106] спешно прибыл в Минск. Он познакомился с рукописями, взял под расписку некоторые из них, которые он считал нужными представить Академии для того, чтобы выхлопотать сумму денег для их приобретенья.
Действительно, Академия сочла их интересными, важными. Был поднят вопрос, как раздобыть десять тысяч, чтобы приобрести всю коллекцию, которую вдова отдавала с большой охотой. Волновался Леля, боясь потерять случай приобрести для Академии все эти ценности. Волновались и мы с Витей, и особенно душа Археологического Общества Андрей Снитко, местный белорусский помещик, с которым мы очень тогда сошлись. В Академии дело как будто и налаживалось, но что-то затягивалось. Выхлопотать такое крупное ассигнование было нелегко. Опасаясь, что ценная коллекция, оставшись без призора, разойдется по рукам скупщиков (Академия была намерена взять лишь книжный рукописный запас), Скрынченко известил известных любителей и знатоков: графиню Уварову[107], Забелина[108], Щукина[109], князя Щербатова[110]. Но графиня Уварова была в отсутствии, Щукин и Забелин тяжело больны, Щербатов заглазно предполагал дать восемь тысяч за все.
Тем временем приехал к вдове Татур меценат граф Тышкевич[111], взглянул на эти четыре комнаты и, не торгуясь, выложил ей наличными двадцать тысяч. Все было немедленно запаковано и отправлено в его резиденцию «Червонный Двор»[112]. Снитко и Скрынченко чуть не плакали, а Леля не успел еще даже выяснить решение Академии, когда нам пришлось известить его о необходимости вернуть рукописи, закупленные Тышкевичем.
Хотя мы были членами общества, которое фанатически собирало все следы русско-славянской культуры и было одушевлено довольно острым антагонизмом с польской культурой и «польским засильем», мы с Витей не могли проникнуться их шовинизмом! Эти чувства совершенно чужды восточным губерниям, где борьба национальностей отсутствует и в особенности не разжигается. Там почти сплошь одно русское племя, а инородец является даже приятным исключением. С немецкими колониями, хотя и обставленными гораздо лучше нас, антагонизма не было совсем, хотя они держали себя отчаянно особняком, а с мордвой, татарами, чувашами к чему же тягаться?
Нельзя было не дать справедливой оценки не польскому народу, мало отличающемуся от нашего, но польской интеллигенции, в которой чувства патриотизма и национальности не разбавлены безразличием, космополитизмом, нигилизмом! Они любят свою родину и гордятся ею, гордятся и деятелями ее. Для них не безразличны, не вызывают критики и насмешки имена князей Островских, Огинских, Сапег, Сангушко, Вишневецких, Друцких, в особенности самых популярных из них Радзивилл. Имена князей: Радзивилл Черный[113], Радзивилл Сиротко, Радзивилл Пане-Коханский[114], произносимые с восторгом и уважением, слышатся в любой польской речи, когда поляки перебирают прошлое и настоящее своей родины. Несвиж, Лахва, Клецк, Мир, Олыка и сотни других местечек и селений, владения князей Радзивилл (частью отошедших по женской линии к Гогенлое, Витгенштейнам и конфискованных) известны всему краю.
Из современников еще существовал князь Радзивилл на русской службе, принимавший участие в Японской войне. Раза два он заезжал к нам по поводу каких-то раскопок и орудий каменного века, которые он хотел пожертвовать в Эрмитаж. Старшая линия Радзивилл живет за границей, вдова с малолетними сыновьями, и только изредка наезжает в свой замок в Несвиже близ Немана, дивный исторический замок! Было еще немало замков и менее видных палаццо с остатками былого великолепия, владельцы которых бережно хранили памятники былой культуры и собранные ценные библиотеки, картинные галереи. Щарсы Хрептовичей, Логойск Тышкевичей, Мышь Ходкевичей[115], Погост Друцких-Любецких, Березино Потоцких и многие другие – настоящие музеи. Поречье Скирмунта с образцовым хозяйством[116] не вызывают своим богатством зависти, а будят национальную гордость той части интеллигенции, которая у нас считает своим долгом становиться в оппозицию и бежать с красным флагом впереди пьяных погромщиков.
Но я опять возвращаюсь к погромам! Да, забыть их нельзя, но не вспоминать их можно усилием воли. Нам мало приходилось тогда встречаться с польским Обществом, которое только раз в год перед Рождеством съезжалось в Минске на свои блестящие благотворительные базары и балы. Обыкновенно же Общество круглый год проводило за хозяйством в своих имениях. Мы не знали польского языка, не читали польских исторических книг, но самое поверхностное знакомство с историей этого края, на месте, представляло в ином свете и раздел Польши, и польские мятежи, и Муравьева[117], и ссылки.
Давно, мне не было отроду года, когда отец наш[118], прокурор в Воронеже, поднял бурю негодования в обществе и навлек на себя гнев администрации тем, что возмутился, узнав, что из Киева гонят в Сибирь партию польских студентов в кандалах. Без разговора он велел с них снять эти кандалы и горячим заступничеством в Министерстве настоял на прекращении подобной жестокости. Как понимала я его теперь, вспоминая этот поступок![119] Студенты эти не губили свою родину, а защищали ее, не могли мириться с ее утратой!
В Археологическом Обществе один Снитко понимал нас, но мы и не входили ни в какие препирательства с остальными его членами. Все это были, вероятно, прекрасные люди, горячо преданные своему делу. Они, конечно, были правы, когда отыскивали под слоями былой пышной культуры Польши свои исконные земли. Ведь то были православные русские княжества, земли князя Владимира и его потомства, бывшие за ними задолго до владения католической Польши. Нельзя было требовать от них равнодушия к заветам своего патрона князя К. К. Острожского, киевского воеводы, сына знаменитого гетмана литовского Константина Ивановича! Героический дух защитника русского народа и православия против воинственного католицизма и полонизма, широкие стремления бороться с ними путем просвещения народа, школы, типографии, первое издание (1581) и перевод Библии и богослужебных книг по греческим подлинникам (70 толковников), а не только несметные богатства (в его владении было двадцать пять городов, шестьсот церквей, девяносто монастырей) окружили славой имя этого последнего представителя доблести и духовной силы, названного в грамоте Стефана Батория[120] «Верховным Хранителем и защитником церкви православной, веры „старожитной“». В свои восемьдесят два года этот друг Андрея Курбского[121] все также пользовался популярностью и общим уважением, то, чем уже не пользовались его дети[122].
Были правы члены нашего общества, утверждая, что русская культура X–XII веков в Киевской Руси достигала высокой степени развития, нисколько не ниже западноевропейской, пока волны татарских полчищ и восточных кочевников не смели ее с лица земли. России тогда приходилось выдерживать натиск и первые удары варваров, высылаемых Азией на Европу и, грудью защищая Запад, сама превращалась в пожарища, развалины и пустыни. А когда после двухсот лет рабства и разорения Россия справилась со своей бедой, по выражению одного старинного историка, она стала как бы «новой землей после вторичного потопа»: города, крепости и замки были сожжены дотла, даже старинные названия их исчезли, от Холмгарда, Тунугарда, Роталы, Альргема и других городов не осталось и следа! Явились новые обычаи и законы, новое управление, новая жизнь. Народ был истощен, и былой блеск этого государства померк. А западные государства, от которых Россия отстала на два века, шагали вперед в своем развитии. Польские и Литовские государства сменили русские княжества. Россия стяну лась к Суздалю, Москве, а Киевская Русь стала Польшей! Польшей она стала несколько сот лет тому назад, и польская интеллигенция и не вспоминает русских князей. Эти западные губернии испокон веков были их земли, а теперь русские отнимают у них родину! Прощать русским, более даже чем немцам, раздела и покорения Польши они не могут. Это их Польша! Теперь нашим скромным работникам просвещения оставалось лишь разыскивать следы валов, курганов, укреплений, неизвестных городов, записывать предания, песни и легенды, в которых встречались имена и события летописи: Копыл, Случеск, Клецк, Новогрудок, Менеск и др.
Теперь, когда Тышкевич увез в Червонный Двор всю коллекцию Татура, мы вряд ли уже могли порадовать Лелю, бывшего в полном отчаянии, чем-либо особенно интересным. Рукописи разыскать не удалось. Я сообщала ему все, что присылали в музей из уездов, но пока то были сущие пустяки: рукописные евангелия не старше XVI века, октоих, иконы далеко не древнего письма. Заинтересовало его предложение одного псаломщика игуменского собора продать старинный медный крест с надписью 1010 года. Леля просил снять с него фотографию и написать заметку для помещения в «Известия Академии Наук». Надпись была интересная, этот крест, гласила она, был дан святым Иоанном Богословом преподобному Авраамию[123] для победы над идолом Велесом при князе Владимире. Но точно такой же крест хранился в Авраамиевском монастыре (см. Шляпкин[124]). Который из них был подлинный?
По этому поводу мы перекинулись с Лелей несколькими письмами, и Леля все более и более в курсе наших дел, он очень одобрял намеченные обществом экскурсии по губернии и сам мечтал принять в них участие. Первая наша экскурсия была на ближайшую, в 30 верстах от Минска, станцию Заславль, некогда город Изяславль, удел князя Изяслава, сына Владимира[125] и Рогнеды[126], столица большого княжества. Снитко привез с собой своих двух сыновей-гимназистов и прочел нам лекцию о драме княгини Рогнеды Гориславны, гордой Нормандки[127], не мирившейся с изменой князя Владимира.
Мы обошли высокое укрепление с бастионами, с волами, рвами и следами колодца в бывшей крепости (вероятно уже Литовского периода, но занявшей место древнего Славянского укрепления).[128] Это укрепление с Преображенской церковью вместо древней, времен Владимира, видно из окон вагона и находится между двумя речками, притоками Свилочи: Княгиньки и Черницы. Быть может, отражение предания о княгине, ставшей черницей под именем Анастасии в монастыре ею же основанном. На месте его, у минской дороги, на распаханном поле, указывают могилу Рогнеды. Случайно на этом месте в 60-х годах был открыт склеп и в нем богатый гроб, но его немедленно засыпали. Старожилы указывают невдалеке от местечка высохшее озеро Рогнедь, рассказывают, что между двумя церквами местечка стоял дворец князя Владимира, словом, здесь Нестор[129], здесь русская История и великолепный дворец Сапег, владельцев Изяславля с XVII века, не заглушает, конечно, кратких воспоминаний о Владимире и Рогнеде. В последнее время во дворце Сапег устроился русский помещик Хоментовский, и мы с Витей бесконечно жалели, что только года два тому назад он за бесценок продал это имение Протасевичу. Хоментовские были родные Зузиным, и Екатерина Александровна Попова много рассказывала про это имение, постоянно проводя у них лето. Но мы слушали тогда рассеянно, еще понятия не имея о Минской губернии, и знали о ней постольку, поскольку гласит учебник географии!
Леля с возрастающим интересом откликался на все эти письма. Мы уговаривали и его принять участие в какой-либо экскурсии и соблазняли поездкой в Пинский уезд, особенно мало исследованный и древний край. Леля обещал приехать на Рождество. «С удовольствием думаю о свидании с вами и предстоящей поездке. Меня очень соблазняет перспектива съездить в Пинский уезд, но не знаю, будет ли время, хватит ли денег? Я теперь работаю всецело над языком, и мне весьма было бы важно прослушать хорошую белорусскую речь. Здесь трудно найти белоруса, не тронутого городской культурой и не изломавшего свой язык. Мечтаю завести хороший фонограф, который перенимал бы речь».[130]
Снитко, в ожидании приезда Лели, выбрал ему с этой целью два пункта: в Борисовском уезде, если Леля будет спешить, и в Пинском, у полещуков, если у него будет время на поездку в край, уже поистине не тронутый культурой. Леля обрадовал нас своим приездом в самый Сочельник. Он привез с собой фонограф, познакомился со всем нашим Археологическим Обществом и, проведя с нами первые дни праздников, по совету Снитко собрался съездить в ближайший пункт, в Борисовский уезд. Только 30 декабря вечером он вернулся к нам из своей поездки. Совершенно случайно, в одной из записных его книжечек, сохранилась запись, которую он начал вести в дороге, и, хотя она ограничивается первыми двумя днями, я приведу ее здесь в память об этой поездке.
«27 декабря 1908 года я выехал из Минска. В 12 часов 20 минут дня скорым поездом на станцию Приямино (Бояры) М. Бр. ж/д.[131] В три часа я был в Приямине, первая станция за Борисовым. Нанял единственного ямщика (из деревни Млехова) за 1 рубль 30 копеек до станции Вилятич. Парень показался мне сначала придурковатым; если бы не его товарищ, он бы и не поехал и не сумел бы завязать моих многочисленных вещей. Дорога (12 верст) на Бояры и Смотки; от Бояр идет некоторое время прекрасным сосновым бором. В Смотках встретили священника Велятического, к которому я имел рекомендацию; он ехал, как оказалось, в Начу, в гости. Я его не остановил и решил обратиться к учителю. Все-таки имел в виду подъехать к дому священника: узнав, что его нет, попал к училищу. Подъезжая, спросил, дома ли учитель? Ответили, что гуляет. И в это время подошел учитель с женой. Оба молодые и симпатичные. Сразу предложили остановиться у них. Я подал свою визитную карточку, потом, для большого спокойствия, передал учителю свой паспорт. Скоро появился самовар. Учитель понял, что мне нужно, начал хлопотать, отыскивая людей, но безрезультатно. Был уже вечер: этим объясняется невозможность добиться кого-нибудь; кроме того, школьный сторож Данила довольно мешковатый человек. Пришлось провести вечер втроем. Яков Константинович Козелл и Софья Васильевна только что в октябре поженились, она полька из Несвежа, приняла православие здесь, в Смотках, в октябре тайно от родителей. Местный священник Александр Савич не согласился ни приобщать ее по православию, ни венчать за недостаточностью документов, просроченный паспорт: ему двадцать, ей девятнадцать лет. Она интересная и живая, он добрый малый, кажется, не очень способный. Жалование 300, а с вычетами 22 рубля в месяц. Его мечта попасть в учительский институт. К тому же тяжелые условия здесь, квартира холодная и сырая, а школа совсем не снабжена учебными пособиями, на ученика приходится по 15 копеек, нет учебников, бумаги, перьев. Удивительно все в беспризорном виде, и никому-то нет об этом заботы. Вечер мы провели в рассматривании фонографа, потом он стал читать по-белорусски привезенную мною брошюрку Гэдили Оржешко; выяснились особенности его говора. Он их и наговорил в фонограф: различие [пропуск] и б, произношение о в [словах] стол, поп, посев (между о и у) и некоторые другие; поздно легли спать. Ночь была тревожная. Очень уж было жарко натоплено.
Утром я начал беспокоиться, что дело не пойдет; пошли прогуляться с Я. К. Он встретил Степана Агата, местного пьяницу и забулдыгу, и поручил ему привести кого-нибудь. В это время в школу сошлось много народу, дожидавшегося обедни (после заутрени). Мы вышли к ним, разговорились. Я просил пригласить одного из стариков. Он и наговорил первый валик. С ним пришел другой. Комната стала понемногу наполняться. Скоро народу оказалось столько, что уже не было отбоя. 2 ½ часа был перерыв для обеда; пришел один ученик лесного училища (в Рудне) Александр Филиппович, довольно приятный малый. Он тоже обедал. После обеда сошелся опять народ слушать «представление», и всякий охотно подставлял голос. Валиков скоро было очень немного, осталось всего два чистых, и я прекратил записи. С 7 часов до 10 мы втроем проверяли сделанные записи. Опять сошлось народу порядочно, частью для проверки спетого (одна женщина спела так, что ничего из слов нельзя было разобрать). Пришел со скандалом Степан, которому я за день определил 75 копеек, с требованием денег. Учителю пришлось его выгнать. Вечером пили чай с колбасой. В 12 легли спать, наняв с вечера подводу в Ухвалу за 1 рубль 50 копеек (25 верст), Прокопия Яковлевича Ильяшенко. Дорога на Ухвалу – Горонно на Бобре».
На этом прерывается запись Лели, и, в дополнение ее, я приведу еще письмо его к Шунечке: «Я был только в двух местах, но очень удачно. Уже в первом месте все 20 валиков были заполнены. В следующем месте я уже должен был ограничиться простым записыванием карандашом. При свидании расскажу разные подробности и знакомства. От станции железной дороги я был сначала в 15 верстах, а потом в 40 верстах. Если бы было время, я, конечно, пробыл в поездке дней 10-12. Путешествие стоило сравнительно недорого, хотя и расплачивался хорошо с крестьянами, рассказывавшими мне сказки и певшими мне много песен. Вчера вечером не мог удержаться от того, чтобы не распечатать свои ящики и проверить записи (некоторые из них). Боялся, что все разбито по ухабам. Но все оказалось цело. Ты понимаешь, как я доволен и как наслаждаюсь достигнутыми результатами. И вообще я вынес очень много из своей кратковременной поездки, т. к. был в самом тесном общении с крестьянами. Беднота и глушь страшная. Я привез образец хлеба, который они едят. Это что-то ужасающее, довезу его до Петербурга».[132]
Действительно эта краюха черного хлеба напоминала образцы «хлеба голодающих», но о том потому и кричали у нас, а здесь это было обычным явлением, по-видимому, никого не удивлявшее. Да и вся жизнь этой «темноты» соответствовала такому хлебу! Даже в школах, которые все же там насаждались (хотя и очень туго), ученики учились писать, лежа на полу, на животе, за неимением парт и скамеек, несмотря на то что лесу вокруг было сколько угодно. Я бы добавила в моей «Истории с географией», что Велятичи – очень древнее поселение в земле Кривичей: «В нем еще много сохранилось песен и преданий о древних князьях и татарских битвах, много курганов «волотовок или волоток» – древние земляные копцы, которые заменяли некогда у славян нынешние верстовые столбы».[133]
98
Минский церковный историко-археологический комитет (общество), созданное для изучения белорусской церковной старины при Минской епархии в 1908 г., действовал до Первой мировой войны.
99
Письмо Е. А. от 18.3.1908.
100
Письмо А. А. от 31.3.1908.
101
Скрынченко Дмитрий Васильевич (1874 – 1947), богослов, публицист, историк, педагог. В 1910-1912 гг. редактировал газету «Минское слово».
102
Острожский Константин Константинович (1526 – 1608), староста Владимирский и маршалок Волынской земли (1550 – 1608), воевода киевский (1559 – 1608), покровитель православной веры. Младший сын великого гетмана литовского князя Константина Ивановича Острожского (1460 – 1530). Основал Острожскую типографию, в которой работали первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец.
103
Письмо А. А. от 8.3.1908.
104
Татур Генрих Хризостомович (1846 – 1907), белорусский археолог, историк, краевед, коллекционер, член Минского статистического совета, уездный маршалок дворянства.
105
Срезневский Всеволод Измаилович (1867 – 1936), археограф, палеограф, историк литературы, библиограф, член-корр. ИАН, в 1891-1893 гг. работал в Императорской публичной библиотеке, с 1893 – в Библиотеке академии наук, где в 1901-1931 гг. был хранителем отделения славянских рукописей.
106
Срезневский Всеволод Измаилович (см. примечания).
107
Уварова Прасковья Сергеевна (рожд. Щербатова, 1840 – 1924), графиня, археолог, историк, председатель Московского археологического общества, жена А. С. Уварова, основателя Исторического музея, почетный член управления Музея.
108
Забелин Иван Егорович (1820 – 1908), археолог и историк, специалист по истории Москвы; член-корреспондент по разряду историко-политических наук, почётный член ИАН, инициатор создания и директор Императорского Российского Исторического музея. Автор ряда капитальных трудов по истории России.
109
Щукин Сергей Иванович (1954 – 1936), московский купец и благотворитель, коллекционер.
110
Щербатов Николай Сергеевич (1853 – 1929), князь, историк, археолог. Последний директор Императорского Исторического музея в Москве, брат графини П. С. Уваровой.
111
Тышкевич Бенедикт Ян (1852 – 1835), коллекционер из рода Тышкевичей, владелец Червоного (Красного) двора под Ковно.
112
В Ковенской губернии.
113
Радзивилл Николай Христофор по прозвищу Чёрный (1515 – 1565), государственный деятель Великого княжества Литовского, отец Николая Сиротко. Был прозван Чёрным из-за цвета своей бороды.
114
Радзивилл Кароль Станислав (Пане Коханку, 1734 – 1790), виленский воевода с 1762 г. Владел огромным поместьем, знаменитым Несвижским замком.
115
Графы Ходкевичи на Мыше и Шклове.
116
См. Довнар-Запольский. Путешествие по Пинскому уезду.
117
Муравьев-Виленский Михаил Николаевич (1796 – 1866), граф, участник Отечественной войны 1812 года, гродненский, минский и виленский генерал-губернатор (1863 – 1865). Известен решительным подавлением восстаний в Северо-Западном крае, прежде всего, польского восстания 1863 г.
118
Шахматов Александр Алексеевич.
119
О котором прочла случайно в его письме к матери.
120
Баторий Стефан (1553 – 1586), король польский и великий князь литовский. В 1579 выступил в поход на Московское государство, но после ряда побед над войсками Ивана Грозного, не смог взять Псков и заключил перемирие с Москвой.
121
Курбский Андрей Михайлович (1528 – 1583), русский полководец, политик, писатель, приближённый Ивана Грозного. Однако в 1564 г. в разгар Ливонской войны получил известие о предстоящей опале, бежал и поселился в Великом княжестве Литовском, откуда вёл с русским царём многолетнюю переписку.
122
Слава Острожских померкла, хотя род их погас значительно позже, в XIX в. Граф и графиня Блудовы, последние из их рода, пожертвовали громадные деньги на устройство целого ряда благотворительных и просветительных учреждений в городе Остроге.
123
Преподобный Авраамий был блестящий проповедник, иеромонах Успенского Собора Смоленской кафедры XII–XIII в.
124
Шляпкин Илья Александрович (1858 – 1918), филолог, палеограф, историк древнерусского искусства. Здесь имеются в виду его работы: Опись рукописей и книг Археологической комиссии при Псковском губернском статистическом комитете. Псков, 1879 и Описание рукописей Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. СПб, 1881. – Примеч. сост.
125
Владимир Святославич (ок. 960 – 1015), князь новгородский (970 – 978), князь киевский (978 – 1015), пришедший к власти в Киеве после убийства своего брата Ярополка. Исповедовал язычество, принял крещение в 988 году, объявил христианство государственной религией, вошел в историю как Креститель Руси.
126
Рогнеда Рогволодовна (ок. 960 – ок. 1000), княжна полоцкая, дочь князя полоцкого Рогволода, одна из жён великого князя киевского Владимира Святославича, мать князя полоцкого Изяслава Владимировича – родоначальника династии Изяславичей Полоцких, великого князя киевского Ярослава Владимировича и первого князя волынского Всеволода Владимировича. Владимир сначала изнасиловал будущую супругу Рогнеду на глазах её родителей, а затем убил её отца и двух братьев. Рогнеду, просватанную прежде за Ярополка, он насильно взял в жёны.
127
Неточность: княжна Рогнеда из Полоцка никакого отношения к выходцам из французской провинции Нормандии не имела. По мнению некоторых исследователей правящая в Полоцке династия была варяжского происхождения.
128
Вокруг Заславля очень много курганов. Смотри раскопки Игнатьева (член Московского Археологического Общества) 1879 года. Предполагается, что здесь были поселения давно исчезнувших с лица земли народов, не родственных позднейшему населению XX век (теория Лели о финских племенах).
129
Нестор (1056 – 1114), монах Киево-Печерского монастыря, летописец, агиограф конца XI – начала XII вв., автор «Повести временных лет». Анализу летописания, в том числе Несторовой летописи посвящены одни из важнейших трудов А. А. Шахматова.
130
Письмо А. А. от 22.11.1908.
131
Минское отделение Белорусской железной дороги. – Примеч. сост.
132
A. A. 31.12.1908.
133
Россия Семенова, том IX.
Имеется в виду: Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. Под ред. В. П. Семенова, СПб.: А. Ф. Девриен, 1899-1914. Т. 9: Верхнее Поднепровье и Белоруссия (Смоленская, Могилевская, Витебская и Минская губ.), 1905. – Примеч. сост.