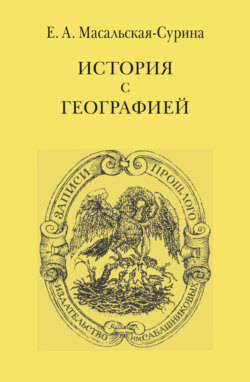Читать книгу История с географией - Е. А. Масальская, Евгения Масальская-Сурина - Страница 9
Часть I. Минск
Глава 6. Март-апрель 1909. Улогово-Лауданишки
ОглавлениеЗа всеми этими заботами о Коростене и князе Васильше мы совсем забыли даже думать о покупке имения, хотя и не отказывались, больше по привычке, от географических бесед с комиссионерами.
Особенно донимал нас один полячок, буквально с мольбой, взглянуть на предлагаемое имение под Полоцком. «Ну съезди, чтобы отстала пиявка», – сказала я Вите, потеряв терпение от ежедневных посещений этой несчастной тощей фигуры с бледным, вытянутым лицом. Сама я была занята вторым приездом моей попадьи! Пользуясь праздничным днем, Витя выехал с ним на Полоцк и Польшу, в двух верстах от которой было Улогово, о котором так скорбела эта пиявка. Но владелец Улогово, отставной полковник Ганзен, спившийся холостяк, довольно негостеприимно встретил покупателей, хотя продавал имение потому, что после смерти матери-хозяйки изнывал от скуки, и готов был продать Улогово за бесценок. Все имение было до крайности запущено, усадьба развалилась, и хотя летом, вероятно, и было красиво большое озеро в усадьбе, общее впечатление, по крайне мере под снегом, получилось самое неблагоприятное. Когда после нескольких часов, проведенных на морозе и в снегу, Витя вернулся к Ганзену, не только не предвиделось обеда, но пиявка с трудом выхлопотал и черствого хлеба к стакану жидкого чая. Впрочем, подали еще кусок совершенно высохшего сыра. Витя, проголодавшись, пытался отрезать себе кусок этого сыра, но только расколол ножом тарелку. Вообще вся обстановка, угощение, разговоры, напоминали Плюшкина. Имение совсем не понравилось, и на Улогово был поставлен крест. Только пиявка все еще долго не хотела отстать от нас, и даже завязалась переписка с Ганзеным по поводу уступки в цене имения.
К несчастию Ганзена или вернее пиявки, который не терял надежды уломать нас, Ганзен вздумал писать и Вите, и пиявке одновременно. Он перепутал конверты, и Витя получил письмо, написанное Ганзеном пиявке. В нем Ганзен выражался очень нелестно по поводу того, что Витя не сумел достаточно оценить Улогово. Доставалось и комиссионеру: «Если все рекомендуемые им покупатели будут бить посуду, то ему, Ганзену, придется идти по миру». Витя отослал это письмо Ганзену обратно с припиской, тоже не особенно лестной для его автора. Вопрос о покупке Улогово был исчерпан, к большому огорчению пиявки, которому пришлось дать денег на покрытие расходов по поездке. Он пробовал подъезжать еще с новыми предложениями, но нам было теперь не до имения.
Археология брала верх. 27 февраля наш комитет устроил в Дворянском собрании вечер в пользу своих скудных средств. Ведь готовился уже к печати первый выпуск «Минской старины», а к весне намечались экспедиции. Зал был переполнен: масса учеников, учителей, а в первых рядах высший свет. Кто менее всего интересовался этим краем и его «русским» прошлым, о котором так скорбел Скрынченко, счел долгом показаться «ради архиерея» и «русских тенденций русификации» и прочих прелестей. Все сошло гладко: пел архиерейский хор, Снитко читал о Минске в XVII веке, Скрынченко о белорусах и их языке, все как следует быть, и мы с Оленькой туда же. Оленька спела под аккомпанемент рояля и припев хора «Плач Ярославны» на слова о Полку Игореве[153], слова вполне соответствовали общему тону; нам же с Тетей приятно было услышать это исполнение музыки дяди. Как ни странно, сестра, конфузливая до дикости в обращении и разговоре, совершенно преображалась во время пения. Она нисколько не робела не только петь в гостиной, но и в большом зале при публике, голос же ее с годами только крепнул и не терял красивого задушевного тембра, без малейшей аффектации. Я же, наоборот, не так страдала конфузом, как она, но выступать с лекцией «Памятники старины», бывшей моим номером этого вечера, не решилась. Хотя мне и пришлось как-то «читать», но то было в пользу голодающих и вполне благожелательной и сочувствующей среде[154]. Теперь же под взорами высшего минского общества я предпочла только сама послушать ее, и за меня ее прочел, с чувством, с толком, с расстановкой, брат Татá Всеволод Петрович, граф Корветто. Конечно, Татá сочувствовала и помогала нам в этот вечер так, как если бы это был ее вечер в пользу приюта.
В этой коротенькой лекции вылилось у меня то, что должно было вызывать живой интерес к этому краю и его далекому прошлому. Думалось, что кроме кучки любителей и педагогов, все слушатели так же, как и я, так основательно забыли и спутали все события древнерусской истории и так плохо применяли эту историю к географии, хотя бы одной Минской губернии, что вряд ли, проходя по нижнему базару Минской улицы, по доскам, закрывавшим реченку Немигу, впадавшую в Свислочь, предполагали или вспоминали, что это та Немига, ровные берега которой были усеяны костьми русских сынов во время борьбы Полоцких князей с Киевскими в XI веке. Что все эти неважные теперь города и еврейские местечки Минской губернии возникли в доисторическое время, и многие из них несли за собой славное прошлое, как Туров – столица дреговичей, рассадник христианства в Полесье; Новогрудок – столица Литовского королевства с разрушенным замком Миндовга; Пинск – удел Киевских князей с монастырем времен Святого Владимира и пр. Даже ничтожные местечки Копыль и Клецк когда-то были укрепленные столицы самостоятельных отдельных княжеств.
Нам с Витей, по крайне мере, приходилось учиться истории заново, с приложением ее к географии Минской губернии. Одно мне было жаль, что Скрынченко, напечатав эту лекцию в Минском Братском Листке и в Минской Старине, принес мне ее готовые оттиски в маленьких брошюрках. Я, конечно, послала экземпляр Леле. «Прочел с интересом, – ответил он, – сообщил бы несколько замечаний, если бы ты прислала ее мне в корректуре. (!) Но вообще она очень интересно и живо написана». Как были бы интересны именно его замечания! Вот кто хорошо знал историю и географию этого края. И как радостно было бы именно ему видеть наяву те местности, которые он так хорошо знал по своим летописям. И если бы он мог принять участие, например, в предполагаемой летом экскурсии в Туров!
Этот вечер заставил нас опять вернуться к общественной жизни в Минске, от которой мы немного отстали, благодаря нашим отъездам. Стоило пропустить несколько званых вечеров, как мы уже отстали от светского колеса в Минске. Теперь же у нас явилась новая забота. Эрдели обратился к Вите с предложением купить имение в Слуцком уезде, где предводитель Лопухин оставлял свою должность. Согласно последнему циркуляру министерства, предводитель, назначаемый в западный край, должен был непременно иметь земельную собственность.
Витя взволновался. Хотя должность предводителя и являлась классом ниже непременного члена, но по своей независимости, да и по своей деятельности, была предпочтительна, и далеко не каждый предводитель мечтал идти в губернское присутствие и менять свой уездный город на губернский, хотя непременный член имел прерогативу его ревизовать. Между уездными городами Минской губернии Слуцк был из лучших, но… он не стоял на железной дороге, и сообщение даже с Минском было очень сложное. От Минска несколько часов по железной дороге до станции Осиповичи. Пересадка, и по железнодорожной ветке до Старых Дорог и оттуда еще 47 верст по шоссе. Конечно, с точки зрения наших археологов, Слуцк чудесный город. Достояние Владимира Мономаха в XII веке; Литовская столица Слуцкого княжества, князей Олельковичей[155] в XIII веке. В XVI веке с прекращением мужской линии Олельковичей переходит к князьям Радзивиллам[156] и затем по женской линии переходит к Вихгенштейнам и Гогенлое.
Нам рекомендовали купить в Слуцком уезде для ценза имение Горки, но купить его нам показалось еще сложнее Новгородского. В чем состояла эта сложность, не помню; быть может, более всего нас смутили расстояния и сообщение. Оно было в 45 верстах от Слуцка и 70 верстах от железной дороги. При таких расстояниях и неминуемых разъездах, жизнь представлялась нам не иначе, как в экипаже, а между тем Горки продавались абсолютно без всякого инвентаря, и одна покупка экипажей и лошадей являлась уже достаточно накладным расходом. А совладелица наша Оленька с Тетей к нам и не доедут, а уж как мне там будет весело, когда Витя будет проводить целые сутки в дороге. И представляла я себе зимние метели и темные осенние ночи… Нет! Нет! После Горок нам морочили еще голову несколькими имениями в Слуцком уезде, но все они стоили дорого. Слуцкие земли славятся своей урожайностью, продавались без «комбинаций» и отстояли очень далеко от железной дороги. К тому же дело Лопухина затягивалось, и мы рисковали, заехав с головой в какое-нибудь имение за 70-80 верст от железной дороги, так там и засесть.
Но теперь Леля одобрительнее отнесся к этим предположениям и писал: «Очень важное предложение сделано Виктору Адамовичу. Меня сначала поразила мысль о предстоящей разлуке, а также о еще большем расстоянии отсюда до будущего вашего места жительства, но теперь я склоняюсь к тому, что, пожалуй, на это предложение не следует отвечать отказом. Дело в том, что место члена губернского присутствия может быть упразднено с введением реформ местного управления, и Виктор Адамович может остаться за штатом. И губернатор будет иметь основание считать себя свободным без всяких обязательств, ввиду того, что Виктор Адамович не последовал его совету. Но является вопрос, прочно ли место уездного предводителя, не будет ли эта должность выборной в западном крае, совсем не знаю законодательных предположений на этот счет. Далее еще сомнение: будет ли имение давать доходы и представляет ли оно вообще ценность, ввиду возможной продажи его при переходе вашем в другое место, в другой город. Мне представляется очень интересным место в Слуцке, место предводителя, главного лица в уезде, но как досадно, что он не на железной дороге. Конечно, надо взвесить все очень серьезно. Но я никак не могу отнестись к Слуцкому проекту так отрицательно, как ко всем прошлым. Жалко только, что вы как будто закабаляетесь в Минской губернии и отрываетесь совсем от Саратовской.
Мысль об уездном начальнике в Аткарске или другом уезде Саратовской губернии мне больше, гораздо больше улыбается. Напиши еще раз, как спела Оленька. Понравилось ли. Кто аккомпанировал?»
Но уже в следующем письме Леля ссылался на то, что у них была Е. Н. Д.[157], которая начала указывать на всю опасность подобной покупки и предложила по возвращении из Саратова переговорить с ХХ, не может ли Виктор Адамович получит повышение и движение по службе. Я советовал бы тебе обстоятельно написать по этому поводу Е. Н. Но, конечно, я Е. Н., моей большой приятельнице, не написала, повышения мы не ожидали, а лишь жизнь более по душе, связанную с жизнью в деревне, и место предводителя в этом случае являлось самым подходящим. Единственным повышением могло быть еще место вице-губернатора, но последнее нас не манило, это та же бюрократическая жизнь, те же столкновения с администрацией и нестерпимыми светскими обязательствами, визитами, которые извели нас за три года в Минске. «Подумайте очень, прежде чем покупать имение. Я не совсем понял: неужели Эрдели намекнул, что настоящее свое место Виктор Адамович может потерять?» – заканчивал Леля письмо. Нет, об этом и речи не было.
Всегда корректный и вежливый, Эрдели вовсе не поддавался «осиному гнезду» и всегда был к Вите справедлив. Предложение перехода в Слуцк было с его стороны только внимание, вызванное нашими попытками иметь земельную собственность, что являлось, как оказывалось, «желательным явлением», о чем мы менее всего думали, а может быть потому, что он не мог не предполагать известную трудность нашего положения в минском обществе. Теперь Эрдели с Шидловским окончательно рассорились. Положение последнего становилось даже критическим. Ему предстояло серьезно хлопотать о переходе в другую губернию. Сам по себе добрый и обходительный, Шидловский, как всякий человек, имел свои недостатки, а обычная вражда губернатора с вице-губернатором в Минске раздувалась усиленно «осиным гнездом». Мы были не в фаворе «осиного гнезда» и тем самым уже сторонниками Шидловского. К сожалению, Шидловский ухитрился рассориться и с прочими видными чинами администрации, что, конечно, ставилось им в большой плюс.
Витя при всей своей сдержанности не мог оставаться молчаливым зрителем и не раз вступался за гонимого Шидловского. Так помнится, он буквально спас его от разъярившегося Щепотьева. Но Шидловский, чем-то опять раздраженный, вновь сцепился с Радзевичем, и по его настоянию была назначена внезапная ревизия продовольственного отдела губернской управы. Предстояло целых две недели ревизовать этот отдел, а ревизуемые, как известно, принимают такую ревизию за личное оскорбление и обыкновенно грозят сломать шею ревизорам, особенно если они из местных же сослуживцев, а не присланы из Петербурга. Шипение в Минске еще усилилось и осложнилось этой ревизией, которая хотя, кажется, кончилась ничем, но тем ненавистнее был вызвавший ее Шидловский и не менее его, конечно, Татá, со своими приютами и благотворительными обществами! И Сорнева не могла простить ей прошлогодние столкновения, и Долгово-Сабуров[158], словом, весь город ополчился против них, и мы одни, в такое время, в особенности не хотели им изменять, хотя вполне сознавали недостатки немного легкомысленного забияки, но добродушного Константина Михайловича, терявшего душевное равновесие от общего шипения. Вот почему более чем когда-либо хотелось уйти в уезд подальше от «губернии».
Но вакансии предводителя в Минской губернии не предвиделось, кроме Слуцкой, да и то по окончании дела Лопухина, т. е. через год, и мы решили отложить наши поиски до лета. Но случайно Витя разговорился с инспектором Боклевским, красивым стариком, которого мы не раз встречали в обществе. Витя сообщил ему о неудаче со Слуцкими имениями. Боклевский стал уговаривать бросить эту затею: «К чему забираться в глушь. Боже избави. Еще вопрос – уйдет ли Лопухин, как кончится его дело, вы будете его караулить в имении за 70 верст от железной дороги. Подыщите имение поближе к Минску. Минск – отличный город, и мы Вас ни за что из Минска не выпустим!» Затем Боклевский посоветовал Вите обратиться к Ивану Фомичу Гринкевичу. Это лесничий из Пермской губернии в отставке, человек опытный и осторожный, который сможет не торопясь разыскать нам имение. Человек свободный, на пенсии, обеспеченный в Минске домами и небольшим капиталом, педантически честный, который с удовольствием поможет нам, так как он еще вполне бодрый старик и очень будет рад такому делу.
Действительно, Гринкевич, толстый старик с длинной седой бородой, очень охотно отозвался на наше предложение при условии три рубля суточных, все дорожные расходы да плюс надежда получить у нас же место управляющего, если найдется имение. При этом Боклевский очень настаивал на том, чтобы поискать имение поближе к Минску, так как из Минска нас не выпустят, и не к чему рваться из города, где все нас так любят. Увы, только не высший круг.
Как только комиссионеры снабдили нас партией описей наиболее близких имений к Минску, Гринкевич выехал на их осмотр. Сначала он выехал в Ванцерово, имение Валицкого с мельницей и круподеркой, в двенадцати верстах от Минска. Осмотрев его, забраковал; потом поехал подальше в Трокиники, имение Шишко близ станции Чудогай, по дороге в Вильну, с винным заводом – забраковал. Осмотрел наяву или, познакомившись с комиссионерами, их описями имения, еще с два десятка имений, и все ему было не по душе, все он браковал. Наконец, нам предложили Уречье у станции Жодино, всего час езды от Московско-Брестской железной дороги. Такое расположение имения было особенно удобно, да и все хвалили это имение с винокуренным заводом, молочным хозяйством и пр. Владелец Славинский, поляк, еще очень молодой человек, круглый, розовый, кудрявый, сам вел очень успешно свое хозяйство. Но вдруг споткнулся, стал играть в карты и попал в кружок шулеров, которые обобрали его. Тогда он бросил хозяйство и продавал свое имение дешево и спешно. Витя, опасаясь, что Гринкевич слишком мнителен и вновь забракует имение, поехал с ним сам и вынес впечатление благоприятное.
После того Славинский приехал сам для переговоров с нами, но, увидя у нас рояль, сел играть, а увидя ноты сестры, принялся ей аккомпанировать, упросив петь. Он аккомпанировал прекрасно и воодушевил сестру; мы все были очарованы его манерой играть, в нем чувствовался талант, увлечение. И вечер пролетел для нас так приятно, что право было не до сухих расчетов, а так как Славинский очень просил нас к нему приехать обоих лично в Уречье, то мы и расстались с намерением к нему приехать через день. Он обещал даже подарить нам ту пару серых лошадей, которую он вышлет нас встречать.
Но какая-то служебная помеха не дала нам возможности съездить в Уречье, и мы вторично послали туда Гринкевича. Я уверена, что если бы мы сами поехали, Уречье было бы куплено. Уж очень положение его у самой станции в часе езды от Минска было соблазнительным. Но Иван Фомич, по обыкновению, с мелочною подозрительностью стал до всего докапываться. Он выяснил, что обещанная нам в подарок пара серых лошадей уже была запродана зараз троим покупателям, поднявших по этому случаю драку при Фомиче же. Он убедился, что лес большею частью вырублен и не хватит на топливо завода, да арендатор имения что-то замышляет и пр., словом, забраковал и Уречье. Это не помешало дяде этого самого Славинского помещику Свидо вскоре купить Уречье и заплатить ему на 40 тысяч дороже.
Все затем следовавшие предложения комиссионеров им так же были забракованы. Это становилось даже скучным. «Ну, уж Лауданишки не забракует ваш сварливый старик», – сказали они нам, когда узнали, что он поехал смотреть это имение в Витебской губернии, в восьми верстах от станции Рушаны по Варшавской железной дороге. Предложил Лауданишки сам владелец Соммерсет-Россетер, приехав к нам вместе с присяжным поверенным Володкевичем, у которого была тридцатитысячная закладная на это имение. Все было ясно в этом деле: ни куртажей, ни посредников, ни комбинаций, две тысячи десятин земли, много угодий, несколько фольварков в аренде и две красивые усадьбы над озером. Иван Фомич пробыл в Лауданишках четыре дня, нашел имение прекрасным во всех отношениях, но все же выставил столько опасений и подозрений, что мы опять не решились. Нас остановила цена – сто двадцать пять тысяч без комбинаций. Как с этим справиться? И почему Соммерсет, не нам чета как хозяин, не может справиться с имением? Вот этот вопрос особенно пугал Гринкевича.
Прошло несколько дней, и опять приехал к нам Володкевич, теперь с мольбой стать на торги Виленского банка. В конце апреля Лауданишки будут выставлены на торги, и его закладная пропадает! Он разорен! Он умоляет! Если бы мы приобрели Лауданишки с торгов, т. е. за долг банка, он надеется на нас, мы выплатим ему его тридцать тысяч, да и Россетеру заплатили бы по уговору что-либо, т. к. он останется буквально нищим.
И вдруг мы опять решились: надо же было когда-нибудь решиться! Чтобы стать на торги, надо было иметь не менее тридцати тысяч, но ссуда Крестьянского банка была уже готова к выдаче 15 апреля. Тетя вздыхала: только этого не доставало: покупать имение с торгов! Но мы ее успокаивали, это же было с согласия и Россетера, и Володкевича, которые иначе рисковали оба все потерять. Так как слово наше было им дано, мы прекратили наши уроки географии, тем более что наступали праздники Пасхи, ранней в том году. Перед праздниками было много дел. Татá устроила вербный базар в пользу приюта, и мы все, даже Оленька, приняли в нем живейшее участие. Беспрерывно два дня мы все торговали в театре. Публики была масса. Одна лотерея дала пять тысяч. Надо сказать, Наталья Петровна умела воодушевлять самые сухие сердца и, несмотря на свои распри, все общество откликнулось на этот базар. Дамы к концу второго вечера попадали в обморок от усталости. Судьба приюта на этот год была обеспечена. Постройка его тоже была доведена до конца, и шестого мая предполагалось уже его освящение: Оленька рисовала к этому дню образ святой Ирины, княгини Анны Новгородской, во весь рост, а Снитко составлял очерк о значении святой Ирины, именем который был назван приют Натальи Петровны.
Пасху мы провели спокойно и приятно. Тетя уже рвалась в Губаревку, к весенним экзаменам в школах, но нам удалось ее убедить, что к экзаменам она поспеет, а весна холодная, и в Губаревке еще очень неуютно, и уезжать от нас на Пасху совсем не следует. Тетушка сама это чувствовала и понимала, но то были все еще ее порывы, так мало ценимые Оленькой. Тетушка была вообще очень довольна Минском. Ее трогало общее внимание, которое ей оказывали все наши друзья, уже не говоря об Урванцевой, которая если изводила «капризника», как неизменно в обществе и громко на улице она называла Витю, то Тетушку она чтила, как родную мать. Очень полюбилась тете и Мария Дмитриевна Кологривова, мать Юрия Александровича. «По мыслям и действиям мой двойник, – писала она Леле, – она пишет статьи и помещает в Санкт-Петербургских Ведомостях». (Двоюродная сестра князя Ухтомского [Экаер] и сама Ухтомская). Эти статьи касались проекта школы для образования домашней прислуги, и понятно, какую союзницу нашла почтенная Мария Дмитриевна в Тетушке. Но, конечно, всего приятнее Тете было то, что брошюрка была, наконец, напечатана, и она могла ее разослать своим друзьям и единомышленникам.
15 апреля мы с Витей вновь поехали в Петербург. В это второе свидание с Лелей мы нашли, что он выглядит лучше и веселее, нежели в феврале. Между прочим, его развлекла поездка в Царское село, на представление Мессинской невесты. «Играл великий князь Константин Константинович[159], – писал он, – был государь и еще кое-кто из царской фамилии. Великий князь играл хорошо, но трагические роли не по его натуре, как мне кажется, отлично играли и остальные артисты и любители. Вернулись в половине второго ночи. Воображаю, сколько стоил этот день великому князю с каретами для гостей, экстренным поездом и пр.».[160] Шунечка уже начала свои сборы в деревню, так как предполагалось переехать в Губаревку в начале мая. Леля собирался с Сашенькой и Ольгой Владимировной[161] выехать в половине мая, а перспектива лета и отдыха всегда радовала его. Я не помню, чтобы мы в этот приезд волновали его нашими планами, и если говорили о торгах Лауданишек, то, во всяком случае, вскользь, но, конечно, не умолчали, что ссуду Крестьянского банка за Липяги сорок тысяч получили себе и Оленьке, но от шести процентов именного обязательства отказались и при размене потеряли тысячу рублей[162] и перевели в Вильну не сорок, а тридцать девять тысяч. Если бы нам пришлось менять их позже, как оформленное именное обязательство, мы бы потеряли не одну тысячу, а восемь тысяч, а решительно отказаться от «земли» мы не решались. Будь что будет.
Мы прибыли к торгам в Виленском банке аккуратно к двенадцати часам и ожидали начала в небольшой боковой зале. Неприятное ощущение, точно чего-то совестно, но Россетер и Володкевич радостно встретили нас, и мы разговорились, как все устроим для общего благополучия: Володкевичу выплатим его закладную, Россетеру уступим любую из двух усадеб на озере и часть капитала, по справедливому расчету. Только мы не знали, как приступить к делу, но они обещали быть нашими суфлерами.
Россетер казался очень доволен и уверял, что вполне мирится с продажей имения, но только если мы купим имение, но его пугает, что на торги приехал его сосед и враг (называл какую-то немецкую фамилию). После этих разговоров Россетер, как бы невзначай, стал внимательно читать вывешенные объявления о продаже назначенных к торгам имений и вдруг заметил опечатку в количестве указанных в Лауданишках десятин. В объявлении было указано количество десятин на один ноль более: двадцать тысяч десятин! Очень удивленный, он бросился за разъяснением в правление. Произошел переполох, был запрошен управляющий, члены, а затем объявлено, что торги на Лауданишки отменены из-за этой якобы ошибки Виленского банка. Мы вернулись в Минск, в душе очень довольные, что не купили Лауданишки таким несимпатичным способом, хотя ясно было, что все равно Лауданишкам не миновать продажи с торгов, а тогда дадут ли Россетеру отступные за усадьбу или денег – большой вопрос.
Володкевич негодовал. Оказалось, не первый раз выезжал он на торги, и каждый раз все кончалось для Россетера вполне благополучно.
Чтобы уже покончить с Лауданишками, скажу, что, кажется, через месяц Лауданишки вновь продавались с торгов и не банком, а в Витебске по судебному взысканию Володкевича. Опять Володкевич умолял нас принять участие в торгах. Теперь Витя поехал с Гринкевичем в Витебск, и еще раз Россетер сумел сорвать торги. Причиной тому явилось еще более непредвиденное обстоятельство. Трагизм положения Володкевича заключался в том, что он как католик-поляк мог быть держателем закладной только у владельца польского же происхождения. В западном крае поляки-католики не имеют права покупать землю у русских владельцев, а потому так же и держать русские имения под закладной. Володкевич мог иметь эту закладную на Лауданишки только потому, что Соммерсет-Россетер, судя по документам, засвидетельствованным Витебским губернатором Фон-Дер-Флитом, года четыре тому назад был католик, но вдруг теперь Россетер, так же невзначай, как тогда в банке, пристальнее рассмотрев свои документы, заявил, что он вовсе не католик, а происходит от английских лордов Соммерсет-Россетеров, поэтому он не поляк и не католик, а англичанин, а англичане, как и немцы, в этом вопросе пользуются теми же правами, что и русские. В доказательство своего происхождения теперь им были представлены документы, заверенные тем же губернатором Фон-Дер-Флитом. А раз Россетер оказался англичанином, а не поляком-католиком, закладная поляка теряла свое право закладной. Следовательно, иск Володкевича становился незаконным, а потому в иске ему было отказано, и Лауданишки вновь были сняты с торгов. Володкевич просто из себя выходил, и тотчас предъявил иск к самому Фон-Дер-Флиту, подписавшему два таких противоречивых документа о происхождении Россетера. Признаюсь, как ни тягостны были эти две напрасные поездки и расходы по ним, но симпатии наши все же были на стороне бедного Россетера, так упорно старавшегося сохранить свое гнездышко. Володкевич же, правый в своих домогательствах, все же казался нам беспощадным и даже жестоким. Он насчитывал проценты на проценты, взыскивал двенадцать процентов, и как-то становилось жутко от его упорного преследования.
Чтобы так же покончить с Лауданишками, которые мы так и не купили, скажу, что Володкевич, хотя и значительно позже, выиграл процесс против губернатора, ему были присуждены взыскиваемые им все убытки. Но бедный Россетер боролся до конца и так и не отдал свои Лауданишки, хотя они постоянно были на торгах Виленского банка. Года два спустя он внезапно умер. Осталась жена и дети. Жена сумела продать часть имения и выплатить все долги мужа в том числе и Володкевичу, а оставшаяся часть ее имения была приведена в такой порядок, что стало ей давать четыре тысячи годового дохода.
153
Оленька пела его в 1903 году в благотворительном концерте в Петербурге, в зале Павлова.
154
В женском благотворительном обществе у барона Буксревдена, Корсаковой и пр.
155
Родоначальник Слуцких Олельковичей, князь Александр Владимирович был внуком Ольгерда в княжестве Литовском.
156
Последняя Слуцкая княжна София Олелькович вышла замуж за Яна Радзивилла.
157
Елизавета Николаевна Деконская, сестра Лихачева.
158
Губернский предводитель.
159
Константин Константинович (1858 – 1915), великий князь, внук Николая I, генерал от инфантерии, президент Императорской Академии наук, поэт, переводчик и драматург, творческий псевдоним К. Р.
160
Письмо А. А. от 9.4.1909.
161
Ольга Владимировна Градовская, рожденная Шидловская, мать Наташи. Сашенька – сын Лели, больной после менингита, без речи и движения.
162
По курсу 97½ рублей за 100.