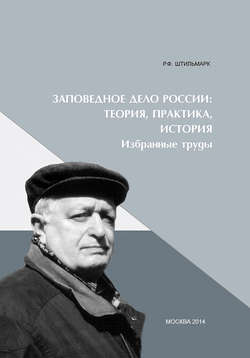Читать книгу Заповедное дело Россиию Теория, практика, история - Феликс Штильмарк - Страница 12
1. Теория заповедного дела
1.10. Сочетание научных и морально-этических аспектов в заповедном деле[22]
ОглавлениеНаше заповедное «древо» выросло из трех основных корней: материального, научного и этического. Об этике и эстетике охраняемых территорий неоднократно писали и говорили Г.А. Кожевников, Андрей и Вениамин Семеновы-Тян-Шанские и другие основоположники отечественного заповедного дела. Но в советский период основное внимание уделялось материальным и научным аспектам, тогда как этические почти не затрагивались. Только в самое последнее время, на фоне общеизвестных общественных перемен, в частности, в условиях гласности и при заметном возрастании роли церкви, морально-этической стороне заповедного дела стали уделять серьезное внимание. Приведем несколько цитат в подтверждение этого.
«Наша отечественная защита природы становится все менее духовной, чистой и все более прагматичной… Над нашей природоохраной довлеет меркантилизм, марксизм, антропоцентризм и комплекс двойных стандартов. Отечественная идеология охраны природы заблудилась и никак не может выбраться из чащи сомнительных лозунгов и мифов эпохи развитого социализма типа «рационального использования природных ресурсов на благо народа… Как попугаи мы заученно повторяем байку, что заповедники создаются для науки, а чтобы полюбить природу – ее нужно изучить (во что давно уже никто не верит), и одновременно стесняемся или боимся признаться в своих ощущениях дикой природы как священного пространства. Мы по-прежнему слепо верим в полицейские и экономические меры защиты природы и не задумываемся о ее нематериальных духовных ценностях» (Борейко, Поминова, 2000, с. 5).
Наука и экологическая этика, повторимся, должны не противостоять, а естественным образом дополнять друг друга. Изучение природы есть своего рода как бы оправдание мнимого «изъятия» заповеданных земель из хозяйственного оборота (на самом деле, как показал Н.Ф. Реймерс, это только иная, совершенно особая форма природопользования «от людей – для людей»). В идеале же в заповеднике может не быть ни охранников, ни наблюдателей, конечно, при условии, что туда не проникнут нарушители – картина пока что явно утопическая, но надо помнить, что идеалы создаются не для немедленного воплощения в жизнь, а лишь для обозначения избранного пути (в данном случае идеал абсолютного заповедника).
Здесь уместно коснуться темы о религии, самым теснейшим образом связанной с этикой. Вот что писал православный священник А. Мень: «Гэсподъ привлекает наше внимание к окружающей нас природе, в которой так много есть уроков, в которой заключена Божественная мудрость и Божественная красота… Господь говорит нам: «присмотритесь, оглядитесь вокруг себя – многому природа может научить человека!» Прежде всего она наша мать и сестра, она тоже вышла из рук Творца, и мы, глядя на прекрасные творения, прославляем Того, кто их создал… И когда человек научается так смотреть на это, его сердце как бы постоянно находится перед великой иконой природы». Эта глава из проповеди евангельских истин так и называется «Природа-икона». В ней утверждается, что красоты природы влекут к себе иных людей гораздо более, чем рукотворные иконы (которые, конечно, следует глубоко чтить). Среди всех творений нет более прекрасного произведения, чем сама природа. Кто мог создать что-либо более прекрасное, чем восход солнца?.. В часы усталости, душевного угнетения, мрачности, когда бури повседневности душу нашу гнетут, – воспользуйтесь моментом, пройдитесь, вот рядом, за кладбищем – лес, и сразу с души, как будто живительной влагой, смывается пыльная накипь дня» (А. Мень, 1991, с. 152).
Разве не звучит здесь голос верующего эколога (напомним, что А. Мень, будучи студентом, обучался биологии в Балашихе и Иркутске), разве невозможно включить эти слова страдальца-священника в сугубо научный «Экологический манифест» Н.Ф. Реймерса, который был по натуре своей атеистом (хотя к религии относился уважительно), но искренне веровал в торжество человеческого разума, в «экологический императив», в конечную победу добра над злом. Каждый человек «во что-то» верует, и это уже само по себе есть свидетельство единства науки и биоэтики.
Одной из ярких разновидностей человеческой веры является чувство благоговения перед дикой (первозданной) природой[23].
Это может быть и наивное удивление перед творческой силой Всевышнего, и более материализованное ощущение величия окружающего нас мира, о чем так ярко писал в начале века В.И. Талиев, говоря о природе как «источнике сознательных и бессознательных переживаний высшего порядка». Красота природы имеет собственную высокую ценность, является особым «духовным» богатством. Заповедание с давних времен означает именно такую высшую, то есть духовную, форму сохранения особо ценных природных объектов, и это очень наглядно выражено в широко известных выражениях из словаря В. И. Даля (заповедный лес, в котором настрого запрещена рубка, назывался «божелесьем» или «моленым лесом»). Впрочем, определения заповедности давались на Руси и задолго до Даля, о чем наглядно свидетельствует «Лесной журнал» № 9 от 1837 г.: «Из лесов казенных выделяются заказные рощи в неприкосновенный запас… и тогда рощи сии получают от поселян название заповедных. В сем названии заключается для жителей селений нечто священное, ибо рощи, получившие такое название, согласно предначертанию своему, становятся неприкосновенными… Автор проверял районы Тверской губернии и ни в одной заповедной роще не нашел ни одного срубленного дерева со времени заказа. Крестьяне до них не касаются, название «заповедный» есть для них добрый гений, охраняющий от порубок и иных истреблений» (статья Г. Вильдермета «О пользе выдела заказных рощ»)… Очень близкие этические основы заповедного дела позднее отстаивал А.П. Семенов-Тян-Шанский («Свободная природа как великий живой музей»).
Многие философы считают, что ответственность за современный экологический кризис, который проявляется все более явственно, несет именно христианская религия, провозгласившая полное господство человека над природой. Этот упрек, увы, относится и к науке.
«Современная наука и техника столь пропитаны ортодоксальным христианским высокомерием в отношении к природе, что не следует ждать разрешения экологического кризиса только от них одних. Корни наших бед столь основательно религиозны, что и средства избавления тоже должны стать религиозными по своей сути» – пишет Л. Уайт-младший (White L. Jr, 1967, цит. по сб. «Глобальные проблемы…», 1990, с. 202), призывая, как и В.Е. Борейко, к своеобразной смене религиозных вех. Этот автор видит главного покровителя для экологов в учении святого Франциска Ассизского (что и было провозглашено Папой Ионанном Павлом Вторым в 1979 г), близки к этому неоязыческие призывы Борейко о «священном пространстве» дикой природы. Не менее радикально высказывался на эту тему и Н.Ф. Реймерс: «Совершенно очевидно, что на очереди создание «общечеловеческой» синтетической религии, вернее надрелигиозной идеологии, объединяющей все религии мира… Нужна светлая религия добра, без жертв во имя Его… Добро для добра, добро всем! Хватит истязаний!»
На всем этом фоне деятельность Киевского эколого-культурного центра во главе с В.Е. Борейко в области экоэтики и «природоцентризма» видится нам с позиций экологии и заповедного дела более прогрессивной и правильной по сравнению с доводами его критиков, несмотря на всю их внешнюю рациональную убедительность. Над нами действительно, доминирует примитивный материализм – весьма тяжкое наследие советского времени, когда все, что выходило за рамки «передового учения», категорически отвергалось. Уже сам факт «крамольной» экологической пропаганды школы В.Е. Борейко безусловно весьма значителен и отраден.
Однако подобно тому, как человек при бессмертной своей душе имеет грешное живое тело, нуждающееся в известных потребностях, так и материалистическая сторона нашей жизни не может быть отвергаема. Наука в заповедниках очень долгое время была главным доводом и основным оправданием их организации и деятельности. Нынешние тенденции преобладания экопросвещения, экопропаганды и экотуризма ведут лишь к весьма опасной конвергенции и подмене заповедников национальными парками. Последние сегодня в общественном плане более значительная форма ООПТ, чем заповедники, но подменять одно другим совершенно недопустимо (это тема другая, хотя и очень серьезная).
У каждой палки два конца, но истина обычно располагается посередине. Нельзя переходить определенные грани в полемике, надо уважать оппонентов, выслушивать их, стремясь найти пользу в неком промежуточном равнодействии. Научные и этические аспекты в заповедном деле должны быть уравновешены в интересах нашего единого дела и общего дома-экоса.
23
Провести строгую грань между дикой и «недикой» природой в наше время очень трудно или даже невозможно. Определение «дикости» как полной безлюдности зачастую условно, такие места все труднее найти, в «глуши» подчас могут жить люди, а цветок одуванчика у обочины дороги человек с чистой душой рассматривает как «первозданный», как «Божье творение».