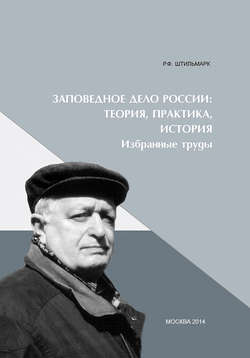Читать книгу Заповедное дело Россиию Теория, практика, история - Феликс Штильмарк - Страница 8
1. Теория заповедного дела
1.6. Заповедники, экологическое просвещение и экотуризм (Размышления по поводу нескольких газетных публикаций)[18]
ОглавлениеЕдва ли не главной особенностью в реальной жизни российских заповедников за последние пять-десять лет было смещение приоритетов в их деятельности от научных к эколого-просветительским. Для этого перестраивались структуры, возникали новые отделы и должности, изменялись формы отчетности.
Можно составить целую библиотеку из всевозможных публикаций – от книг и брошюр, руководств и буклетов до бесчисленных статей и заметок на темы о том, как должны нести заповедники экологические знания в массы, как организовывать «марши парков», пробуждать к себе всенародное внимание и вечную любовь.
В этом новейшем движении особенно велики заслуги Центра «Заповедники» в Москве, возглавляемого Н.Р. Данилиной, и Киевского эколого-культурного центра СоЭС во главе с В.Е. Борейко. Эти центры регулярно проводят конференции и семинары по экологическому образованию на базе охраняемых природных территорий, издают серию специальной литературы на сей счет. Газета «Заповедные острова» едва ли не в каждом номере публикует либо восторженные впечатления наших деловых «экотуристов» от поездок в дальние страны, либо рекламирует достоинства российских заповедников именно с «туристических» позиций.
Уже сам тот факт, что стало традицией говорить и писать о заповедниках и национальных парках как о самых близких родственниках, говорит сам за себя. Курс на «конвергенцию» этих принципиально различных форм ООПТ, по сути, положен в основу официальной природоохранной политики, и нельзя отрицать большого личного вклада в эту «смену вех» Н. Данилиной и В. Борейко персонально.
Но что мы вдруг видим? В центральной экологической газете «Зеленый мир» (2000. № 21–22) читаем объемистую статью В.Е. Борейко «Опасные тенденции и ошибки в экопросветительской деятельности заповедников». Одновременно в «Заповедных островах» (2000. № 10 (35) появляется передовица от Н.Р. Данилиной под заголовком «Заповедники на рубеже веков», в которой ставится вопрос о совместимости заповедной идеологии с туристической деятельностью. Символично, что примерно в то же самое время появляется еще одна газетная статья на близкие темы, написанная Б. Пестряковым, «директором Центра по проблемам России, Арктики и Антарктики, почетным доктором Международной академии туризма» (поистине, чего у нас только нет…). Опубликована она в «Природно-ресурсных ведомостях» (№ 27/44) – рупоре Министерства природных ресурсов (МПР РФ), недавно принявшего на себя функции упраздненных Госкомэкологии и Рослесхоза. Заглавие этой статьи – «Свободу туристским территориям».
Да, проблема «заповедники и туризм» отнюдь не нова, она возникла едва ли не с появлением самых первых заповедников и национальных парков. В начале нашего уходящего века было недолгое время, когда эти понятия в самом деле признавались синонимами. Однако заповедное дело в России и в СССР пошло по иному пути. Государственные заповедники создавались «от людей для людей» как научно-исследовательские учреждения, а национальные парки призваны не только охранять природу, но и содействовать человеческому общению с нею – тут-то и самое место экопросвещению. Поскольку возможности для сближения людей с природой в нашей Отчизне весьма и весьма широки, а способы общений очень различны, насущная потребность в национальных и природных парках стала ощущаться сравнительно недавно: первые такие парки в России возникли лишь в начале 1980-х гг., и число их до сих пор заметно уступает количеству государственных заповедников.
Не только каждый подлинный эколог, но и всякий юрист, знающий наши законы, подтвердит тот непреложный факт, что любые виды туризма (в том числе и «экологический», хотя сам термин «экотуризм» вызывает большие сомнения) представляют собой совершенно определенные формы хозяйственной деятельности. И как ни толкуй, как ни заворачивай эту простую и горькую истину в экологические обёртки и фантики, суть дела от этого не изменится. А ведь «экотуризм», как можно прочитать в тех же «Заповедных островах» (№ 10), «есть часть экологического просвещения», и вывод отсюда напрашивается сам собой. Недаром такой страстный приверженец экопросвещения, как В. Борейко, ПЕРВОЙ ошибкой в этом деле считает «активное использование туризма и школьных лагерей на базе заповедников», а ТРЕТЬЕЙ (из десяти!) – «формальный, неадаптированный перенос экопросветительного опыта американских национальных парков на наши заповедники». Полностью соглашаясь с этим, нужно еще подчеркнуть огромную и принципиальную разницу в отношении к природе со стороны вполне обеспеченных, традиционно законопослушных американцев и населения нашей страны. Слишком уж разные у нас, как принято теперь говорить, «менталитет», обычаи и привычки. Первые привыкли к праздному отдыху на лоне природы, любованию ее красотами (подчас из своих автомобилей), а вторые без ружья, удочки или корзины для сбора лесных «даров» вообще в лес не ступят. Кстати, вполне законна и ограниченно допустима формула «охотничье-рыболовный туризм». Как биолог-охотовед берусь доказать его безусловную экологичность (хотя бы при необходимости регулирования численности животных).
На вопрос уважаемой Н.Р. Данилиной о совместимости «заповедной идеологии» с туризмом ответить очень просто, ибо «спор здесь неуместен». ЛЮБОЙ ТУРИЗМ В ЗАПОВЕДНИКАХ НЕДОПУСТИМ И ПРОТИВОРЕЧИТ НАШИМ ЗАКОНАМ, ибо там должны прекращаться ВСЕ формы хозяйственного пользования – здесь просто нет почвы для обсуждений и дискуссий.
Другое дело, когда проблема ставится так, как на развороте «Заповедных островов» (вынесено в аншлаг): «Экотуризм и ООПТ – совместимость или полярность?» Такая формулировка вопроса просто наивна или, скорее, лицемерна, ибо полностью НЕСОВМЕСТИМ ЛЮБОЙ ТУРИЗМ ТОЛЬКО С ЗАПОВЕДНИКАМИ, тогда как со ВСЕМИ ДРУГИМИ охраняемыми природными территориями, включая национальные и природные парки, безусловно, совместим, хотя и в разной степени. Что касается упоминаемых в газете музеев, то они расположены в населенных пунктах, а не в заповедной природе.
Возможности туризма – в самых разных его проявлениях – для России поистине неограниченные, и это подтверждается несколько оригинальной, но интересной статьей Б. Пестрякова в «Природно-ресурсных ведомостях», где автор предлагает придать статус «свободных туристических территорий» обширным пространствам Сибирского Севера и Дальнего Востока.
В самом деле, настоящий любитель дикой природы стремится вовсе не в строго закрытые научные лаборатории, которыми должны быть «по идее» наши государственные заповедники, ему хочется «на волю, в пампасы!», ему не нужны эконаставники, проводники и надзиратели. Если же турист действительно хочет углубить свои познания в экологии, что ж, прекрасно, милости просим в национальные и природные парки, судьбой и законом предназначенные для общения людей с природой (за исключением заповедных участков или зон, разумеется!). Здесь и экологические тропы, и музеи природы, а кое-где, возможно, и территории ограниченного природопользования – сбора грибов и ягод, купания, даже и рыбной ловли. Правда, на примере столичного нацпарка «Лосиный остров» (живу на его окраине) можно с горечью убедиться в полнейшей беспомощности наших реальных экопросветителей – столь убоги выставленные в людных местах аншлаги, призывы и вывески, хотя уж здесь-то имеются все возможности для подлинной и убедительной экологической пропаганды.
Не стоит скрывать того, что так называемый «научный» или «экотуризм» в наших заповедниках есть следствие великой нужды, невнимания государства к передовому краю охраны природы. Но нельзя же кривить душой, выдавая черное за белое, нельзя хитрить и лицемерить, получая иностранные гранты за пользование заповедной природой. Жизнь есть жизнь, и всякое в ней бывает.
Был период, когда посещение знаменитой Долины гейзеров в Кроноцком заповеднике решили строжайше запретить. Однако люди все равно стремились туда сквозь все природные препоны, вопреки любым запретам (избранных же возил вертолетами сам заповедник). Долго так продолжаться, конечно, не могло. Есть простое правило: нельзя заповедовать, полностью закрывать от населения такие достопримечательные места, которые как бы предназначены для любования ими. Заповедники есть ЭТАЛОНЫ ЛАНДШАФТОВ, А НЕ МУЗЕИ В ПРИРОДЕ, для последних существуют иные формы ООПТ. Это не значит, что нужно немедленно изъять Долину гейзеров на Камчатке или красоты Карадага на юге Крыма из границ соответствующих заповедников (теория не всегда согласуется с практикой), но СТАТУС этих уникумов природы должен отличаться от строго заповедного.
То же самое со знаменитыми красноярскими «Столбами», которые НИКОГДА не были и не будут заповедными, они существуют на режиме природного парка. Если же когда-нибудь – а ведь давно пора! – будет создан Красноярский национальный парк, он протянется вдоль правого берега Енисея от ближних «Столбов» до Дивногорска или далее вдоль водохранилища, и тогда заповедник может уступить свой туристско-экскурсионный район нацпарку, сам же должен быть расширен за Ману (это, кстати, давно уже предлагалось).
Таких примеров «оптимизации» ООПТ немало. Более того, существуют биосферные заповедники, располагающие, помимо «заповедного ядра» (то есть государственного заповедника), еще и особыми полигонами, на которых допускается ограниченная традиционная деятельность, в том числе возможен и туризм, даже рыболовно-охотничий.
Довелось недавно слушать в Московском доме ученых Российской академии наук отчет туристской группы, совершившей поход от западного берега Байкала к верховьям Лены и далее сплавлявшейся по реке на байдарках. Весь этот маршрут проходил по территории Байкало-Ленского заповедника (в буклете, изданном Экоцентром «Заповедники» в 1998 г., говорится о ТРЕХ туристских маршрутах в заповедных пределах). Это были вполне культурные «экотуристы», но даже они чувствовали себя неловко, рассказывая о своем путешествии сквозь заповедник. Такая же картина во многих наших горно-таежных заповедниках, а в иных странах СНГ (в частности, в Украине) заповедники НИКОГДА НЕ БЫЛИ ТАКОВЫМИ, работая либо как нацпарки, либо как спецхозяйства. Таково уж там толкование «заповедности», и на это не стоит закрывать глаза. Впрочем, помнится, в буклете еще одного из сибирских заповедников туристов заманивали даже возможностью ловли тайменя – одного из очередных кандидатов в Красную книгу…
Было лестно прочитать в подборке В. Красильникова о «зеленых юбилеях» (Зеленый мир, 2000. № 23–24) весьма высокую оценку серии «Заповедники СССР» (по мнению автора подборки, это «один из шедевров нашего научно-популярного и справочного книгоиздания»). К сожалению, ему неизвестно, что в прошлом году вышел в свет девятый том этой серии – первая из двух книг «Заповедники Сибири». Подготавливая сейчас в качестве ответственного редактора десятый том (второй для Сибири и последний для всей серии), мне пришлось дать к тексту о Байкало-Ленском заповеднике такую редакционную сноску:
«Хорошо известно, что туризм в отдаленной горно-таежной местности фактически неконтролируем и причиняет серьезный ущерб природным комплексам. Вполне уместный в национальных парках пешеходный и водный туризм (пусть даже под маркой «экологического») в заповеднике должен быть полностью запрещен. Вынужденное развитие в последние годы туризма – одной из форм хозяйственной деятельности – в наших заповедниках есть прямое нарушение заповедного режима и действующего законодательства. ПРИМЕЧАНИЕ РЕДКОЛЛЕГИИ» (кстати, в нее официально входят и наши руководители заповедного дела).
Истоки великой Лены все-таки не Долина гейзеров; в Сибири предостаточно красивых сплавных рек, да и Лена хороша не только в заповеднике. Пусть же в ее верховьях плавают ленки и таймени (заметим, что не осталось там тайменей сегодня, заповедник хочет их восстанавливать), а не байдарки с так называемыми «экотуристами».