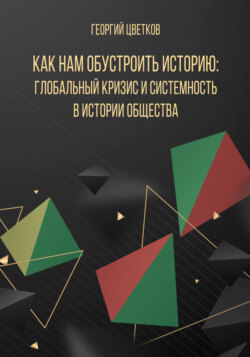Читать книгу Как нам обустроить историю: глобальный кризис и системность в истории общества - Георгий Цветков - Страница 2
1. О СИСТЕМНОСТИ В ИСТОРИИ И НАУКЕ Предисловие «системному» читателю
ОглавлениеМожно счесть уже принятым с Нового времени средневековья, что научное знание всегда «системно», и сегодняшний вопрос заключается не в том, является ли научное знание системным образованием, а в том, как понималась эта системность на разных этапах развития научного знания, «каковы исторически обусловленные формы интерпретации системности знания».
Это, во-1-х, характерная, прежде всего, для античных представлений о системности некоторая модель объекта научного исследования — онтологический аспект системности. Во-2-х, системность научного знания может анализироваться под углом зрения системности самих понятий, развитых в той или иной теории, а это уже — гносеологический аспект. Для представлений античной мысли онтология и гносеология неразрывно связаны между собой, где системность бытия обусловливает «нерасчленённую» системность знания. Для философии Нового времени характерно уже разделение онтологического и гносеологического анализа, где наряду с анализом объектов природы как системного образования — «системной онтологией», философии свойственна «системная гносеология», в которой фиксируется упорядоченность научных понятий («вещи», «свойства», «отношения», «субстанция» и др.). И, в-3-х, системные представления могут получать методологическую форму, где в общем случае речь идёт об определённых нормах построения систем теоретического знания или в специальных случаях о методологии решения проблемных экспериментально — исследовательских или инновационных проектно — конструкторских задач. Такой способ анализа системности знания, при котором упор делается на методы «проектирования и конструирования» систем со сдвигом в представлениях науки к фиксации точности и отношений между предметами возникает с начала ХХ века. Естествоиспытатели начинают различать объект и предмет знания, понимать огромную роль моделей в познании и активный «моделирующий» характер человеческого знания. Такое, скажем, «конструктивное» понимание предмета знания предполагает специфическую концептуальную систему, решающими компонентами которой оказываются категории «символ», «отношение», «элемент» и «др.».
Задача истории, как и любой науки — пишет Лев Гумилёв — состоит в том, чтобы обозреть изучаемый объект или предмет целиком. Следовательно, нужно найти или выбрать удобную позицию или точку отсчёта для обозрения, и тут возникает необходимость концепции, предваряющей научную практику, т. е., по Гумилёву или Тойнби, выбор «аспекта» или «модели». Так, например, Маркс и Энгельс впервые обратили столь серьёзное внимание на аспект и роль экономики в социальной жизни, дав толчок для развития, так называемой, «экономической истории» людей. В свою очередь, в нашем исследовании мы считаем «аспекты» или «модели» системными, концептуально — логически или исторически, связываемые с тем или иным системным представлением объекта или предмета. Самим объектом могут быть существующие в пространстве и времени физические вещи или реальность, объективно реальные ситуации (в т. ч., тело субъекта, состояние его сознания, другие люди и т. д.), а также предметы культуры, включая тексты, и присущие им объективные смыслы.
Аспект изучения или некоторая модель не вытекают из того или иного философски — методологического построения, а диктуются исключительно практическими соображениями решаемой задачи и наличным «техническим инструментарием». A основные сомнения, например, у английского историка Арнольда Тойнби — идеально ли подходит выбранная модель для поставленной задачи исследования истории, и нельзя ли будущему учёному посоветовать лучшую? О прошлом можно судить на основе изучения его «следов» в настоящем, т. е., тех предметов, которые возникли давно, но не исчезли вместе с прошлым, а дошли до нашего времени. Это могут быть разного рода сооружения (египетские пирамиды, Парфенон в Афинах, Кремль в Москве, и многое другое), ископаемые предметы, использовавшиеся в различных видах деятельности (остатки посуды, ножей, наконечники стрел, воинские доспехи и др.), предметы религиозного поклонения и произведения искусства (захоронения, иконы, скульптуры, портреты, украшения и т. д.). Деловые документы (донесения, записи хозяйственной деятельности) и, наконец, специальные описания исторических событий (хроники, летописи, письмена) и воспоминания современников. Историк должен выбирать и описывать исторически значимые факты или всё многообразие примеров, нуждаясь в критериях выбора и языке их описания. Эти критерии в общем случае зависимы от предшествующей концепции, где, например, единицей истории — духовной действительности принимается «общественно-экономическая формация» у Маркса, в одном случае, или так называемая «прогрессивная цивилизация» у Тойнби, в другом. В теории исторической мысли издавна сложились концепции, бытующие и сегодня.
Первая культурно-историческая концепция была впервые декларирована Геродотом, который противопоставил Европу Азии. Здесь под Европой он понимал систему эллинских полисов, а под Азией — персидскую монархию (впоследствии пришлось добавлять и другие культурно-исторические области).
А другая всемирно-историческая концепция или концепция «империй» трактовала историю народов как единый процесс прогрессивного развития, более или менее захвативший все области, населённые людьми. Впервые она была сформулирована в Средние века как концепция «четырёх империй» прошлого: ассирийской, персидской, македонской, римской, и пятой — «Священной Римской империи германской нации», возглавившей вместе с папским престолом католическое единство, возникшее на рубеже VIII–IX веков.
Когда же в XIV–XVI веках Реформация разрушила идеологическое единство Западной Европы и подорвала гегемонию Габсбургской династии (как бы тоже полномочных представителей Бога на Земле), всемирно-историческая концепция устояла и была просто переформулирована как концепция «цивилизаций», под которой понималась культура опять-таки Западной романо-германской Европы, причём православные «схизматики» и бывшие «язычники» были просто переименованы в «дикие» и «отсталые» народы. Эта система «европоцентризма» до Маркса воспринималась как сама собою разумеющаяся и не требующая доказательств[4]. Согласно А. Дж. Тойнби и его концепции возникновения, роста и распада «цивилизаций», единицами всеобщей истории стали считаться «общества», делящиеся на «примитивные» неразвивающиеся и развивающиеся или «цивилизации» (которых им вначале было насчитано 21).
Для лучшего понимания всемирной истории и генезиса мировой цивилизации в литературе были выделены переходные эпохи, выводящие из одной формации и подводящие к другой. Это «древность или эллинизм» как время перехода от Древности к Средневековью (1); «возрождение или ренессанс» — переход от Средневековья к Новому времени (2); и с середины ХIХ века — «переход от Нового времени к Новейшему» (3). Каждая из трёх эпох открывается придающим «зримость» индикатором эпохи — литературным шедевром, возвестившим о её наступлении. О первой эпохе возвестил трактат «О граде Божием» Блаженного Августина, о второй — «Божественная комедия» Данте Агильери, и о третьей эпохе, незаконченной с полётами человека в космос и на Луну, — «Коммунистический манифест» Маркса с «больным» вопросом Гумилёва: а «…не является ли наше время, эра технической цивилизации — особой исторической эпохой, к которой неприложимы закономерности, открытые при изучении истории, а не современности?» (Н. И. Конрад, Л. Н. Гумилёв).
4
Ещё философ истории А. Дж. Тойнби говорил, что «…хоть под святым распятьем, хоть под серпом и молотом, Россия — всё ещё святая Русь, а Москва — всё ещё Третий Рим». Правда, говорил он это с осуждением её особого пути: мол, русские — не Европа, а если и Европа, то другая.