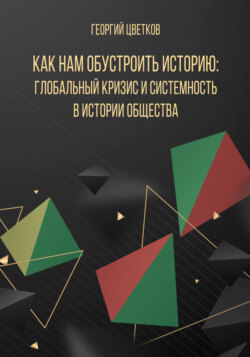Читать книгу Как нам обустроить историю: глобальный кризис и системность в истории общества - Георгий Цветков - Страница 4
1. О СИСТЕМНОСТИ В ИСТОРИИ И НАУКЕ 1.2. «Самоликвидация Германии» в книге Тило Саррацина и эхо Нюрнберга
ОглавлениеКак писала «Литературная газета» России в 2014-м году — «наш самозабвенный рывок в рыночную экономику вдруг обернулся набирающей ход азиатчиной» [22]. Она проникает в наш быт, систему политических и общественных институтов, влияет на нравственный климат. Миграционное наступление на российские регионы выходцев из ближней и дальней Азии не слабеет. Напряжение между приезжими и коренными жителями всё острее. И ещё. Миграция и её тенденции определяются не только принимающими дешёвую рабочую силу странами Западной Европы и России. В силу демографического взрыва, который произошёл в мире, над всеми развитыми странами ширится растущий «навес» миграционного давления из стран, условно говоря, юга планеты. Миграционное давление мы испытываем всё в более нарастающем темпе. Не получается ли, что нравы и обычаи восточных диаспор, скорее, сами превратятся в норму жизни, чем приспособятся к нашим традициям, к русской или европейской культуре? Не сталкивает ли армия неквалифицированных «гастарбайтеров» нашу экономику на обочину технического прогресса, тормозя модернизацию и приводя к потере конкурентоспособности? [22].
Мультикультурность, по сути, изначально означала сплавление всех культур в единое целое («плавильный котёл»), что не предусматривало единого языка при абсолютной общности моделей поведения и примерно одинаковых общерыночных элитарных ценностях. За основу брались «гуманистические» либеральные ценности, ценности мнимой свободы и мнимой конкуренции. Позже из этого «котла» еврочиновники создали новый квазиинтернационализм («мультинационализм») как некую «салатницу», в которой нации не сплавлялись, а выражали свой подчёркнуто национальный колорит. Никакой новой идеологии это нам не предложило. Взаимопомощь, свойственная интернационалистам разных стран, перешла в стадию вражды и междоусобицы, а общность являет себя только в объединении «нацистов» разных стран по принципу «похожести мысли». Мультикультурализм пришел к своему логическому концу.
В таких условиях разница в экономическом развитии, разность языка и территории уже не являются залогом отсутствия клановых, более низких по сравнению даже с национальными, интересов. С другой стороны, навязанное дробление на мелкие государства в постсоветском пространстве вынуждает, следуя основному принципу капитализма, «развиваться», чтобы получать больше прибыли. Трагично, когда местное «чинушество», развращённое отсутствием ответственности, непомерно поднимает цены на услуги населению, народ же не имеет возможности получить «на местах» ни образование, ни пропитание, ни обеспечить себя кровом и постоянной работой. В азиатских странах такое бесправие проявило себя в наибольшей красе, поэтому приток трудовой миграции низкой квалификации — проблема системная.
Другая проблема проявляет себя по приезду новых иммигрантов в крупные города. Среда воспринимает их как конкурентов, как чужеродное образование, «нацизм» и междоусобицы опять-таки подталкивают их, чтобы сплачиваться в национальные кланы. И это как раз очень выгодно капиталисту, уже местечковому, клановому. Они-то как раз и собирают «барыши», обещая охрану и поддержку, а на самом деле пользуются бесправием людей, оставляя им роль собирать «шишки» от нацистов, что пример Черкизовского рынка в Москве это наглядно показал.
При отсутствии миграционной политики и особых мер, стимулирующих приток квалифицированных кадров, среди иммигрантов доминируют те, кто способен только на неквалифицированный труд, тем не менее, востребованный в ЖКХ, сфере услуг, строительстве, аграрном секторе. «Русские», например, просто не нужны для этих сфер современному капитализму. «Верхи» русского народа образованны, европеизированы и либеральны, «низы» — «социалистичны». Русский народ чересчур европеец для буржуазного авторитаризма, русским свобод и демократии подавай, а выходцам, например, из Средней Азии всё это не столь важно [22].
В свою очередь, Тило Саррацин, политик и бывший сенатор Берлина, основываясь на обширной статистике и собственных расчетах и прогнозах, пытается доказать, что иммиграционное мусульманское сообщество в Германии и не стремится к интеграции в немецкую жизнь («плавильный котёл» не работает). Уровень образования и участие в трудовой деятельности иммигрантов остаются гораздо ниже уровня коренного населения, что при традиционно высокой рождаемости у мусульман представляет реальную угрозу для национальной идентичности страны. Слишком долго оставалось незамеченным, что старение и сокращение немецкого (и не только немецкого), населения происходят с качественными изменениями в его составе, что проблематика притока и интеграции мигрантов, которая не улаживается со временем сама собой, существует сегодня в Германии и в других странах, преимущественно с мигрантами из стран, которые более, чем на 95 % исповедуют ислам [21].
Социальное бремя неуправляемой миграции всегда было табуировано, и запрещалось говорить о том, что есть люди более и менее способные, более ленивые и более трудолюбивые, морально более или менее устойчивые, — и что этого не изменишь ни равенством образования, ни равенством шансов. Потенциал, заложенный в генах, и влияние окружающей среды сложно взаимодействуют между собой. Мы не можем изменить гены, но, пожалуй, присоединяюсь к Тило Саррацину, и в рамках буржуазного общества «общественную среду мы обязаны сформировать политически как можно лучше». Автор книги высказывается за более жёсткую миграционную политику и показывает, конечно, не социалистические пути выхода из кризиса. Тем не менее, книга Саррацина, по сути, является первым «восстанием» известного европейского интеллектуала и политика против политкорректности и мультикультурализма, которые пронизали, как «саркома», все поры «свободного» западного общества и превратили его в худшую из тюрем — тюрьму разума [21].
В сущности, что такое эта пресловутая политкорректность? Это не невинное стремление не обидеть неловким жестом или резким словом того, кто заведомо слабее. Нет. Сейчас политкорректность доведена до абсурда и превратилась в диктат слабого над сильным, приобрела такие уродливые формы, что быть умным, сильным, энергичным стало невыгодно или даже опасно. Политкорректность требует от человека перестать верить своим органам чувств, своему жизненному опыту, историческим фактам, мудрости предков и выбросить весь этот эмпирический багаж на помойку. Она противопоставляет этому опыту поколений, за который заплачена огромная цена, голую, ничем не подтверждённую доктрину об абстрактном равенстве всех во всём и по любому поводу. Хоть бы даже эта доктрина и вела к совершенно очевидной победе лени и тупости над трудом и талантом, хоть бы и очевидными были её последствия в виде утраты национальной или даже сексуальной идентичности [21]. Нормальная, здоровая человеческая особь испытывает чувство гордости за свои достижения. Человек справедливо рассчитывает на их позитивную оценку обществом и на вполне материальные «дивиденды», но политкорректность культивирует в успешном человеке чувство вины и стыда, предлагая ему замысловатые софизмы типа во времени бесконечной исторической вины одних народов перед другими. И не важно, что рабовладение в Америке было в ХIХ веке, а нацизм в Германии — в ХХ веке.
Интеллектуальный и гражданский подвиг Тило Саррацина, по мнению Альфреда Коха, как раз в том и состоит, что Caррацин, прекрасно понимая, каким «лакомым блюдом» он предстанет для «демократов» — глашатаев политкорректности после издания своей книги, тем не менее, нашёл в себе мужество заявить об очевидных и простых вещах. О том, что нация умирает. Что никому, похоже, нет дела до того, что некогда один из самых культурных и энергичных народов превращается «в горстку вялых и апатичных старичков». Что бессмысленное растранжиривание «народных» денег ведёт к тому, что бесплатные раздачи привлекают любителей «халявы» со всего мира. И что закат немецкого этноса — это грустная и недалёкая перспектива.
Интеллектуальное восстание против диктатуры общественного остракизма — явление крайне редкое для Европы. Для этого нужно иметь убеждённость Джордано Бруно или Галилея. Как вы думаете, сколько голосов набрало бы утверждение, что «Земля — это шар», будь оно в их время поставлено на всеобщее голосование? Однако всегда находились смельчаки, которые не боялись общественного порицания и говорили людям правду. «Ради чего?» — спросите вы. И вот тут я замнусь, пишет А. Кох… Не хочется выглядеть глупо, он говорит — ради любви к истине. Булгаковский Иешуа утверждал, что «правду говорить легко и приятно». Вот, собственно, ради этого удовольствия люди и идут на эшафот, как в прямом, так и в переносном смысле. Но не является ли это наилучшим доказательством принципиального неравенства людей?
Рискуя навлечь на себя гнев общественности (и даже навлекая — ред.), Тило Саррацин утверждает — люди не равны. Они разные. И эта разность может лишь отчасти быть компенсирована упорством и воспитанием. Напрасно думать, что игнорирование генетического неравенства есть проявление гуманизма в отношении слабых. Что это некая невинная и простительная форма социального милосердия. Россия, более, чем какая-либо иная страна, уже наступала на эти «грабли». И её опыт может быть предупреждением всем тем, кто считает, что генетически обусловленного неравенства не существует.
Начнём с того, что поборники генетического равенства вообще отрицают генетику как науку о наследовании различий. И в этом смысле они становятся в одну шеренгу с тов. Сталиным, который как раз и вроде логично с «простых» марксистско-ленинских позиций объявил генетику буржуазной лженаукой. Ведь Сталин, которого можно назвать каким угодно злодеем, пишет А. Кох, безусловно, не был идиотом. И генетику он отрицал отнюдь не в приступе бессмысленного самодурства. Сталин был человеком последовательным и понимал, что генетика мешает уничтожать старую интеллектуальную элиту нации.
Поэтому и был выдвинут тезис о том, что новую элиту, не хуже, а даже лучше старой, можно попросту воспитать. А вся чепуха про наследование интеллектуальных способностей тормозит победу прогрессивного пролетариата над паразитирующей буржуазией и выродившейся аристократией. Отрицание или игнорирование простых и понятных истин — это родовой признак политкорректности, по мнению А. Коха, представляющей собой современную форму «неосталинизма» («неотроцкизма» — ред.). Её отличие от классического сталинизма состоит лишь в том, что за инакомыслие сейчас не расстреливают. А вот в тюрьму загреметь можно, например, по обвинению в шовинизме. Так же, как и раньше, под одобрительные возгласы толпы и «свободолюбивой» прессы. По утверждению автора, западная демократия, лишается своего главного козыря в глобальной конкуренции — интеллектуальной свободы. Серые, недалекие, прекраснодушные «горлопаны», пишет автор предисловия, как иезуиты времён инквизиции, формируют ментальные каноны, в которых должен существовать свободный разум. И всякое отступление от этого канона подвергается истерическим нападкам именем гуманизма и сострадания. Ладно бы это заканчивалось лишь общественным порицанием. Но новоявленные Игнатии Лойолы перекраивают уголовные кодексы своих стран, чтобы заткнуть рот всем, кто не согласен содержать дармоедов и тратить циклопические суммы на дорогие бессмысленные прожекты, разрушающие половую идентичность, традиционную семью, духовное самосознание и достоинство своего народа.
И вот тут мы подходим к главному не только для Германии, но и для Латвии с Россией: как сохранить и приумножить национальную идентичность в условиях сокращения и старения этноса? Ответ у Саррацина один — нужно во что бы то ни стало переломить этот «тренд» и начать рожать. Применительно к немцам это означает то, что немецкая женщина и немецкий мужчина должны хотеть родить немца. Немца, а не эскимоса или зулуса. А для этого они должны гордиться своим народом, как гордятся своим народом американцы, индусы или турки. Послевоенная же традиция национального самоуничижения, укоренившаяся в немецком сознании, действует деструктивно. Улыбку вызывают, например, бесконечные реверансы Тило Саррацина в сторону евреев.
Мы понимаем — комплекс вины, чудовищная трагедия Холокоста и реальные успехи евреев в науке и бизнесе — это всё так. Но «поза покорности», в которую норовит встать любой немецкий автор, затрагивающий тему национальных отношений, напоминает канон, существовавший в Советском Союзе, в отношении научных диссертаций: чему бы ни была посвящена диссертация, будь любезен вставить ссылку на материалы последнего съезда КПСС. Иначе есть риск провала на защите или официальные «замечания» у меня в 1981 году на защите диссертации по философии естествознания в Ленинградском госуниверситете за якобы «некритичное цитирование» моих старших товарищей — «системщиков» Авенира Ивановича Уёмова (Одесса), Георгия Петровича Щедровицкого (Москва), Николая Григорьевича Загоруйко (Новосибирск), Дмитрия Александровича Поспелова (Москва) и других участников нашего непростого Рижского академического семинара «Прикладные вопросы гносеологии»[6].
Книга, конечно, не лишена недостатков или даже курьезов. Так, например, Саррацин считает ислам изначально неспособной к развитию ортодоксией, лишающей его приверженцев способности к социальному и интеллектуальному прогрессу, поскольку, видимо, проблематика притока и интеграции мигрантов существует сегодня в Германии исключительно с мигрантами из Турции, из стран Африки, Ближнего и Среднего Востока, которые более чем на 95 % исповедуют ислам [21]. Нуждается в серьёзном анализе и утверждение автора, что западная цивилизация из-за мусульманской иммиграции и растущего влияния исламистских направлений веры сталкивается с авторитарными, несовременными, а то и антидемократическими тенденциями, которые не только навязывают нам своё разумение, но и представляют прямую угрозу нашему жизненному стилю. Хотя частично и можно согласиться, что речь идёт об очень обособленных религии и культуре, приверженцы которых вряд ли особенно интересуются окружающей их западной цивилизацией, разве что в качестве источника материальных пособий и благ.
Остаётся у автора также открытым вопрос: возможно ли вообще и насколько возможно реформировать структурные изменения экономики, общества и их постоянно меняющиеся типовые условия, хотя действительно «необходимо считаться с тем, что рабочая сила стала товаром, и её перемещение в капиталистическом обществе будет происходить всегда». Надо серьёзно работать над созданием в ЕС таких условий для жизни и труда, чтобы любой человек чувствовал себя защищённым и его права были гарантированы. Постараюсь также вкратце ответить потенциальным, не переболевшим «детской болезнью» левизны и потому наиболее непримиримым критикам книги Саррацина с «леворадикальной» Восточной стороны.
В научном мире критика не есть нечто исключительное. Считается естественным и закономерным подвергать критике предшественников, без лишних эмоций сознавая, что новое поколение учёных может пересмотреть выводы, считающиеся в данный момент бесспорными. Основоположники марксизма, создавая своё учение, ещё раз повторюсь, как раз и подвергли беспощадной научной критике многочисленные теории своих основных предшественников. Остриё их критики было направлено против существующих догматических представлений о вечности частной собственности на средства производства, вечности и, так сказать, естественности социального неравенства, классового строя общества, существования малоимущего и даже неимущего населения. Мы не стремимся догматически предвосхитить будущее — утверждал Маркс — а желаем только посредством критики старого мира найти новый мир… «Наша теория — это теория развития, a не догма, которую надо выучить наизусть и механически повторять», неустанно подчёркивал Энгельс.
Советские руководители после Иосифа Сталина не имели интереса к теории марксизма и к общественным наукам. Сталин, по воспоминаниям, часто повторял: «Без теории нам смерть». Например, Сталин был категорическим противником марксистско-ленинского положения об отмирании наций при коммунизме. В работе «Марксизм и вопросы языкознания», изданной в 1950 году, он утверждал, что нация и национальный язык являются элементами высшего значения и не могут быть включены в систему классового анализа, созданную марксизмом (курсив — ред.). «Именно нация сохраняет общество, раздираемое классовой борьбой, и лишь благодаря нации классовый бой, каким бы острым он ни был, не приводит к распаду общества…» Вся история 30-х годов есть история скрытой жестокой борьбы между государственниками-сталинистами и ортодоксами-ленинцами — адептами мировой революции, по моему мнению, взявшими реванш на ХХ съезде КПСС в 1956-м году[7]. Как в воду глядел «отец народов». Если взять сегодня политику как «отношения между классами, нациями и государствами», то, во-1-х, постиндустриальное информационное общество как бы «могильщик» пролетариата и эффективности самого классового анализа. Во-2-х, национальный подход Ленина и Троцкого при создании СССР в 1922 году, без учёта особого мнения Сталина по «союзу социалистических республик Европы и Азии», облегчил распад Советского Союза в 1991 году (с усилением раздоров, конфликтов, массовых гражданских столкновений на национальной почве и др.). И, в-3-х, отношения между государствами в однополярном мире сводились к диктату и внешнему управлению «суверена» без каких-либо «сдержек и противовесов» в 2000 году, а в сегодняшнем уже практически многополярном — к «сдержкам и противовесам» «полюсов», что в условиях глобализации сдвигает или трансформирует политику в силовые геополитические отношения с «гибридной», «холодной» или даже возможной «горячей» войной.
Современный мир находится в процессе переустройства. Наряду с глобализацией ощутимы тенденции к сближению стран, образованию новых экономических, политических и военных организаций (ЕВРАЗЭС, ШОС, БРИКС и др.). Вместе с тем, вполне очевидно обострение противоречий и возрастание конфликтности миропорядка. В частности, в Греции впервые показала свои негативные последствия либеральная модель глобализации. Согласно этой модели снятие всех ограничений, объединение всех со всеми, всеобщая открытость и образование единого рынка — род религиозного верования. Сомневаться можно в Пресвятой Троице, но не в либеральных ценностях открытости, всеобщего рынка и даже ЛГБТ. Когда-то философия была служанкой богословия, а сегодня наука экономика обслуживает новую религию, объявляя от имени науки снятие всех барьеров и глобализацию как путь к всеобщему процветанию. В это приказано верить. Однако суть дела не в борьбе с пресловутым либерализмом и «клятыми либералами», а в практической смене той парадигмы, которая была избрана, например, руководством России в 1991 году, когда на смену господству одной идеологии — закостеневшего «квазимарксизма» — пришло некритичное господство другой идеологии — либерально — рыночной. Вся эта «теория» в российском постсоветском исполнении свелась к постулатам госневмешательства в экономику, всесилия глобального рынка, минимизации денежной массы, почти сакральной веры в западные инвестиции и др. Если в сфере внешней политики и обороны сегодня происходит «перестройка», то в экономике она явно запаздывает.
Либеральный монетаризм достиг потолка развития. Системе, основанной на экономике ссудного процента и глобальной зависимости, больше некуда осуществлять экспансию. «Центр» не может удерживать «периферию», и чтобы затормозить растущий кризис, применяются всё более грубые методы «стабилизации», связанные с ужесточением социальной политики, военной силой, искусственным разжиганием этнических и конфессиональных конфликтов — массовыми убийствами, как на Ближнем Востоке. Но репрессивно — силовые подходы всё сильнее входят в противоречие с догматами поздне-либеральной идеологии. Правозащита, национальное самоопределение, монополия государства на насилие — применение этих презумпций становится всё более избирательным, несоразмерным реальной ситуации и идеологически немотивированным. Так возникает глобальный кризис легитимности доктрины либерализма и соответствующей ей социальной модели.
Сегодня развитие общества идёт не по марксовой спирали и не по либеральной прямой, а по принципу маятника. Движение направлено не вперёд, а как бы назад по исторической шкале. Этот новый феномен исторического реверса ждёт исследователей. Результатом регресса становится архаизация либеральной модели. Её признаки — штабная экономика, методы информационного контроля над обществом, утрата массовым сознанием научно — критических ориентиров, легализация и рост того или иного «радикализма». Иными словами, постлиберализм сегодня, как коммунизм в ХХ веке, из политического учения превращается в жёсткую систему политических догматов, правил и принудительных поведенческих сценариев, словом — в навязываемую жёсткую идеологию. Уже становится очевидным, что нынешний мировой кризис не может быть разрешён в рамках прежней социально — модели.
Европейская история знает три политико-идеологических направления — либеральное, консервативное и социалистическое. Причём первое в последние десятилетия практически поглотило два последних. Имели место разные комбинации направлений, а попытка изобрести «новую идеологию» на деле, как показывает опыт, сводится к одной из таких комбинаций. Ныне при смене идеологической парадигмы либерализма для России, по мнению А. Щипкова, возможна лишь левоконсервативная комбинация. В частности, потому, что остальные комбинации уже «отыграны» в истории. Но это не единственная причина. Идеологию будущего нельзя рассматривать как абстракцию, в отрыве от сопутствующих экономических и геополитических факторов. В отсутствие утрачиваемой глобальной долговой экономики, построенной по принципу пирамиды (периферии и центра) новым институтам придётся решать принципиально иные задачи, а государствам — рассчитывать на собственные силы, а не на ввоз капитала и ресурсов с периферии. Встаёт вопрос усиления контроля государства над бизнесом и справедливом распределении благ.
Для такой социальной модели требуется эгалитаристская идеология, тяготеющая к социализму и социал-демократии при наличии сильной вертикали власти. Но для обоснования этого «нового этатизма» требуется новая система ценностей взамен старой, связанной с советской упрощённой марксистско-ленинской моделью социализма. И эта система должна строиться на началах традиции и противостоять набирающему силу ультралевому тренду постлиберализма. В этой ситуации остаётся вариантом привлечение консервативных ценностей раннего христианства, которыми обосновано социальное государство и справедливое общество нового типа. Вопрос в том, куда «качнётся» общество от «провалившегося» либерализма. Сегодня мы на исторической развилке. Идёт борьба между старым либеральным миром, который стремительно архаизируется, стремясь сохранить себя и возродиться в форме даже леволиберального тоталитаризма, и миром консервативно-христианским, способным создать справедливое эгалитарное общество. Дальнейшая экспансия западной демократии без проекции силы уже маловероятна, a попытки легализации силового компонента в отношении России или Китая только ускоренно развенчают иллюзию о военной мощи НАТО и США.
Тило Саррацин написал свою книгу как приглашение к дискуссии, не давая готовых ответов на поставленные вопросы. Ценность этой дискуссии выходит за рамки Германии. И в Латвии с Россией сейчас те же проблемы — сокращение коренного населения, низкая рождаемость, приток иммигрантов. Только в Азии к середине нашего века будут жить 5 миллиардов человек, из них 3 миллиарда — это Индия и Китай. В решении данных проблем требуется много усилий по разумному регулированию иммиграции и по интеграции иммигрантов в условия нашей жизни, но такого рода постановки задач заставляют думать[8]. Думать о самом, может быть, главном в нашей жизни — кто мы, для чего мы, и что будет с нами завтра. Для нового молодого поколения немцев 2-я Мировая война уже, пожалуй, ничего не значит, и оно ищет что-то новое для Германии и Европы — «зелёная» экономика, права человека, вплоть до ЛГБТ как апогея «свободы» тела, и «высшая» постлиберальная мораль. Для этих людей Ангела Меркель и Владимир Путин начинают олицетворять «отстой», от которого они хотят уйти.
6
Неофициально руководством философии естественных факультетов Ленинградского госуниверситета было иронично сказано: «Что вы там в Риге творите? Какая ещё может быть при марксизме-ленинизме «прикладная гносеология»? Да у нас в Ленинграде за такие вещи ещё из партии исключают, приведя пример, по-моему, с «социальной семиотикой».
7
Руководитель Компартии Китая Мао Цзедун, как противник антисталинской «компании» Никиты Хрущёва, давал такую общую оценку Сталину: «В целом, по нашему мнению, Сталин имеет примерно 70 % заслуг и 30 % ошибок», но больше всего Кремль возмутил главный тезис мемуаров сбежавшей из-под надзора КГБ дочери «вождя народов» Светланы Аллилуевой: не один Сталин виноват, а вся партия… — «Диктатор в маске клоуна» и «Побег дочери Сталина» / газ. «Тайны СССР», 2021, № 19 (94), с. 18–20, 22–23. рег. № ФС 77-64482 от 31.12.15..
8
Полезно взглянуть на иммиграцию глазами Юваля Харари, как на сделку с тремя базовыми условиями, вызывающими разные дискуссии в Евроcоюзе относительно смысла каждого из них [5, c. 179 — 187]. Условие 1. Принимающая сторона впускает иммигрантов. Условие 2. В ответ иммигранты принимают как минимум основные нормы и ценности принимающей страны, даже отказываясь от некоторых собственных норм и ценностей. Условие 3. Если иммигранты ассимилируются, то со временем они становятся полноправными гражданами принимающей страны, т. е., «они» превращаются в «нас», а 4 дискуссия касается уже реальности или проблемности выполнения этих трёх условий — моральный долг в глобальном мире перед другими людьми (1), принятие либеральных ценностей толерантности и свободы (2), разница между личной индивидуальной и общественно-групповой временной шкалой (3), и выполняются ли обязательства сторон и сделка вообще (4)