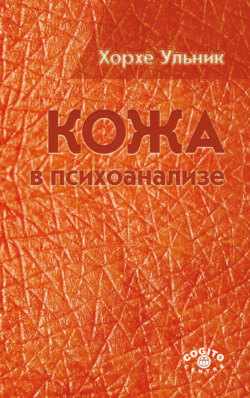Читать книгу Кожа в психоанализе - Хорхе Ульник - Страница 32
Глава вторая. Дидье Анзьё: Я-кожа
Запрет на прикосновение
ОглавлениеПервые запреты, которые семья применяет к детям, как только мир (двигательного) перемещения и (дословесного и прелингвистического) общения становится им доступен, связаны с тактильными контактами; с этими внешними, изменчивыми и многочисленными запретами в качестве основы, формируется внутренний по своей природе запрет (Anzieu, 1987а, p. 149).
Запрет на прикосновение на языке тактильности может быть тем же, чем на языке эдипальности является кастрация, вытеснение или функция закона. Запрет на прикосновение двойственен, поскольку развивается в два этапа, относящихся к разным типам контакта.
Первичный запрет на прикосновение противостоит конкретно влечению привязанности. Это запрет на контакт вообще, т. е. запрет на привязанность, слияние и смешение тел. Он перенаправляет в психическую сферу то, что действовало в биологическом источнике. Он придает отдельность живому существу, находящемуся в процессе обретения индивидуальности. Именно запрет отстраняет индивидуума от материнской груди и поддерживает желание вернуться, реализация которого возможна только в фантазии (этот запрет не укореняется у аутичных индивидуумов, которые продолжают жить в материнском лоне). Мать неявным образом транслирует запрет ребенку посредством активного физического дистанцирования: ставя ребенка в кроватке, она отворачивается от него, она отворачивает его от себя, забирая грудь, отворачивая свое лицо, к которому ребенок хочет прикоснуться. В тех случаях, когда мать не осуществляет этот акт запрета, вокруг всегда есть кто-то, кто словесным образом выступит в этот момент как представитель запрета. Отец, свекровь, сосед, врач-педиатр – кто-то напомнит матери о ее обязанности телесно отделить себя от ребенка, чтобы тот уснул, чтобы он не перевозбуждался, чтобы оградить его от обретения вредных привычек; так он сможет учиться самостоятельно играть, так он сможет начать ходить, а не проситься на ручки. Все это делается ради того, чтобы он рос, чтобы он оставил свое окружение и находил себе время и место для самостоятельной жизни. Соответствующая угроза физического наказания в конечном счете представляется в фантазии как отрыв, как отказ от влажной поверхности единой кожи ребенка и матери (или того, кто ее заменяет, каковым может быть отец)…. Мифология и религии отражают этот отрыв.
Вторичный запрет на прикосновение налагается на влечение к овладению: не все можно трогать, хватать или держать. Это избирательный запрет на мануальный контакт: не трогать гениталии и вообще эрогенные зоны и их продукты. Нельзя прикасаться к людям или предметам в грубой манере; прикосновение к ним должно ограничиваться лишь действиями, направленными на адаптацию к внешнему миру и на удовольствие, ими предоставляемое, следуя одному только принципу реальности. Запрет формулируется вербально или на языке жестов. Семья и домашняя среда противятся ребенку, готовому трогать запретное, сообщая о запрете словами или указывая посредством движений головой или рукой. Неявный смысл следующий: ты не должен хватать, сначала ты должен спросить и согласиться с возможным отказом или отсрочкой. В то же время этот смысл становится явным, когда ребенок в достаточной мере овладевает языком; это тот навык, к освоению которого приводит запрет: на интересные предметы не нужно показывать пальцем, их нужно называть. Угрозу физического наказания, соответствующую вторичному запрету на прикосновение, в конечном счете выражает семейный и социальный дискурс: рука, которая крадет, бьет или мастурбирует, будет привязана или отрезана (ibid., p. 161).
Это двойной запрет, обеспечивающий возможность перехода от телесного Эго к связанному с ним психическому Эго. Этот переход может потребовать отказа от преобладания кожных удовольствий, а затем от руки, тем самым способствуя и трансформируя конкретное тактильное переживание базовых представлений, на основе которых формируются межсенсорные системы соответствий. Эти базовые представления на начальном образном уровне поддерживают символическую связь с контактом и осязанием и позже могут достигать чисто абстрактного уровня, утрачивающего эту связь (Anzieu, 1987а).
Все это не означает, что вытесненные тактильные первичные связи разрушаются (речь не идет о патологических случаях), скорее, они продолжают регистрироваться фоном, на котором прорисовываются межсенсорные системы соответствий. Они образуют психическое пространство, в котором могут объединяться другие сенсорные и моторные пространства, и поэтому они предоставляют воображаемую поверхность, на которой могут отображаться производные скрытых мыслительных операций. По мнению Анзьё, гегелевское понятие Aufhebung[7] особенно уместно при описании качества этих экотактильных следов, которые одновременно отрицаются, преодолеваются и сохраняются (Anzieu, 1987a). Такая экотактильная коммуникация существует в качестве изначального семиотического источника (ibid, p. 166).
Прикосновение может иметь сексуальную коннотацию, оно может быть всего лишь доказательством существования или средством формирования Я-кож и (A nzieu, 1987а). Запрет на прикосновение способствует установлению различия между уровнями организации реальности, которые остаются спутанными в первично тактильном переживании тела (Anzieu, 1987а). Эти уровни организации реальности могут быть описаны следующим образом:
• Ваше тело отличается от тел других людей.
• Пространство не зависит от объектов, его населяющих.
• Одушевленные объекты ведут себя иначе, нежели неодушевленные.
Можно выделить две структуры тактильного опыта: контакт посредством объятий, покрывающий большую поверхность кожи и характеризующийся давлением, теплом или холодом, нормальностью или болезненностью, кинестетическими и вестибулярными ощущениями, контакт, включающий в себя фантазию о коже в целом; наконец, прикосновение рукой, контакт кожа к коже, считающийся нейтральным, эрогенным или ожесточенным. Оба запрета на прикосновение направлены по отдельности к каждой из этих структур.
Равным образом запрет на прикосновение соответствует двум основным влечениям: агрессивным влечениям (не трогать предметы, которые могут сломаться или повредиться; не воздействовать с чрезмерной силой на части тела других людей) и сексуальным влечениям (не прикасаться назойливо к доставляющим удовольствие чувствительным частям собственного тела и тел других людей, поскольку возникающее возбуждение, понять и удовлетворить которое человек не способен, будет для него чрезмерным). В обоих случаях, запрет на прикосновение защищает от неумеренного полового возбуждения и таких его последствий, как распущенность. Благодаря запрету на прикосновение, сексуальность и агрессия остаются структурно недифференцированными; скорее, они ассимилируются как выражение влечения к насилию в целом. Итак, запрет на прикосновение относится к сексуальным и агрессивным влечениям одновременно (Anzieu, 1987a, p. 158).
7
Согласно Ипполиту (Hyppolite, 1966, р. 860), гегелевское понятие Aufhebung означает отрицание с удержанием. Мы должны помнить о том, что Фрейд говорит об отрицании как своего рода Aufhebung (снятии) вытеснения, а не о признании вытесненного материала, потому что существенная часть вытесненного, препятствующая развитию аффекта, сохраняется.