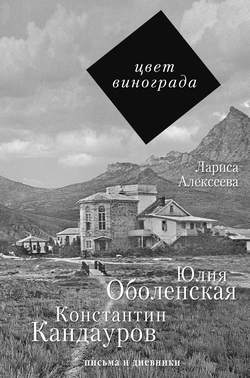Читать книгу Цвет винограда. Юлия Оболенская и Константин Кандауров - Лариса Алексеева - Страница 14
Коктебель. Love story
В театре Луны
ОглавлениеЭтот путь через страдания нужен как очищение. Будь же крепка духом и твердо работай во имя нашей любви.
К. В. Кандауров – Ю. Л. Оболенской. 15 июля 1914
«Сегодня поедут в Коктебель Толстые Алексей и Соня»[41], – сообщает Оболенской в письме от 19 марта Константин Васильевич. По-видимому, Юлия Леонидовна о них хорошо наслышана, а скорее, отдаленно знакома – с Дымшиц они вместе занимались в школе Званцевой, Толстой там часто появлялся. Они давно дружат с Волошиным, а в этот год приехали в Коктебель ранней весной.
Их появление на коктебельских подмостках совпадает с работой Толстого над пьесой «Геката», ставшей своеобразным «прологом» к дальнейшим реальным событиям. Мифология пьесы восходит к волошинскому венку сонетов «Lunaria» и наполнена мистикой космических катастроф и жуткими сценами (дисгармония души и пола, убийство женщины, самоубийство), оставлявшими впечатление горячечного бреда. Но пока это всего лишь словесная игра на модную тему луны, актуальную у символистов и мистиков.
Появление новых героев требует небольшого отступления, касающегося двух друзей – Кандаурова и Толстого.
Предположительно, они познакомились весной 1911 года здесь же, у Волошина. 25 мая 1911-го в одном из своих писем Кандауров писал: «Очень было занятно с Толстым и Максом»[42]. Следующий летний сезон все так же благополучно и счастливо проводили в Крыму, свидетельством чему является коллективная открытка Кандаурову, написанная Толстым при участии других обитателей волошинского дома: «Имею честь довести до Вашего сведения, что в Киммерии все благополучно и по местам (и весело!)»[43]. Далее идет перечисление участников Киммерийского олимпа, где Толстой именует себя Валерьяном Самцовым, а его гражданская жена – Сивиллой Карантинной.
В 1912 году именно Кандауровы помогли Толстым перебраться в Москву, подыскать квартиру в доме на Новинском бульваре, поселив их на какое-то время у себя – в квартире при Малом театре. И наоборот, летом 1914-го, после пожара, погорельцы получают пристанище у Толстых. Иначе говоря, Толстые и Кандауровы приятельствовали семейно, довольно часто бывая друг у друга в гостях.
С Константином Васильевичем Толстого, несмотря на существенную разницу в возрасте, сближала жажда радости, смеха и праздника, а любовь к искусству выглядела озорной и несерьезной:
Ходит Костя зол и дик,
Испитой у Кости лик:
«Не художники, а черти,
С ними я устал до смерти».
……………………………..
«Это шутки – мажь да мажь,
Вот устрой-ка вернисаж,
Да ругайся, да клянись,
Ох, мне Водкин попадись!»[44]
Кроме того, Кандаурову Толстой был обязан постановкой своей пьесы «Насильники». В библиотеке Константина Васильевича сохранились страницы с текстом пьесы из журнала «Заветы» (№ 1, 1913), где впервые она была опубликована с такой надписью: «Милому Косте, пугателю и ламповщику от ошельмованного и обруганного им несчетное количество раз автора. 15 ф. 1913 г.»[45]. В 1924 году он с благодарностью вспомнит об этом еще раз в статье «Моя первая пьеса», написанной к 100-летию Малого театра. Своего давнего друга, который «с незапамятных времен (с 1897 года. – Л. А.) заведовал в Малом театре солнцем и луной, грозой и бурей», он назовет «живым архивом театра» и даст его иронично-нежный портрет: «Всех в театре – директора, актеров, режиссеров и рабочих на сцене – он считал превосходнейшими людьми и страшными чудаками. Когда он замечал в ком-нибудь чудачество, то начинал любить этого человека, от души потешался и оказывал ему тысячи услуг. На этом основании мы с ним очень подружились»[46].
Кандауров действительно хорошо знал мир театра, умел остроумно и весело рассказывать о закулисной жизни, привычках знаменитостей, всевозможных театральных курьезах, в его квартире при Малом театре бывало множество народа, многие любили его искренне и без фальши.
Иначе – как типаж – интересовала Толстого и Анна Владимировна, которая казалась старше своих тридцати шести лет. В феврале 1913 года он записывает в дневнике: «Вообще описать Анну Владимировну. Припомнить вечеринку у них. Как она меняла банты. Как краснела под всеобщими взглядами. Как Костя, сидя на углу стола, скалился во весь рот, вертя цепочку, вдруг хохотал деревянным смехом. Тяжко, утомительно, беспокойно женщине в 40 лет»[47]. В проницательности Толстому не откажешь. Встреча Кандаурова с Оболенской еще впереди, но пролог еще не случившейся истории уже намечен писателем.
Репортажем с места описываемых событий можно считать его коктебельскую запись от 20 июня 1914 года, также имеющую отношение к Кандауровой: «Вечером я и Костя в комнате – говорили. Стук. Аня почувствовала скверно. Наконец плачет. “Зачем все ушли, оставили меня?” – “Кто все, Аня?” – “Алексей и другие, их много было”. Перебежала, села на другой стул: “Их было много. С длинными руками!” Костя повторял только – “Аня!”»[48]. Это уже финал драмы, где нервное расстройство или повышенно-возбужденное поведение Анны Владимировны запечатлено в нескольких фразах – выразительно и емко.
Но в мае, когда расписывались «Бубны», отъезд Софьи Исааковны еще не предвещал, по крайне мере для окружающих, ее окончательного расставания с Толстым, а Оболенская «с настроением как у щенка на солнце» беспечна и радостна в ожидании предстоящего свидания: «Первый, т. е. следующий, день был великолепен: я оделась с утра потеплее, и пришлось постепенно разоружаться. Встала в 6 час. (в 8½ бужу Толстого, он уверяет, что так: “Вставай, Алешка-мерзавец”, – но мне все-таки кажется, что не так) бродила у моря в состоянии совершенного счастья – как это несложно, оказывается!»[49].
В черновом наброске воспоминаний Оболенская отмечает, что в отсутствие жены Алексей Николаевич возбуждал «поголовное увлечение местных дачниц и яростную зависть ко мне (только и слышишь от него: “Юленька, Юленька”)»[50]. До приезда Кандауровых она действительно много проводила с ним времени, затем ситуация меняется. Под предлогом работы над портретом Константина Васильевича они все чаще уединяются вдвоем, и выходка Толстого, однажды направившего в окно комнаты струю воды из брандспойта, выглядит не такой уж и шуткой. Дальше следует такой текст: «А. Толстой опрокинул К<онстантина> В<асильевича> в море, и я подралась с ним – он бил больно, как расшалившийся мальчишка»[51]. Это, конечно, не дуэль на Черной речке, хотя момент соперничества, реакция на неожиданный проигрыш очевидно присутствуют.
Уже в июне события развернулись стремительно и так, что всем действительно было уже не до смеха. В письме Оболенской Магде Нахман от 9 июля сюжеты наслаиваются один на другой, походя на сценарий любовного сериала: «Марина с Асей (Цветаевы. – Л. А.) … перессорились со всеми дачниками, с Макс<имилианом> Алекс<андровичем>, дерзили, грубили, создали тьму сплетен» и после «грандиозного скандала» уехали из Коктебеля; у самого Волошина тяжелые отношения с матерью и с Майей Кювилье, мучающей «истериками, потоплением»; Толстой, влюбившись в Маргариту Кандаурову, «потерял голову, угрожая и без того обезумевшей Анне Вл<адимировне>, что застрелится, если она будет (в качестве тетки) мешать ему; ходил с револьвером…»[52].
У всех на виду роман Оболенской и Кандаурова, которого жена срочно увозит в Феодосию, угрозы самоубийства и попытки их воплощения уже со стороны Анны Владимировны. Все это безумие закончилось грандиозным скандалом и разъездом гостей, причем сам хозяин дома надолго уезжает за границу. В конце ноября из Дорнаха он писал Оболенской: «У меня от этого лета осталось глубокое сознание своего бессилия… Мы все точно в каком-то предрассветном сне томились и не могли проснуться»[53].
У Толстого отзвук этого лета станет прозой: «…Легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры… По всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи. И казалось, самый воздух был полон любовного шепота, нежного смеха и неописуемой чепухи, которая говорилась на этой горячей земле, усеянной обломками древних городов и костями вымерших народов. Было похоже, что к осенним дождям готовится какая-то всеобщая расплата и горькие слезы» («Сестры», глава 12)[54].
Июльские строки Юлии Леонидовны грустно-насмешливы и характерологически точны: «Было легче оттого, что у всякого было свое, и однажды, когда мы все сидели на балконе: Макс<имилиан> Ал<ександрович>, Толстой, я – мы посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись в первый раз, ничего не объясняя друг другу, и только Толстой сказал: «Вот что значит “Бубны” расписывать!»[55].
41
ГТГ ОР. Ф. 5. Ед. хр. 203. Л. 1 об.
42
Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина: летопись жизни и творчества. 1877–1916. СПб, 2002. С. 271.
43
РГАЛИ. Ф. 769. Оп. 1. Ед. хр. 227. Л. 1.
44
РГАЛИ. Ф. 769. Оп. 1. Ед. хр. 285. Л. 1.
45
ГЛМ. Книжные фонды. № 106 028.
46
Толстой А. Н. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 15. М., 1953. С. 327.
47
Толстой А. Н. Материалы и исследования. М.: Наука, 1985. С. 308.
48
Там же. С. 321.
49
ГТГ ОР. Ф. 5. Ед. хр. 979. Л. 2.
50
ГЛМ РО. Ф. 348. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 16.
51
Там же. Л. 16 об.
52
РГАЛИ. Ф. 2080. Оп. 1. Ед. хр. 7. Лл. 77–78.
53
Волошин М. А. Указ. соч. Т. 10. С. 265.
54
Толстой А. Н. Указ. соч. Т. 7. С. 100.
55
РГАЛИ. Ф. 2080. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 81.