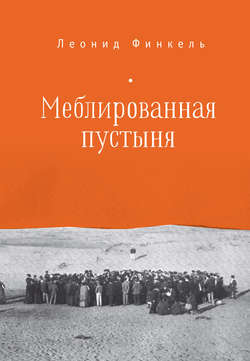Читать книгу Меблированная пустыня (сборник) - Леонид Финкель - Страница 6
Меблированная пустыня
4
ОглавлениеМамина сестра, тётя Женя бьется головой о стены.
Так он ищет правильный путь. Она никогда не зажигает свет – экономит электричество. Казалось бы, проще простого – хотя бы палкой найти дверной проем. Конечно, проще простого – если тебе не девяносто. Она пробует головой стены и так ищет дверь в туалет, на кухню, в мою комнату.
Это единственный близкий, дорогой человек. Она меня и воспитала. Она поехала со мной в Израиль, думая, что это Украина или Белоруссия, ну уж, по крайности Москва, где можно хотя бы наблюдать, не вынесут ли ненароком Ленина из Мавзолея. В последний раз в Москве она была лет пятьдесят тому. После ухода на пенсию (более четверти века назад), не летала на самолетах, не ездила на поездах, да и из дому выходила редко. Она читала и читала газеты, что-то подчеркивала, что-то выписывала. По телевидению – только программу «Время». По радио – только «Последние известия» и «Новости». Перестройка оглушила ее. Ей показалось, что не то Колчак, не то Петлюра, не то Гитлер все-таки взяли Москву. Каждую газетную статью против Ленина она воспринимала как личный выпад. После каждой бранной статьи о партии – пила валерьянку. Когда я ей сказал, что нет уже ни Советского Союза, ни партии – она раскрыла большие глаза и долго молча печально глядела на меня.
– Да, – философски заметила она. – Я знала, что может быть еще хуже…
Она как в воду смотрела. После смерти моей матери, её сестры, которую сбила на тротуаре машина, осознав всю ответственность за меня – детей у неё не было – она всю себя отдала мне, моей школе, институту, профессии. Для неё существовал только я. Но с годами она забыла мое имя, а стала называть меня невнятным словом, в котором мне все время чудились какие-то звуки, нечто вроде «Б…Л…Г…» Возможно, «белогвардеец». Или, как сказал умничка Ерофеев, «дебилогвардеец». Вообще, она как-то сразу забыла все имена. Мужа своего, известного художника, погибшего в войну, имя горячо любимой сестры, которую однажды сбил автомобиль, и с того времени Женя стала странно заикаться «Б…Л…Г…» Она начисто забыла имена моих жен (и правда, чтобы их запомнить – надо обладать незаурядной памятью), имя моей дочери, сына. Она только помнила, что племянники ее должны быть в Израиле (их, скорее всего, увезли мои жены) и что она не может умереть, не увидав их. И хотя внуков у нее никогда не было, как и у меня детей, она стала проситься в Израиль, сильно подозревая, что Израиль – просто пригород Киева или Минска, в крайнем случае, Москвы…
И вот однажды, после трех десятков лет перерыва, я посадил ее в поезд. Поскольку одно купе освободили под вещи, другое было переполнено. Было душно и полутемно. Мы ехали на Бухарест. Уже через два часа езды зашли таможенники, а потом пограничники. И Женя прижала к рукам чемоданчик: в нем кроме партийного билета и почетных грамот, которые она получила за хорошую работу в музыкальной школе (педагог по классу балалайки), ровным счетом ничего не было. Но и таможенники, и пограничники смотрели только на этот чемоданчик. Один из них неловко пнул старуху, она ойкнула, чемоданчик рассыпался, и выпорхнули оттуда почетные государственные награды, старые фотографии, оставшийся от мужа рисунок – ее портрет, карандашный набросок да партбилет в корочках, на который парень не обратил никакого внимания, иначе б потребовал компенсацию за перевоз документов…
Потом были таможенники с румынской стороны, тех быстро утихомирили: с каждого пассажира собрали по бутылке водки на румынского брата. Уже в Бухаресте Женю посадили на тележку поверх чужих чемоданов и повезли по платформе тоже как вещь, но уже совсем лишнюю, незастрахованную, за потерю которой отвечать не придется, так что рабочий при погрузке буркнул что-то вроде: «Перегруз». И ему пришлось дать бутылку…
Поселились мы в специально отведенной для репатриантов гостинице. Мы с Женей в одном номере. Там-то она впервые и стала опробовать головой стены. Поднималась ночью и стучала…
Потом спрашивала меня:
– Это Киев? Тогда надо звонить Михаилу.
Михаил – это ее двоюродный брат в Киеве, давно выехавший в Америку. Про то, что он уехал Женя, конечно, забыла, а про то, что жил в Киеве, помнила…
По случаю первомайских праздников не было самолета, и Женя трое суток билась по ночам головой о стены. С самолетом же было и того хуже. Еле втащил. Потом, когда стали раздавать обед, она даже не притронулась:
– Одно из двух, – сказала, – либо отравлено, либо платить надо золотом…
Другой валюты Женя не знала.
А все началось со страха.
Где-то в году 1937–1938 её муж, художник, находился на действительной службе в армии в звании офицера и в качестве начальника клуба. Старший и младший комсостав, как известно, в те годы был репрессирован почти поголовно. И Женя, тогда молоденькая преподавательница музыки в том же клубе, ежедневно ждала стука в дверь. Ей и до сих пор кажется, что вот сейчас возле дома притормозит машина, раздастся лай собаки, чьи-то шаги…
– Кто, кто там?
– Да никого, Женя…
Черт бы взял эту машину, этот скрип шагов, эти пьяные голоса.
Стук в окно. Стук в дверь. По праздникам. Под выходной. От страха Женя потеряла чувство смерти. Умер ее отец, мой дед, – слезинки не проронила, точно радовалась, что умер своей смертью…
Потом началась война. Муж пропал без вести на фронте в сорок первом, а бумага пришла только весной сорок третьего. И она все это время боялась: либо его убьют, либо арестуют. После сорок третьего года стала бояться пуще – а вдруг как к пропавшему без вести к нему и приступят, дескать, изменник Родины, а что еще хуже, приступят к семье, к племяннику, то есть ко мне. Бумага с печатью казалась ей непонятной, а особенно подозрительной подпись. Она даже в военкомат за пособием сразу не пошла, а только потом, когда вызвали… И в сорок третьем, получив бумагу, тоже не плакала. Сказала: отмучились. Было не понятно, кто отмучился, муж ли, она ли, а может быть, все вместе.
Некогда выше среднего роста, красивая, она вдруг сделалась маленькой, сморщенной старушкой и так, уже не меняясь, дожила до девяноста лет.
– Думаете, зажилась? Я пересчитать, проверить должна, всех ли уберегла, всех ли сохранила?
При всем при этом она фанатично верила в «правое дело» коммунизма. Была уверена, что кто-то извратил идею.
Помню, еще в конце войны, когда мы приехали из эвакуации в игрушечный, чистенький австрийско-немецко-еврейский городок в Северной Буковине, я спросил Женю:
– Мы евреи?
– Мы советские, – сказала она громко, а все последующее про евреев – только шепотом, – советская власть вывела евреев на космический уровень, из черты оседлости – прямо в граждане мира. И мы должны быть вечно признательны за этот скачок, за это приобщение к мировой культуре, когда язык уже не имеет значения, лучше, конечно, русский, самый красивый, самый богатый, (потому и стал международным) самый великий в мире.
– А украинский? – не сдавался я, – Мы родились и выросли на Украине…
– Да… Украинские песни очень красивые… Вообще, у тебя, сын, большая путаница в голове… Жаль, нет мужа… Он бы тебе разъяснил…
– Я разыщу его, Женя, я разыщу его, где бы он ни был. Я разыщу его под землей, но узнаю, что значит «пропал без вести». Может быть, он был в плену и сейчас где-нибудь в Америке…
– Тише! – крикнула она. И присела, точно у нее враз отнялись ноги. И побледнела так, что я стал оглядываться: куда это вытекла вся кровь из нее. – Никогда не говори об этом. Ничего не ищи. Молчи, молчи, молчи… Ты слышишь, я заклинаю тебя, молчи…
И тут она успокоилась. И даже сделала попытку улыбнуться. Одними губами:
– Ты лучше присмотрись к Владимиру Ильичу Ленину. Если нам чего-то и не хватает, так Ленина… Владимира Ильича…
Теперь, спустя годы, я вспоминаю, что не раз слышал эту фразу: «присмотреться к Ленину» – и слышал из уст, куда более компетентных, чем мамины…
И я стал присматриваться. Вот он ведет заседание Совнаркома. Выступающих, как всегда, почти не слушает. Перебивает, нервничает, какое решение принять – не знает, а советоваться не с кем. Вровень ему – никого…
Вот поднялся. Прошелся, точнее, пролетел по кабинету. Вошел Дзержинский. Ленин морщится: «Этот и приходит, и уходит, когда вздумается. Еще ни разу не досидел до конца заседания».
Дзержинский в грязной гимнастерке. Сапоги давно не чищены. Ленин брезгливо оглядывает его с ног до головы…
– Что на повестке дня? – неожиданно кричит Дзержинский.
– Повестка дня перед вами, Феликс Эдмундович…
Секретарь Ленина Фотиева поднялась и услужливо пододвинула бумагу Дзержинскому.
Ленин садится. Подбирает на столе клочок бумаги, быстрым росчерком с сильным нажимом пишет: «Феликс Эдмундович! Сколько у нас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?»
Дзержинский уставился в потолок. Точной цифры ни он, ни подчиненные не знают. Сажают за решетку, кого попало, расстреливают без суда и следствия.
Дзержинский взял ручку и твердым почерком вывел: «Около 1500». Ленин ухмыльнулся, перебил очередного оратора. Потом его самого перебил Феликс Эдмундович. Ленин поставил возле цифры крестик и передал записку Дзержинскому обратно. Дзержинский смотрит на бумажку. Потом впивается взглядом в Луначарского. Долго не отводит неподвижного взгляда. Луначарский кашляет, странно дергается на стуле…
Наконец Феликс Эдмундович поднимается. Высокий, худой, похож на Дон-Кихота. Только глаза неподвижные, стеклянные…
Той же ночью «около 1500 злостных революционеров» расстреляли.
Лидия Александровна Фотиева пожимала плечами:
– Произошло недоразумение. Владимир Ильич вовсе не хотел расстрела. Дзержинский его не понял. Наш вождь обычно ставит на записках крестик в знак того, что он прочел ее и принял к сведению.
На следующий день заседание Совнаркома начали на десять минут позже. Дзержинский снова опоздал. Ленин пошутил:
– Ввести расстрел за недисциплинированность…
Помню, в шестидесятых годах собрали со всей страны актеров, исполняющих роль Ленина, на специальный семинар. Человек триста съехались. То были, каждый в своем городе, люди знатные, проверенные, с хорошими анкетными данными. Непрофессионалам роль Владимира Ильича исполнять было нельзя. Если рисуешь картину с изображением вождя или нетленный скульптурный образ ваяешь – разрешение давала республика. Все здесь было выверено. Во всем порядок. После исполнения роли Ленина актер со спокойной совестью мог ожидать звания. Заслуженный артист станет народным – это уж как пить дать…
Был у таких актеров и свой приработок. Например, массовые представления на стадионах к памятной дате. Ленин, как правило, выезжал на броневике, указывая рукой нужное направление.
В одном из южных городов подготовили и пушечку, которая должна была пальнуть, имитируя крейсер «Аврора». Конечно, для областного начальства изготовить крейсер, и броневичок, и пушечку – это всего только дать указание директору завода, который даже не выматерится от такого задания. Еще бы, честь! Сделают так, что при пальбе у самого Картера в Белом доме стекла в окнах посыплются…
Ночью пошел дождь. Не прикрытая брезентом «Аврора», оставленная на бровке поля, отсырела. И когда мой товарищ Исайка Кацман, режиссер, отдал приказ: «Пли!», бесхозная пушчонка странно возгордилась и не то чтоб пальнула, а как-то придурковато фыркнула, отчего прощелыга на одной из трибун выкрикнул: «Так и было!»
Стадион покатывался со смеху. Прямо корчились на трибунах. Только в центральной ложе помалкивали. Как могли, отвлекали Первого, хотя все уже знали, что песенка моего друга Исайки Кацмана спета. Песенку же начальника управления культуры пока репетировали прямо в центральной ложе. Все зависело от того, узнают ли о конфузе в ЦК или нет…
И только «Владимир Ильич» спас дело. Его встретили громовыми аплодисментами, ибо в бой ему, бедолаге, пришлось идти все же без артподготовки. Длань его, казалось, распростерлась не только над всем стадионом – над всей планетой. Поворачиваясь к трибунам, он выглядел то бронзовым, то гранитным, то будто бы из мрамора, и с каждой минутой смех потихоньку стихал…
Мы стояли в кулуарах «ленинского семинара» и «Владимир Ильич» ужасно гордился, рассказывая про свою потешку. А вокруг стояли исполнители роли вождя. Смеялись. Кто-то даже отважился на анекдотец о вожде мирового пролетариата, но тут в зал вошел сначала Выдающийся Исполнитель роли Ленина – сначала из прославленного московского театра, потом из прославленного ленинградского. И участники семинара, исполнители роли вождя, видимо, скумекав об истинной своей миссии, вдруг подтянулись, заважничали…
Председательствующий, оглядев зал, неожиданно сказал:
– А Гамлет не в каждом театре есть…
Фразу ему долго не могли простить…
А на трибуну уже поднимался Главный Ленинский Драматург. Его, этого драматурга, прозвали «Крупская с нами!». Он выглядел уставшим, и все знали, что он потерял много сил в борьбе с чиновниками за углубление ленинского образа, его разнообразную трактовку и интеллектуальное решение.
И начал свою речь он гневно, с романтическим пафосом:
– Стучит в сердце пепел оболганной Сталиным Октябрьской революции!
Главный Ленинский Драматург был против образа Ленина, разрешенного Сталиным. Против эксплуатации любви и уважения к Ильичу. Оболганный, извращенный Ленин может вызвать отторжение. Но все же стоит присмотреться к образу Ильича, ибо сегодня «мало социализма, мало»…
Точно речь шла о мыле…
Ночью я лихорадочно листал полное (на самом деле сильно урезанное за счет компрометирующих вождя документов) собрание сочинений Владимира Ильича. Перед глазами мельтешили галстуки в крапинку. И это вызывало ненужные ассоциации. Но мне все же удалось сосредоточиться. И я, наконец, увидел Ленина. Он был непоседлив и взвинчен.
– Не понимаете? – недоумевал он.
– Как не понять?! Проще всего – бедным. Тем – некуда податься. Человек, униженный голодом и нищетой, будет делать все, что прикажут. Хуже с богатыми. Но и здесь есть вариант: сделать их бедными. Как?
У Ильича ответы наготове:
– Расстреливать, никого на спрашивая и не допуская идиотской волокиты…
– Будьте образцово-беспощадны!
– Надо поощрять энергию и массовость террора!
Даже не верится, что все это было напечатано! Не передано в суд в качестве обвинений против человечности! И что все это я читал да еще умилялся: надо, надо быть добрым! Надо гладить кошек! Надо.
Вы представляете, здоровался с людьми!
В дни болезни – не расставался с кепочкой даже в помещении. А на улице – завидит крестьянина или рабочего кланяется и быстро здоровой рукой снимает кепчонку. Неужто, каялся? Неужто, просил прощения? Он, видите ли, пришел в революцию за счастьем. Ему счастье нужно было для мирового пролетариата, а не личное счастье.
А может быть, и не каялся вовсе. Может быть, кепка возвращала его к тем временам, когда он был здоровым и сильным, кепка только соединяла его с братишками…
А тем временем известный актер делился опытом работы над образом Ленина. В аудитории царило умиление. Кто-то вытер платком слезы. Кто-то взялся за конспект…
– Как работал? Конечно же, чтение ленинских работ… Читал все, даже воспоминания врагов… – Смелость известного актера сразила аудиторию: читает самиздат? И не боится?.. Сказать такое… При всех… Ну, просто герценовские идеи из Лондона… Не хватает только тумана… – Еще рассматривал известные фотографии… в увеличительное стекло… И такой элементарный, казалось бы, чисто механический процесс привел меня к большим открытиям: я увидел ниточки обшарпанных рукавов на пиджаке, пуговицу, которая держится на честном слове…
Еще бы! Помню, занесла судьба на выставку «Фальсифицированные фотографии»: рядом с фотографиями, препарированными суровой рукой цензора, можно было увидеть реальное фото, с которого смотрели лики Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова. Увеличенные фрагменты фотографии выявили еще более забавные, нежели «пуговица, державшаяся на честном слове», нюансы: в одном месте ретушер оставил каблук от ботинка уже давно изъятого из жизни человека, в другом – какие-то странные пятна, которые при ближайшем рассмотрении оказывались частью шляпы. Чьи это следы? Что-то были за люди? Куда они исчезли? Вот Ленин, с кем-то живо переговаривающийся и вместе с тем… идущий один. Уж не имел ли вождь обыкновения разговаривать сам с собой?
Я тогда был в шоке. Я вдруг увидел воочию семидесятилетнюю историю страны, неумело смонтированную, варварски подретушированную – в стране всегда не хватало профессионалов…
Уже после «свержения» Хрущева в кинохронике о встрече первого космонавта вырезали… самого Хрущева. Юрий Гагарин шел по ковровой дорожке в пустоту, отдавая честь невидимому или, по крайней мере, сильно замаскированному объекту.
Ах, эта наша советская жизнь с ее мимолетными объятиями! Как сказал поэт: «…спасибо призмам мерзлого стекла, жизнь моя трюизмом чудным протекла…»
От бесконечных баталий с Женей о Ленине, мне казалось, я становился не только агрессивнее, но глупее. К идеологическим спорам подключился Шломо Цуц – бывший майор в отставке, ныне кавалер израильской медали в честь пятидесятилетия Победы над фашизмом. В свои семьдесят лет здоровенный детина, он носил рубашку на выпуск, сандалии с гетрами, удлиненные шорты и непременно берет, который делал его схожим не то с французскими маки, не то с израильскими десантниками. На рубашку он натягивал многочисленные орденские колодки, среди которых была медаль «За победу над фашистской Германией» – все остальные – юбилейные медали и значки.
Шломо Цуц был энтузиастом. С утра, после того, как он обходил близлежащие магазины, отчитывал их владельцев, листал свежий номер газеты и тут же под каким-нибудь предлогом (чаще всего возмущенный новой публикацией) возвращал его продавцу газет, он непременно заходил к матери слушать радио РЭКА. Собственно, радио РЭКА он мог слушать и у себя, но к матери он приходил, чтобы «реагировать». Он непременно должен был вклиниться в любую радиопередачу «за круглым столом» в качестве активного радиослушателя, сделать замечания и наставления по телефону за наш с мамой счет. Он прервал выступление по радио пресс-секретаря Сионистского форума и сказал, что в Форум «народ идет плохо потому, что название «сионистский» для советского человека равнозначен «фашистский» и название, по его мнению, надо срочно менять». На радиопередачу к празднику Пурим он откликнулся гневной отповедью ведущему:
– Заманили нас сюда, обокрали, а теперь рассказываете сказки? Неужели вы думаете, в них кто-то верит? Какая там Эстер? Какой там Ахашверон? Вы совесть имеете или нет?
Идя навстречу пятидесятилетию Победы, он успел обойти все инстанции в муниципалитете, намеренно говорил там по-русски – «пусть знают: без нашей победы на было бы государства Израиль, мы шли сюда под бело-голубыми знаменами не затем, чтоб сегодня мне подсунули сраное социальное жильё?» И, наконец, вырвал деньги на книжку «Подвиги евреев-иерусалимцев в Великой Отечественной войне». Правда три-четыре человека тут же позвонили, что они участники войны и о них идет речь в этой книге, но по национальности они двое русских и один украинец и что негоже их, православных, зачислять в евреи! На что Шломо Цуц ответил простым русским словом в самом прямом смысле: «Пусть идут в жопу»…
Выступления его к грядущей Победе все набирали силу…
Уходил домой он обычно к приходу своей невестки, милейшей женщины с испуганными глазами, художницы, полотна которой я как-то видел на выставке в одной из галерей. Полотна были превосходные, тихие, сердечные, от них замирало сердце и сладко ныло под ложечкой. Казалось, она дает дышать сеном, травой, женщиной. Видет звезды, тучи, деревья, бедных одиноких людей. Это было серьезно, какой-то радостный плач о прекрасном и горестном мире, который так скоро приходится покинуть. Видимо, по этой причине (кругом-то ипохондрики) картины продавались плохо и она потихоньку убирала квартиры, работала нянечкой – осуществляла весь тот малый джентльменский набор услуг, которые по минимальной стоимости могли предложить новой репатриантке, израильской госпоже…
Мы иногда перебрасывались с ней словечком-другим. В ее интонациях плавилась какая-то доброта, беспомощность, доверие, мольба о снисхождении, но из темных зрачков нет-нет, да и глянет дьявол. Она тенью убегала из дома, стараясь как можно быстрее удалиться от него. Муж ее, по всему, был бесхребетным, скорее этакой разновидностью бабы, бледной, тихой, как рукавица, из которой вытащили руку. В Союзе работал инженером по соцсоревнованию, здесь же поначалу устроился сторожем, но его быстро уволили, и он жил на пособие по безработице. Его, сорокалетнего, даже на работу никуда не направляли, – какой с него толк? Все время занят – все время ностальгировал по своему заводу – важному почтовому ящику, по отдельному кабинету, по хитроумным таблицам начисления прогрессивки…
В одном Шломо Цуце – старшем жизнь била ключом. Видя из нашего окна приближающуюся к дому невестку, он тут же выскакивал, чтоб перехватить ее где-нибудь на лестничной клетке и успеть ей сунуть кулаком под ребра. Настоящая разборка начиналась уже дома: это она, бессовестная, заманила сюда, ишь, подавай ей свободу творчества! – оставила мужа без работы, семью без квартиры, а тут еще свекровь плохо жару переносит. За дверью художницу ели уже оба родителя. Муж, естественно, молчал, не смея перечить героическому папаше, хотя знал, что инициатором отъезда был как раз он, отец, Семен Цуц, взявший по этому случаю имя иудейского царя Шломо.
И знал, между прочим, по какой причине… затевал отъезд.
В очередной свой визит для выхода на связь с радиостанцией РЭКА, он неожиданно расхвастался:
– Ах, Евгения Израйлевна! Какая у меня там жизнь была, какая жизнь… Да если бы не невестка… Ух! Ненавижу этих… мандельштампиков…
– Кого-кого? – не расслышала Женя.
– Учил их и учить буду… Я как видел… художник или там писатель… я их, мерзавцев, идеологических вредителей, пакостников, в самый худой барак отправлял, к уркам…
Женя онемела. Идеи, мысли – чепуха: реальны лишь слова, их порядок. Медленно до нее что-то стало доходить. Вдруг тошнотворно запахло химикалиями…
А Шломо Цуц, расхваставшись безудержно, сообщил ей как «старой, выдержанной большевичке» свою тайну: после войны, натешившись всласть в заградительных отрядах, он получил вакансию начальника лагеря…
И тут с Женей случилось нечто уникальное, единственное в своем роде и, главное, впервые в жизни: ей вдруг показалось, что она проглотила маленькое зернышко и от волшебного зернышка вдруг стала расти и расти. И выросла до облаков. И крикнула:
– Вон! Чтобы духу Вашего, милостивый государь…
– Я тебе ничего не говорил, старая ведьма! Я придумал все, чтобы проверить, какая ты большевичка… Такая же мразь, как моя невестка… Я проверял тебя, поняла, проверял!..
Они говорили одновременно, вернее одновременно кричали, и мать заметила в его глазах страх и инстинктивно поняла, что Шломо Цуц действительно был инициатором отъезда из СССР, потому что боялся, что раскроются архивы КГБ-МВД и тогда его жертвы узнают, как и кого он «учил»…
После инцидента Цуц у нас не появлялся. А Женя сделалась и вовсе тихой, безмолвной, казалось, она всего лишь одежда, существующая сама по себе. Смятая, брошенная на кресло. Лицо словно растворилось в комнате, ушло в никуда. Я смотрел на нее, и мне казалось, что в нашей комнате внезапно помутился воздух, достиг меня и прошел ознобом тревоги.
По вечерам, когда я приходил со случайной работы, она была взбудоражена, склонна препираться со мной, багровела лицом и распалялась до исступления. Потом замолкала, садилась на кровать, выставляя босые уродливые ноги с длинными ногтями, и начинала зевать, до болезненной судороги неба. В иные дни она была спокойна, сосредоточена и с головой уходила в старые газеты, плутая в непролазных лабиринтах непонятных ей слов.
Помню, проснувшись среди ночи, я видел как она стала во весь рост на кровати и стучала по ней палкой, точно вымещала свою ярость…
С каждым днем она становилась все меньше и меньше, увядала на глазах. Сидела на корточках на полу и разговаривала сама с собой, вся уходила в какую-то страшную путаную внутреннюю свою жизнь. Она перестала завтракать, обедать и вообще пряталась по углам, залезала в шкаф, однажды залезла под кровать и целый день спала там. Вообще, как-то стала исчезать из вида. Я мог часами бродить по комнате и нигде не встретить ее, постепенно привыкнув к ее присутствию где-нибудь рядом. И действительно, она вдруг точно выныривала из-под кресла или из какого-нибудь темного угла.
Потом она стала исчезать на много дней. В последний раз я видел, как она засовывала в наволочку мои рукописи, которые лежали на письменном столе, и что-то бормотала, точно забывалась долгим черным сном. Я затаил дыхание, прислушивался и вдруг встречался глазами с ее мутной блаженной улыбкой, вернее, с игрой ее темных уст…
А потом она и вовсе исчезла. Была какая-то мизерность телесной оболочки, какие-то бессмысленные чудачества. Потом и это ушло. Осталось только бормотание ветра, какие-то странные шорохи за дверью, всхлипы и что-то новое и страшное, что-то чужое поселилась во мне, потрясало, повергало в ужас. Иногда, я чувствовал себя трупом, и хотелось отложить жизнь. Я испытывал чувство полнейшей безнадежности – времени, личной судьбы, грядущего. А потом приспосабливался, накапливал новые жалкие силы и жил дальше: довольно и того, что Женя где-то рядом.