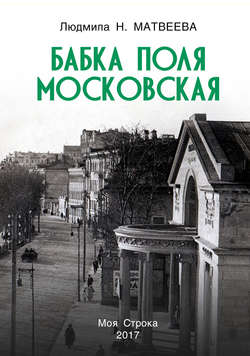Читать книгу Бабка Поля Московская - Людмила Матвеева - Страница 11
Бабка Поля Московская
Часть 11. Неудачная дочь
ОглавлениеВсе-таки было в Верочке нечто неземное. Не от мира сего. И дело не только в красоте. Некоторые бабы утверждали на полном серьезе, что она – ведьма.
Все существа мужского пола, от стариков до подростков, не могли обойти ее вниманием. А женщины из ее окружения, да и просто впервые столкнувшиеся с ней в присутствии «своих» мужчин, если не так далеки были от Веры по возрасту, наблюдая за реакцией своих спутников, становились какими-то нервными и злыми.
А те из теток, что годились в матери и Вере, и ее ровесникам-пацанам, скептически поджимали губы и начинали вдруг говорить гадости «о таких, как Эта», не называя ее дальше ни по имени, никак.
То есть в присутствии Веры сами становились ведьмами.
Только очень пожилые и культурные женщины, которых в любом их возрасте можно было именовать «дамами», а также добрые и простые старухи, особенно деревенские, Верочку обожали.
К стану обожателей примыкало также несколько Верочкиных ровесниц, которые, как говорится, «не вышли лицом», а то и попросту были дурнушками. Эти некрасивые приятельницы любили Верочку бескорыстно и самозабвенно, беспрекословно подчинялись ее воле. Одна из дворовых соседских девчонок, длинная и сухая, как жердь, «зато умная», потому что всегда носила очки, Юлька-ЮлИща, и другая, толстая, как шар, кудрявая, как овца, Нинон, составляли по своей доброй воле постоянную Верочкину «свиту» в Москве. Высокомерная Капа, неразлучная подруга, прозвала их «Пат и Паташонок». Эти девушки Вере не завидовали; они попросту купались в лучах ее невольного и легкого, но оттого не менее могучего торжества над мужиками.
И вот теперь в деревне, как только Верочка оправилась от болезни, ее тоже стали постоянно опекать сразу несколько девушек: двоюродные сёстры Шура и Маруся, старше Веры на два года и на год, обе замужние и беременные – Мария так почти на сносях. И еще одна Шура – Филина, по прозвищу «ФэДэ» (от «Феликс Эдмундович Дзержинский» – фотоаппарат, который делали макаренковские беспризорники, а Шурочкин погибший в войну отец был у них когда-то в коммуне фельдшером).
Шура Филина – Верина одногодка и бывшая одноклассница Маруси – успела выучиться в Черни на медсестру – в память о своем отце выполнила его «наказ», но в городе не осталась, а вернулась работать в Лужны и была, по существу, единственным «медработником» на всю немалую по территории округу.
Деревня Лужны, всегда, и правда, в лугах и в глубоких непролазных лужах на дорогах из сизого топкого чернозема, была «центральной усадьбой» колхоза, носившего историческое имя «Красный Бугорок» – далеко не такое смешное, и не придуманное, как казалось, «красными»: на этом самом бугру возле страшного Красного леса пролито было в братоубийственную Гражданскую достаточно крови.
В Лужнах устоял разоренный еще в годы первых пятилеток и недорушенный немцами пятиглавый собор со старинным погостом, отделенным со временем от стены колокольни талыми водами, образовавшими овраг. Разбитая церковь из красного кирпича на своем высоком холме над рекой все еще видна была за десять километров окрест на подступах к деревне. А под церковной горой на реке Роске, на запруде, не было больше старой водяной мельницы, ее сожгли, уходя, немцы. Жернов огромной каменной «баранкой» раскололся почти ровно на два полукольца, одно упало в воду, светлея по ночам со дна, другое улеглось на самый край берега.
Теперь на плоский этот и всегда как будто теплый белокаменный полукруг напротив прежнего «мельничного места», как на сцену, забирались по вечерам на посиделки у воды, неподалеку от погорелого дома бабы Саши, эти четверо подруг.
Приходили и другие деревенские девчата. Запевалы начинали петь, звонко, по-настоящему, широко и красиво, как сама природа русская, затем вступали хором и остальные, а речка отражала и несла далеко-далеко по воде юное чистое разноголосье. Хотелось плакать тем, кто слышал это пение.
На девичьи голоса, как дикие селезни на манок, сбегались все парни-подростки из немногочисленного местного «сопливого молодняка», а главным и старшим у них был семнадцатилетний гармонист.
Гармонь означала веселье и озорство. Усталости или грусти как не бывало, девки начинали «дробить» по утоптанному глинисто-песчаному берегу голыми пятками под частушки, с привизгиванием, а мальчишки вприсядку и со свистом «лётали» вокруг них.
Гармонист играл виртуозно, честно выкладываясь весь до конца, сам и приплясывая, и припевая. Звали его Коля Белый – это был очень светлый блондин, в московских дворах такие получали обычно кличку «Седой», он и сам был пригож, и фамилия у него была красивая – Генералов.
Этого звонкоголосого развеселого Колю, с нежным ангельским лицом и синими лучистыми глазами, любили все девки, и, конечно же, одинокие «от войны» молодые бабы.
Московская Верочка всегда привечала Николая, говорила, что имя у него родное, как у брата. Гармонист Коля относился к ней тоже по-особому, и часто играл напоследок только ей одной.
Тогда подруги отходили от них, но недалеко – просто прятались, приседая, за толстым мельничным камнем, и подслушивали. А когда умолкала вдруг гармонь, ждали, замирая, что же эти двое там будут дальше делать.
Но все кончалось обычно – Вера предлагала замолкшему гармонисту закурить и курила с ним сама, что повергало всех притаившихся в ужас.
Однако никто ни разу не проболтался тетке Саше о том, что девчонка курит по-взрослому. Та бы не поняла и отстегала бы веревкой, несмотря на болезненную слабость «москвички».
Часто Вера рассказывала Николаю о довоенной своей Москве, о Красной Площади с Царь-Пушкой и Царь-Колоколом, о Чистых Прудах, катке, кинотеатре «Колизей» и о подруге Капе.
А потом Вера длинно зевала и нарочито громко говорила в темноту: «Девки, я домой иду! Вылезайте! До завтра, Николай, и спасибо тебе большое за музыку.»
Однажды прятавшаяся за камнем в три погибели Маруська начала рожать. Перепугала всех до смерти, насилу дотащили ее до постели, и вот на соломе, покрытой рогожей, она родила первенца, а Шура ФэДэ приняла у нее этого, тоже первого в своей жизни младенца, – толстую девочку Галю.
При тусклом свете коптящей масляной лампы все домашние сгрудились над роженицей и ребенком и радостно улыбались, и рассматривали деловито приплод, как если бы корова отелилась удачным теленочком. Все были довольны, бледная Мария закрыла от усталости глаза, тетя Саша взяла на руки свою, тоже первую, внучку и тихо сказала: «Первуша ты моя, звездочка!»
* * *
На крестинах Коля играл как заводной.
Крестной матерью сделали, конечно же, Шурочку ФэДэ, а крестным – тоже Николая, с год тому вернувшегося домой из госпиталей и комиссованного подчистую из-за бесчисленных незаживающих ран – мужа Марусиной старшей сестры Шуры, которой и самой предстояло вскоре родить ребенка.
Гармонист Коля стал новорожденной Галочке родным дядей, потому что мужем Маруси и отцом девочки был его старший брат – вернувшийся с войны до срока с развороченной осколком гранаты челюстью и со скрюченной в дугу после тяжелой контузии рукой, несчастный и оттого сильно пьющий – Мишка Генералов.
Мишка был черен, как цыган (говорили, что мать его и впрямь родила не от белесого мужа!), крут нравом и зол. В деревне его не любили и звали теперь за глаза тоже зло: «Косорукий» (и вот что характерно – «Генеральшей», по фамилии мужа, Марусю никто в деревне не назовет ни разу, а будет она век свой «Косорукого баба»).
Когда гости предложили гармонисту отдохнуть, выпить и закусить, тот подсел сразу к Вере и тихо шепнул: «Тоже хочу ребеночка. От тебя!»
Вера фыркнула, но затем пристально и как-то глубоко, с интересом, посмотрела на Николая.
Дальше – больше. На другой же день Коля Белый подошел к бабе Саше, как бы и по-родственному и попросил разрешения прийти в гости в ближайшее же воскресенье – вместе со своим старшим одноруким братом Мишкой – зятем молодой бабки. Получив согласие, пришел, как и обещал, с братом, но – при гармони, да еще и вместе с другом Федькой. Мишка и Федька были в повязанных через плечо полотенцах. Пришли они сватать Веру.
Через год Коле надо было уходить в армию, и он, не зная отчего, но точно чувствуя, что вот-вот начнут возвращаться с войны все демобилизованные, уже заранее опасался их будущих притязаний на Верочку и боялся с этим сватовством опоздать.
А весна Победы уже перешла незаметно и скоро в жаркое лето, и, вот правда истинная, все радостнее становилось жить, просто жить – не бояться смерти и дышать чистым родным воздухом, ходить своими ногами по своей земле, пить утром парное, но сильно разбавленное теплой водой и пованивающее заскорузлой марлевой «цедилкой» молоко, и слышать в себе и вокруг себя музыку молодой деревенской любви.
Откатывались и прочь отлетали воспоминания о прошлой нерадостной жизни дома, в Москве, где было так больно; немного ныла Верина душа по брату, по Капке, по чердаку, но никогда – по матери.
Или слишком переборщила Пелагея со своим выскочившим в сердцах на четырнадцатилетнего тогда ребенка материнским проклятием непутевой дочери, или же сглазил кто Веру, но не могла она не думать о матери без обиды, которая со временем переросла постепенно в упорное презрение на лице и глухое молчание при любом упоминании о Пелагее.
И не было еще «ни письма, ни весточки» с обеих сторон.
Вернее, было у Саньки одно недавно полученное в расклеенном конверте письмо из Москвы от сестры Польки, долго оно шло, да дошло, но тетка Саша ни читать, ни писать не умела. По одной ей понятным причинам не отдавала она это письмо Вере.
Тетя Саша вдруг, посмотрев сейчас на молодых сватов в полотенцах с петухами, прошедших так аж через всю деревню, а особенно на юного Кольку-жениха, круглого сироту, без отца и без матери, сморщила лицо и заплакала, в первую очередь, от растерянности, что не она ведь мать Веры, что ж ее – то, тетку, спрашивать, можно ли девку сватать?
Потом вдруг вспомнила, как сосватали ее саму, шестнадцатилетнюю, за кузнеца Ивана, царствие ему небесное, вперед некрасивой старшей сестры.
Полька ведь тогда от позора из деревни уехала.
А сама Полька как-то все же не по-людски с девчонкой обиходится, сбросила из дому с глаз долой, и все.
А Верочка, как жеребенок малый на тонких ножках, красавица наша писаная, ведь не виновата она ни в чем в своей маленькой жизни! Нешто можно убивать дитя свое родное такими словами, как Полька ей в письме написала про Веру, а Шурка ФэДэ прочла ей, бабе неграмотной деревенской, вслух давеча на огороде, и сама даже не поняла, почему испугалась! Разве же могла баба Саша отдать девчонке такое материнское письмо? Да ни в жизнь.
Она так и носила письмо это гадкое в кармане под фартуком несколько недель, а потом молча кинула бумажку с конвертом в печь. А легче не стало; и что же теперь делать?
Господи Иисусе, спаси и сохрани, и избави нас, грешных, от лукавого!
А если вдруг правду Полька ей написала, что «измучилась она с дочерью, совсем, и до такого края дошла, что хоть волком вой», и надо бы и впрямь поскорее мужа найти «для непутной»?
Выходило из письма вот что. Вера там в Москве у себя любить стала только девок, из своих, из одуревших от восторга перед нею, причем, любить так открыто, так похабно, то есть даже целоваться с ними в губы, а главное, не по углам, а прям на людях; да уж лучше бы она проблядью последней с мужиками сделалась, чем такое вытворять!
У Польки сосватать Веру в Москве не получилось.
Ну, а может, и впрямь, выдать девку здесь, в деревне, потихоньку замуж, пора ведь уже, самое время! Потом пусть сразу родит – и образумится, да еще их надо тайно в церкви обвенчать, пускай обойдут вкруг аналоя, оно, может, дурь-то напускная вдали от московских припадочных шалав и улетучится! Сейчас ведь вроде можно даже и не тайно в церкви-то повенчаться, облегчение вышло по вере – по Вере…
«Коль, да не сходи ты с ума» – услышала вдруг сквозь свои мысли Верин голос тетя Саша. И что говорит-то, говорит-то она ему что, батюшки!!
«Никогда я тебя не то, что не полюблю, а даже просто уважать не смогу по-человечески, если ты будешь ко мне с женитьбой этой своей приставать! Понял?» – серьезно, громко и очень властно произнесла Вера.
Как припечатала. Как пригвоздила.
И тогда, постояв немного на негнущихся ногах, оба брата и с ними «дружка», все еще в полотенце, молча вышли за порог. И старший брат, Косорукий Мишка, муж Маруси, яростно содравший уже с плеча сватовское тряпье, сходя с крыльца, смачно сплюнул сзади себя прямо на тещин порог и проорал почти на всю деревню:
«Не про тебя, видать, братуха, московские пиздорванки-то!»
И тут же слетел со ступенек от обрушившейся на него гармони Кольки. Оба брата покатились, сцепившись, в пыли, а рваная гармонь жалобно пискнула верхами, потом пыхнула басами и развалилась на две части.
«Свят – свят – свят!» – закрестилась мелко баба Саша и вдруг ясно поняла только одно, прямо как в чистом колодце на дне увидала:
Мужики, – все, все, что Веру полюбят: и что муж, что брат, что сын, что внук, – все будут несчастны через эту любовь свою СМЕРТЕЛЬНО.