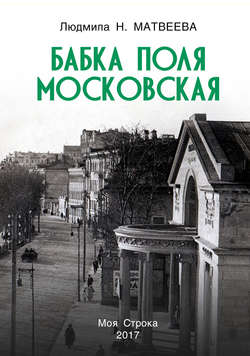Читать книгу Бабка Поля Московская - Людмила Матвеева - Страница 6
Бабка Поля Московская
Часть 6. Кирбитиха и соседи
ОглавлениеВерочка подрастала, и вся она была, как маленькое чудо: хорошенькая, живая, смышленая.
– «Вся в отца, Кирбитиха!» – или – «Ну прям андел небесный!» – говорила ее молодая бабка, мать Степана.
С черными огромными цыганскими глазами, непоседа, Вера любила все красивое, то есть пестрое и блестящее, и расхаживала свободно по всем соседским комнатам, а их было много.
Соседи ее очень любили и как могли, баловали. А она не задерживалась подолгу ни у кого, заметно тянулась только к отцу и «не жаловала» некрасивую, крикливую и неласковую к ней мать. (В семилетнем возрасте Вера взяла вдруг со стола материнскую фотографию и «выколола глазки» Пелагее, тайно и тихо, проткнув иголкой только зрачки).
Соседка Ольга Карповна, старая актриса, бывшая кордебалетная танцовщица московской оперетки, позволяла трехгодовалой Вере красоваться перед огромным, во всю стену небольшой комнаты балетным своим зеркалом со станком.
Приходя к ней в гости, Вера сначала подходила к низкому трюмо при пышной кружевной кровати напротив этой чудовищной зеркальной стены, брала шкатулку из крымских ракушек, вынимала оттуда длинные белые бусы, надевала их себе на шею, тщательно увязывая нити по нескольку раз и, пытаясь все же на них не наступить, такие они были длинные, переходила смотреться к «большому зеркалу».
Там Вера задирала лицо кверху и высыпала на него, стараясь попасть на нос, всю пудру из старой толстенькой легкой коробочки с лебедем на синих волнах среди больших зеленых листьев.
Потом брала золотой футляр с остатками губной помады и красила губы от уха до уха.
Тут входила Ольга Карповна.
Вера замирала от ожидания, что сейчас произойдет, а старуха вдруг начинала громко восхищаться достигнутым «эффектом».
…И коробочка из-под пудры, и футляр от бывшей помады, и давно опустевший флакон духов с легчайшей тенью неземного аромата «Париж», и даже длиннющая нитка фальшивого жемчуга, – все это несметное богатство досталось Верочке еще при жизни старенькой Ольги Карповны и почему-то вызвало недовольное ворчание у матери, у Пелагеи.
Вера даже предложила однажды матери надеть на единственное у той праздничное, «парадно-выходное» и «штапельно-ситцевое» (потому что скомбинированное из двух вконец обветшавших старых) как бы новое платье эту теплую, сливочного цвета, нитку бус – «на выход».
Но мать взглянула строго и сказала, что ей, в отличие от дочери, ничего от старых «поскакушек» не надо!
Вера тогда радостно вздохнула и «прибрала» драгоценную память в пустую коробку из-под лебединой пудры.
* * *
У другой старухи-соседки, Анны Израилевны, консерваторской преподавательницы музыки, всю огромную комнату с балконом во двор занимал беккеровский рояль с вечно поднятой крышкой, да плетеное кресло-качалка с сотней подушечек-думочек.
Вера любила качаться в этом кресле, внимательно прислушиваясь к треньканью многочисленных учеников.
– «Будет музыкантшей, да!» – прочила старая еврейская бабушка, мать Анны Израилевны, имя которой – Суламифь – никто не мог произнести правильно, а отчество забыто было даже ее детьми.
Бабулька эта жизнь доживала, лежа на диване с вечными газетами, разбросанными по ее сухонькому тельцу. Газеты она прочитывала и складывала потом под себя.
Абсолютно лысая голова этой старухи торчала из-под первой газетной страницы, которую она держала так близко к глазам в очках-окулярах, что казалось, она и лицо прикрыла шелестящей бумагой.
Вера подходила к диванному изголовью, гладила старушку по лысому черепу и ждала чуда.
Чудо было вообще-то двойное: во-первых, глаза старухи – вблизи, под мощными линзами, они внезапно становились огромными как синие сливы, – и чудо номер два: из-под подушки старуха вынимала рыжий парик и как-то лихо нахлобучивала его себе на голову!
Это волшебное превращение приводило Веру в дикий восторг.
Она тихонько дотрагивалась до вдруг покрывшейся волосами макушки старухи и неожиданно быстро «срывала волосики».
При этом обе делали вид, что ничего не произошло.
Бабулька то ли дремала, то ли просто наблюдала, что же будет дальше.
А дальше Вера нахлобучивала «чужие волосики» на себя, а потом доставала из карманчика своего платья огрызок украденной у Ольги Карповны губной помады и с упоением «красила» лысую голову бабушки.
Тут встревала возмущенная Анна Израилевна:
– «Мамахэн, что Вы над собой позволяете, вся Вы опять в этом красном!!! Перед учениками неудобно!»
Бабулька лениво отвечала:
– «Да, сволочь, шлимазеле, закрой рот и не мешай ребенку!» – и манила Верочку, уже ползущую, не снимая паричка, на диван, прилечь рядом с ней на цветастую большую подушку, потом тихо поглаживала девочку по худенькой спинке своей мягкой морщинистой ручкой и бормотала ей что-то непонятное, но ласковое.
Обе мирно засыпали под бравурные гаммы.
* * *
Бабушка-мадам Брандт тоже «имела теплое чувство» к Верочке и частенько протягивала ей «угощение» – мятно пахнущий кусочек только что испеченного печенья-пирожного «кухен», или маленькую «бон-бон» – тоже мятную или анисовую леденцовую конфетку в красивом «фантике».
Бабушка Брандт научила Веру здороваться по утрам, говоря «гутен морген», а также благодарить немецким «данке шён» и делать при этом книксен.
(Много позже, уже под конец войны, когда семнадцатилетняя Вера помогала нянечкам в госпитале, расположенном в бывшей школе прямо напротив Вериного дома в переулке Стопани на Чистых Прудах, выносить «утки» и стирать бинты, ее тоже угощали раненые, которые приходили в восторг от этого «данке» и книксена, потому что те, кто успел повоевать в Германии, почему-то очень ценили все немецкое, и любое воспоминание о виденном и слышанном там было им приятно, несмотря на то, что их тогда в любой момент могли там убить.
Потом похожий эпизод попал в один советский фильм о войне, и совсем уже взрослая Вера не могла смотреть эти кадры без слез.)
Соседка тетя Нина, с огромным, всегда как будто «бегемотовым», твердым животом, часто охала и стонала при виде скользящей, как по льду, танцующей на кафельном кухонном полу маленькой Верочки:
– «Не будет тебе, Полька, с этой девкой покоя, ох, не будет!».
Вера ее не любила.
Зато муж Нины, дядя Паша-Пантелеймон, очень нравился Верочке, он угощал её селедкой со сладким чаем, и, пьяненький, прослезившись, говорил жене:
– «А ты, дура, сначала своих детей заведи, а потом и каркай!».
Тетя Нина, родившая всё мертвых мальчиков (у нее что-то не так было с кровью, врачи говорили, что если бы были девочки, то они бы выживали!), заливалась слезами и уходила к себе.
* * *
Вера и её младший брат-погодок Николай так и торчали на кухне.
Мать вечно оставляла детей полуголодными («Наварганит ведро лапши и уйдет» – ворчала соседка Настя. – «Днем белым на работе, а вечером за мужиком своим Степкой шпионит, по всем Чистым Прудам!»).
Брат Коля был плаксив, как соседка Нина, которая днем следила за Полькиными детьми.
– «Сидят дома весь день – и плачут, большая да малый, – шутил дядя Паша. – Одна Верочка молодца, никогда не хлюпает!»
Первая «нянька» детей – малый их дядька Семен – вернулся к себе «на родину» в Тамбовскую деревню, как только Вере исполнилось шесть, а Коле пять лет.
Иначе не прокормиться было в Москве.
Папаша Степан совсем от рук отбился, почти перестал давать деньги «на ребят».
Поля очень жалела послушного и смирного подростка-деверя, но денег не хватало ни на что.
Семен уехал в новом, недавно «построенном» Полиной на «стиральные» ее деньги пальто с барашковым воротником, в новом почти картузе и с большим, но лёгеньким по весу мешком с «московскими гостинцами» – белыми сухарями, то есть недоеденными и высушенными на батарее кусками белого хлеба.
Он не плакал, только крепко вцепился в плечи Полины, почти одинаковый с ней по росту, спрятал лицо в ее шею и сказал тихо:
– «Никогда брата не прощу!».
Тут заплакала Пелагея.
Простились надолго. Думали, может, и навсегда.
* * *
Наступило время идти в школу.
Веру отдали на год позже, с девяти, вместе с Николаем, и в одну школу, напротив дома, – только учились они в разных группах. (Это потом, в самом разгаре войны, в 1943 году, школы разделили, как уборные, на мужские и женские, пока реформа 1954 года вновь их не объединила).
Было это в сентябре 1936-го года.
А через год обоих детей перевели в другую, вновь построенную, школу.
На месте старой – «онегинской» – церкви, на углу «у Харитонья в переулке», стояло теперь новое четырехэтажное серое здание с огромными светлыми окнами.
Это была школа № 613, будущая «некрасовская».
В школьном дворе Вера с мальчишками играла черепами и костями, оставшимися после разорения древнего церковного погоста.
Потом все кости засыпали огромной кучей угля для отопления школы.
* * *
Заканчивался 37-й год, ничем не знаменательный для семьи Веры.
Только вот в квартире стало плохо. Ночью, хоть и запирались на все замки и цепочки, все время кто-то топал по коридору, а наутро на кухню не выходили ставить чайник (и уже никогда больше никто их не видел, а в воздухе зазвенело новое слово «забрали!») – то дядя Толя-Отто, сын доктора Брандта, футболист, то сам профессор Брандт.
И пианистка Анна Израилевна куда-то насовсем уехала вместе с бабушкой, оставив дома дочь Женю и сына Нику, тоже музыканта, который стал вдруг на скрипке своей «пилить и день, и ночь без продыху», как говорила Настя, а вскоре зимой открыл балконную дверь, выбив все стекла, шагнул во двор со второго этажа, и приехала «скорая», и его отвезли в «психическую» больницу.
Сестра его Женя, Евгения Павловна Должанская, преподаватель марксизма-ленинизма в московской консерватории, привезла его однажды вечером домой, сизого лицом, бритого наголо, тихого, в полосатой пижаме, и он стал выходить из своей комнаты с заколоченной фанерой балконной дверью только по ночам, когда квартира затихала.
Он шел в туалет, шел по длинному коридору, никогда не включая света, на ощупь, в темноте.
Если Вера тоже хотела ночью в уборную, она щелкала сначала кнопкой настольного ночника с синей лампой без всякого абажура, чем вызывала громкое ворчание матери, потом, не закрывая двери в комнате, мчалась по едва заметной световой полоске в конец коридора, до выключателя, зажигала тусклую общественную лампочку и только затем поворачивала за угол и включала свет в туалете.
Она стала бояться коридорного тихого ночного Нику как привидения, как чего-то потустороннего.
* * *
Забрали однажды ночью и Сипугашника, мужа Насти Богатыревой.
И он тоже больше не вернулся домой.
Потому что был точно расстрелян.
За убийства.
Этот тихий и щуплый каменщик несколько лет, возвращаясь ночами с работы «на объекте» вблизи москворецкой набережной, у развалин храма Христа-Спасителя, резал глотки редким встречным ночным прохожим.
Иногда за рубль мелочью, найденный в кармане убитого.
Сволакивал тела на стройплощадку, засыпал камнями, шел домой.
И дома мирно целовал спящих дочек, Лёлю и Тамару, в каморке при кухне.
Он спокойно признался во всем и показал, где именно заваливал зарезанных.
Безобидный был такой, все его очень жалели; жена Настя убивалась по нём «по гроб жизни», так и не вышла больше замуж.