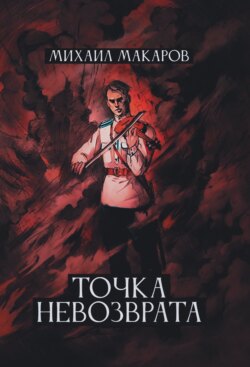Читать книгу Точка Невозврата - Михаил Макаров - Страница 24
Часть 1. Орловско-Кромская кульминация
23
ОглавлениеВоспалённый мозг не желал успокаиваться. Диван достался жёсткий и короткий, вдобавок каждое движение рождало ноющий скрип. Отчаявшись заснуть, Кутепов сел, прижался лопатками к холодной кожаной спинке, нашарил на столике папиросы. Размашисто чиркнул спичкой. Неестественно белая вспышка выхватила из тьмы угол кабинета, в котором обосновался генерал. Порывистая затяжка раздула зловеще-багровый огонёк на конце папиросной гильзы.
«Когда куришь в темноте, крепость табака не чувствуется», – подумал Кутепов и удивился себе.
То была первая мысль, не связанная с войной, за долгое время. Пустячная, но самостоятельная…
Генерал обладал стальными нервами, гордился своей выносливостью, позволявшей справляться с нагрузками, неподъёмными для большинства смертных. Названные качества выдвинули его в передовую шеренгу бойцов с самым страшным злом, когда-либо выпадавшим на долю русского народа, – окаянным комиссародержавием.
Ранее Кутепов не сомневался, что тяжкая ноша ему по плечу. В последнюю неделю уверенность пошатнулась. Под ложечкой появилось сосущее томление, будто процессы, происходящие на фронте, стали неподвластны его воле.
Настроение не поднял даже успех прошедшего дня. Ворвавшиеся на станцию Стишь корниловцы сумели не просто удержаться на данном рубеже, отбив все атаки превосходящего противника, а обратить его в бегство до самого Орла. На левом фланге при содействии дроздовцев третий офицерский генерала Маркова полк вернул город Кромы.
«Гм, офицерский, – Кутепов машинальным жестом огладил квадратную бороду. – Вот так и рождаются легенды».
Подполковник Лауриц, недавно перебежавший от красных, в числе прочего, сообщил – противник убеждён, что противостоящие ему «цветные» части состоят сплошь из офицеров, люто ненавидящих советскую власть. В действительности названия полков – дань традиции, память о погибших вождях. Третий Марковский наскоро сколочен из пленных красноармейцев. Офицеры в нём также имеются – мобилизованные в Курской губернии, два года уклонявшиеся от борьбы, надёжность их сомнительна.
«Тем не менее Кромы наши, и вновь мы стучимся в дверь Орла», – генерал ввинтил окурок в пепельницу.
Его замысел о нанесении расходящихся ударов приносил результаты. Теперь прикусят языки злопыхатели, называвшие этот ход тактически безграмотным. Шептуны за деревьями не увидели леса. Дробление сил корпуса позволило создать две самостоятельные группировки – немногочисленные, но маневренные. Обозначилась тенденция к тому, чтобы отнять у красных инициативу и перестать, наконец, идти по их указке.
Удача далась дорогой ценой, особенно корниловцам, безвозвратно потерявшим четыреста бойцов. Остроту ситуации временно сгладило прибытие пополнения.
«Пополнение… К тришкину кафтану наспех прихватили очередную заплатку», – Кутепов снова потянулся за папиросами.
Покрытие урона приобрело устойчивый характер импровизации. Вот и последнее подкрепление удалось влить лишь благодаря ухищрениям полковника Скоблина, набравшего в ближнем тылу новых ударников на смену выбывающим в каждодневных схватках. Аналогично выкручивались дроздовцы, марковцы, алексеевцы, самурцы.
Штаб армии не наладил механизма правильной мобилизации, равно как и системы интендантского снабжения. А Ставка главкома, изредка подбрасывавшая крохи, ныне огорошила – обходитесь своими силами, резервов в тылу нет. Более того, сверху прокатили пробный шар: «Готовьтесь, Александр Павлович, помочь соседям справа».
Конница Шкуро и Мамантова, побитая под Воронежем, откатывалась к узловой станции Касторная. Растерявшимся казакам требовалось опереться на плечо стойкой пехоты.
Как отреагировать? Встать в позу, заявить о недопустимости дальнейшего ослабления Орловско-Кромского фронта в разгар решающего сражения? Пригрозить отставкой? Хорошо, если манипуляция возымеет действие и главком изыщет возможность помочь казачьим генералам, не трогая первого армейского корпуса. А если отставка будет принята? Что тогда? Угасание в резерве высших чинов? Всеобщее забвение? И это в тот момент, когда он в трёхстах пятидесяти верстах от Москвы, когда столько сил положено на алтарь…
Мысли потекли в другом направлении, поток их огибал острые углы.
Митинговать недопустимо. Краеугольный камень регулярной армии – дисциплина. Имей Деникин другие варианты, он не стал бы рвать войска, бьющиеся на самом ответственном участке.
Объективности ради следовало признать, что в плане Ставки для него, Кутепова, усматривались личные резоны. Не удастся остановить Будённого у Касторной, десятитысячная конная орда хлынет в прореху, охватит провисший фланг первого корпуса, загонит в мешок.
Вывод – помощи соседям не избежать, посему надо просчитать оптимальный вариант содействия. Может, грядущая реорганизация положительно скажется на манёвре?
Первая пехотная дивизия генерала Тимановского, разросшаяся до девяти полков, сделалась излишне громоздкой в управлении. Фронт её растянулся на двести вёрст с изрядным гаком.
После появления у корниловцев и марковцев третьих полков они de facto[96] стали именными дивизиями, решавшими самостоятельные задачи. Для их узаконения в этом качестве сложные организационные мероприятия не нужны, достаточно бумаги за подписью командарма.
Алексеевцев придётся усилить Самурским полком, изъяв его из третьей пехотной дивизии, официально переименовывающейся в Дроздовскую, во главе которой останется Владимир Константинович Витковский.
Переустройству сопутствовал щекотливый вопрос – как, не допустив обид, распорядиться достойнейшим генералом Тимановским. Кутепов предложил «Железному Степанычу» принять наиболее сильную Корниловскую дивизию (каждый из полков четырёхбатальонного состава и большой по нынешним меркам численности).
Тимановский отказался, пояснив, что не хочет расставаться с марковцами. Вместе с тем, оперативная обстановка не позволяла в обозримой перспективе собрать воедино Марковские части. Два полка дрались под Ельцом, третий – на противоположном фланге корпуса у Кром. Заслуженный генерал рисковал оказаться не у дел.
Ходатайство Тимановского получить отряд алексеевцев, комкор скрепя сердце отклонил. Данной группой с сентября успешно руководил генерал Третьяков. Он же планировался на должность начальника Партизанской генерала Алексеева пехотной дивизии.
Кутепов отметил двоякую позицию Тимановского. Получается, привязанность к родным чернопогонникам была предлогом нежелания возглавить корниловцев. Таким приёмом «Железный Степаныч» ушёл от конфликта с честолюбивым Скоблиным, не мыслящим себя ни в какой ипостаси, кроме предводителя лучшего соединения Доброволии.
Преторианские амбиции двадцатипятилетнего вундеркинда беспокоили Кутепова. Заполучив дивизию, он обоснованно возжелает генеральства. Обретя погоны с зигзагами, успокоится на недолгое время, чтобы вскорости заявить о новых претензиях. Каких?
У дроздовцев – аналогичное явление. Будто на дрожжах входил там в силу молодой вождь Туркул, затмевающий славой своего начдива. Умница Витковский, видя поползновение на власть, в каждом донесении, отмечая заслуги храбреца, неизменно вкрапливал детали, бросающие тень на репутацию полковника.
В последней депеше начдив-3 уведомил командующего корпусом о сделанном им замечании Туркулу. Поводом для внушения (разумеется, устного и приватного) послужило то, что полковник с приближёнными офицерами после хорошего обеда излишне поусердствовал над свежей партией пленных.
Усмирение русского бунта невозможно без твёрдости. Идейные враги – комиссары, жиды, бывшие офицеры старой службы, сознательно пошедшие на службу к красногадам, должны истребляться поголовно.
Но простому народу, массово одураченному благодаря своей дремучести, надлежит являть милосердие. Хотя бы из практических соображений – война кончится не завтра, для её ведения потребны солдаты.
Мстительность Туркула объяснялась трагедией его семьи.
«Но на дворе не февраль восемнадцатого, мы не в Ледяном походе! Без преувеличения весь цивилизованный мир затаив дыхание взирает за героической поступью белых страстотерпцев», – Кутепов не заметил, как вступил в мысленную дискуссию, причём в пафосном тоне.
Телеграфируя Витковскому, комкор поддержал его принципиальную позицию по недопущению расправ над пленными красноармейцами.
«Ретивую молодёжь обуздаем, главное, не потворствовать её вольностям и не самоустраняться от проблем, как это повелось у командующего армией», – размышления взбудоражили Кутепова, о сне он позабыл окончательно.
Всё больше головной боли ему доставляло поведение генерала Май-Маевского. В июне после занятия Харькова тот, что называется, сорвался с нареза. Прибыв в город, едва очищенный от большевиков, начал бурно праздновать победу. Не выходя из вагон-салона, устроил грандиозную пьянку, в которую втянул штаб третьей пехотной дивизии.
Деликатный Витковский, предвидя пагубные последствия преждевременного праздника, просил тогда Кутепова убедить командарма отложить приезд. Остановить азартного Мая не удалось. Обосновавшись в Харькове, он ввергся в пучину бесконечных обедов, ужинов и банкетов, сопровождавшихся обильными возлияниями. Губернское общество чуть ли не ежедневно чествовало прославленного полководца, который под влиянием своих страстей терял волю.
Слабости Май-Маевского стали затмевать его достоинства. Он пропивал ум, здоровье и незаурядные способности. Его попойки и дебоши были предметом сплетен и анекдотов, умело использовавшихся врагами для дискредитации добровольчества.
Стоило ли говорить, какой отвратный пример подавал генерал подчинённым. Лозунг «Хоть день, да мой» превратился в девиз белого Юга. Офицерство кутило в кабаках, кутежи требовали наличности, добыть которую при скромном жаловании можно было лишь неправедным путём: спекуляцией, воровством казённого имущества, а то и грабежами.
Будучи человеком, больным алкоголизмом, Май-Маевский не мог критически оценивать своего поведения. Не имел намерений подать в отставку, не пытался излечиться от недуга. Наблюдая драму непосредственного начальника, Кутепов недоумевал: «На что тот надеется? На чудо, на спасительное русское «авось»?»
Крайне удивляла позиция Деникина, закрывавшего глаза на непотребства командующего Добровольческой армией. По какой причине главком не отстранит Мая от командования, не заменит его другим военачальником? Почему не обратится к совести старого солдата, которая у того, без сомнения, наличествует, не пригрозит позорным увольнением в случае, если он не возьмет себя в руки?
Ответ прост – Антона Ивановича устраивает приятный в общении, неконфликтный Май-Маевский. Не напрасно, по слухам, после занятия Москвы Деникин намерен предложить ему пост военного и морского министра в своём правительстве.
Конечно, если доложить в Ставку о художествах Мая, реакция последует. Но не заподозрят ли наверху, что командующий корпусом роет под командармдобра, желая занять его место?
Обосновав уважительность собственного молчания, генерал отмахнулся от стыдной мыслишки, что пьющий начальник ему удобен. А что? Указаний и спросу меньше, сам себе – стратег и славы своей кузнец…
«Брось юродствовать, Сашка, какая к чёрту слава? Как бы вскорости всех собак на тебя не повесили!» – Кутепов заёрзал на неудобном диване, укутал пледом озябшие ноги.
Затронув личность главкома, испытал тихое раздражение. Деникину, похоже, победа над большевизмом казалась решённой задачей. Он расположился со Ставкой вдали от фронтов, в тихом провинциальном Таганроге, руководил войсками путём переписки. Попутно наслаждался поздно обретённым семейным счастьем, пестовал родившуюся в феврале дочурку.
Каждый имеет право на личную жизнь. Военный человек и без того обделён её простыми радостями.
Сам Кутепов тоже всего год, как сочетался первым законным браком. Однако женитьба не изменила его облика. Делая предложение, генерал честно предупредил невесту, дочь коллежского советника Лидию Давыдовну Кют, что ради спасения России он в состоянии пожертвовать даже семьей.
«Лида, Лидочка, как редки наши встречи, – комкор ощутил тугой ком в горле. – Спасибо тебе, Лебёдушка, за то, что вернула мне веру в свои силы».
После тяжёлого ранения, полученного 27 июля 1915 года в бою при деревне Петрилово Владовского уезда Ломжинской губернии, он подозревал, что навсегда лишился способности обладать женщиной. Германская ружейная пуля разорвала ему левый пах.
Жил с неподъёмным грузом на душе, маскируя вынужденное отшельничество жертвенным служением Отчизне. Нежные чувства к Лидочке, пробившие заскорузлый панцирь солдатской души, свершили чудо. Последствия страшного увечья сняло как рукой.
Глядя на счастливого молодого отца Деникина, Кутепов загорелся мечтой – у него всенепременно будет сын, который унаследует воинские таланты отца и приумножит его славу.
От немедленного сотворения новой жизни останавливал здравый смысл. Он – окопный генерал, постоянно на позициях, под огнём. Состояния у супругов Кутеповых нет. Кто позаботится о Лиде и младенце, если с главой семейства вдруг произойдёт то, что случается на войне ежеминутно? Поэтому животрепещущий вопрос с наследником отложен до лучших времен.
«А они наступят, – убеждал себя генерал, – мучения и страдания наши не напрасны. Не отдаст Господь Бог Россию на растерзанье супостатам».
Привыкший мыслить рациональными категориями, Кутепов в обоснование своей позиции привёл практический довод: «Это Деникину нужно торопиться, он лыс и сед, ему сорок семь в декабре стукнет, а я на целых десять лет моложе. Какие мои годы!»
Заплутавший сон исподволь скрал комкора в половине четвёртого. Вестовой имел указание разбудить генерала в шесть ноль-ноль.
96
De facto – фактически (лат.)