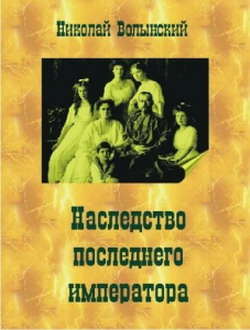Читать книгу Наследство последнего императора - Николай Волынский - Страница 2
КНИГА ПЕРВАЯ
Часть первая
1. СМЕРТЬ ПРЕТЕНДЕНТА
ОглавлениеВ ГОДУ 1992-м мая 29 дня в Санкт-Петербурге, который всего год назад был Ленинградом, в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора собралось человек полтораста народу. Такой толпы в последние 200 лет стены собора еще не видели. Большинство собравшихся мужчин – в одинаковых черных мешковатых костюмах, белые рубашки, черные шелковые галстуки «анаконда» или бантики «кис-кис». Дамы тоже в трауре. Некоторые из них, по правилам Православной церкви, были в платочках. Одна повязала себе голову носовым, и его светлое пятно было видно издалека. Остальные – жены демократов или сами демократки – тогда еще оставались атеистками. Это лет через пять они враз и чуть ли не поголовно превратились в верующих. И как только в столичных и питерских церквах и соборах обычной принадлежностью стала видеокамера «Betacam», «новые православные» зачастили в храмы с подругами, с мужьями – «новыми русскими», впрочем, большей частью как раз не русскими. Платочки оставили и стали показывать по телевизору всей России свои умопомрачительно модные шляпы от Диора, от Кардена и даже от Валентино.
Поначалу они отстаивали службу, держа свечки в правых руках. Потом газеты им подсказали: правая рука дана христианину, дабы он осенял себя крестным знамением. Свечи тут же перекочевали в нужные руки. Осеняться «новые православные» научились удивительно быстро, хотя в основной массе своей не были и не могли быть крещеными, а значит и христианками. И большинство их мужчин в младенчестве прошли совсем другой религиозный обряд – обрезание. Тем не менее, крестились новые православные вполне удовлетворительно – троеперстие ко лбу, к пупку, потом правое плечо, левое. Скоро научились становиться на колени, причем, не только дамы, но и господа тоже. Больше всех в этом деле преуспел, кажется, всемирно известный виолончелист Мстислав Ростропович. Он как входил в церковь, так сразу падал на колени, словно подрубленный, чем неизменно, будто в первый раз, пугал неразлучную свою жену – всемирно известную певицу Галину Вишневскую (лучшее в Европе колоратурное сопрано, между прочим!), бывшую «девчонку-хулиганку из Кронштадта», как она сама себя называла. Очевидно, еще с тех, кронштадтских времен с лица Вишневской и до сих пор не сходит умеренно-хулиганская, презрительно-нагловатая гримаска.
Впрочем, крестные знамения и падения на колени «новых православных» демократов – все это потом, потом!.. Лет через пять– шесть. А тогда…
Тогда в Великокняжеской усыпальнице сильно пахло ладаном, дорогим американским одеколоном, французскими духами и немного – коньяком. В воздухе зависло тихое жужжание разговоров, действовало оно усыпляюще. Но никто не спал и даже не дремал. Толпу оживлял петербургский мэр Собчак. Он порхал от одного гостя к другому. Тяжело уставившись в лоб собеседнику своими сильно косящими глазами, с одним он заводил короткую беседу, с другим шутил и первый смеялся своим остротам; подойдя к третьему, бросал отточенные реплики; с вежливым молчанием внимал четвертому… Он был почему-то в темно-малиновом смокинге и при белой «кис-киске», хотя причина, по которой здесь собралась публика, была не праздничной – даже совсем наоборот.
От мэра ни на шаг не отходила его супруга. Своим траурным платьем из черного итальянского муара, который переливался всеми цветами радуги, она вызывала у дам судорожную зависть. На голове у нее был зеленый, замысловато повязанный тюрбан – ее любимый головной убор, из-за которого самый тогда скандальный тележурналист Невзоров, невежда, циник и страшный ругатель, назвал ее Дамой в тюрбане. Прозвище прижилось.
Глаза у жены мэра были узенькие и распухшие, нос покраснел и тоже распух. Она поминутно прикладывала к нему маленький вышитый платочек и шмыгала в него так часто, что у постороннего человека не оставалось сомнений: ее мучит не простуда, а большое личное горе. Однако горе, а, может, и не горе, приключилось не с ней, а с другими, из-за чего и собралось в соборе так много народу.
Хоронили одного из отпрысков российской императорской фамилии, русского аристократа – князя императорской крови Владимира Кирилловича Романова. Он родился в Финляндии в 1917 году, между Февральской и Октябрьской революциями, и прожил за границей всю жизнь. И вот с тех пор, по прошествии почти семидесяти пяти лет, впервые в городе, который все это время называли колыбелью трех революций и цитаделью социализма, погребали представителя династии, правившей Россией более трех столетий и закончившей свое правление бесславно и позорно. Для того чтобы погребение князя Владимира Кирилловича стало возможным в соборе Петропавловской крепости, памятнике истории культуры, президент Ельцин издал специальный указ, в котором была такая фраза: «Похоронить Великого Князя и Наследника Престола Российского в Семейном Петропавловском соборе в Кругу Его Августейшей Семьи». Между тем, соборная Императорская и Великокняжеская усыпальницы были императорскими, то есть государственными, а вовсе не семейными, не романовскими. Да кто сейчас об этом знал? А если и знал, то не помнил.
И теперь мэр города Питера не скрывал, что очень гордится собой, потому что именно ему удалось надавить на Ельцина и организовать похороны в бывшей столице империи и, главное, в соборе. На указе еще не высохли чернила ельцинской толстенной паркеровской авторучки с золотым пером 96-й пробы, а Собчак уже подрядил некоего американца, звать Таболтом Рубином, свежеиспеченного владельца восьми шикарных магазинов на Невском проспекте. Мэр лично выдал Рубину сертификат с заказом – приобрести в Италии, в знаменитой Карраре, близ Тосканы, плиту лучшего в мире мрамора для княжеского надгробия. На солнечном свете этот изумительный камень кажется живым – словно пульсирует изнутри. Известно, что великий Микеланджело Буонаротти признавал только каррарский мрамор.
За работу город заплатил Рубину хорошо. Собчак не стал скряжничать и утвердил авансовый отчет Рубина, который вывел сумму в долларах, равную годовой прибыли всех его магазинов на Невском вместе взятых.
В этой жизни князю императорской крови Владимиру Кирилловичу Романову решительно не везло.
Все началось с решения его отца – великого князя Кирилла, который на смертном одре объявил сына «единственным и законным Наследником Российского Престола».
Это было роковое решение. Остальные Романовы – дальние и близкие родственники – объявили «указ императора» Кирилла ерундой. В ответ «император» добился аудиенции у Папы римского и предложил, чтобы Папа официально, от имени Римско-католической церкви, признал права его сына на трон Российской империи вполне обоснованными. Надежда у князя была только на Рим. Он прекрасно понимал, о чем и заявил Папе, что Русская Православная Церковь, как в России, так и за рубежом наверняка откажется это сделать. Без церкви же в таком деле, как право на императорскую корону, не бывает. Папа согласился пойти навстречу и заметил, что уже почти две тысячи лет ни один монарх в Западной Европе не может считаться таковым без миропомазания – своего рода экспертизы ОТК. Корону можно получить, в конечном счете, только из рук хранителя ключей Святого Петра, то есть от Папы. Даже Наполеон Бонапарт, у ног которого лежала вся Европа и который в грош не ставил мнение Ватикана, был вынужден съездить на коронацию в Рим, чтобы получить корону непосредственно из рук понтифика. Правда, при этом он не позволил Папе завершить коронование: выхватил корону из его рук и сам возложил ее себе на голову.
Сертификат качества, точнее, папский рескрипт, где подтверждалось, что Владимир Кириллович является не только Наследником, но еще и «Единственным Местоблюстителем Российского Престола, а также Регентом», Папа Павел VI выдал соискателю через неделю. Пообещал помочь и с коронацией. Тут уж большая романовская родня, словно с цепи сорвалась: объявила «Наследника» не просто узурпатором, а еще и вероотступником, ставшим на путь Гришки Отрепьева, который тоже пытался отдать Святую Русь в лапы папистов.
На своем экстренном съезде родственники в две минуты, единогласно, словно коммунисты на съезде КПСС, заявили, что вопрос о престолонаследии в России может решать только Земский Собор, и применили к еретику самую жесткую, самую болезненную, а главное, необратимую репрессивную кару: отлучили Владимира Кирилловича от Дома Романовых, главой которого он провозгласил себя уже по собственной инициативе буквально за день до этого печального события…
Между тем «Наследник и Местоблюститель Российского Престола, а также Регент» и несостоявшийся Глава Дома Романовых жил не просто плохо. Он нищенствовал. Не имел ни профессии, ни ренты, ни каких-либо еще постоянных источников дохода. Единственное, что Владимир Кириллович умел и чему предавался с неугасимой страстью, – целыми днями разбирал и собирал различные часовые механизмы. Правда, однажды попытался поработать – еще до второй мировой войны.
Тогда Владимир Кириллович с супругой и отцом своим Кириллом жил в Мадриде. Когда к власти пришел Франко и наладил самые тесные отношения с Гитлером, отец и сын Романовы решили открыть свое дело – поставлять в Испанию из Германии запчасти для немецких автомобильных двигателей. Дело обещало перспективы, но все погубила спешка. Работать ежедневно, целеустремленно, постепенно, по маленькому шагу приближаясь к цели, оба не умели и не хотели. В самом деле, что может звучать нелепее: «Российский Император: продажа карбюраторов»! Или: «Наследник Цесаревич – специалист по распределительным валам»… Жизнь слишком коротка, богатеть надо быстро. Поэтому уже в первой партии товара, пришедшего на имя августейших бизнесменов из Германии, оказались не запчасти, а моторы для «БМВ» и «Хорьха» в полном сборе, на ввоз которых в Испанию Романовы разрешения не имели. «Императора» и «Наследника Цесаревича» жандармы немедленно арестовали и обвинили в контрабанде. Сидеть бы им лет десять-пятнадцать в фашистской тюрьме, да вмешался каудильо. Все-таки члены династии, императорская кровь, пострадали от большевиков и, по определению, враги его главного врага – красного диктатора Сталина. Будущий генералиссимус сеньор Франциско Франко приказал отца и сына из тюрьмы выпустить, но вид на жительство у обоих отобрал и велел депортировать для начала одного «Императора» за пределы страны в семьдесят два часа. «Цесаревичу» он велел дать отсрочку, пока его отец не найдет пристанище.
Кирилл Владимирович собрался меньше чем за сутки и рванул из Испании, покуда каудильо не передумал. И вот тут-то обрушились на «Кирилла I» казни египетские. Ни одна из европейских стран не пустила «Российского Императора» к себе: газетчики постарались, раздули дело о немецких моторах на всю Европу. Лишь через полтора месяца мытарств и мучений Кириллу удалось зацепиться за Лихтенштейн. Великий Герцог Лихтенштейнский разрешил Романовым пожить у себя, но только инкогнито.
В Лихтенштейне Романовы пробыли недолго: началась война. Немцы вошли во Францию, и «Императорская» семья благополучно переехала в Фонтенбло, под Парижем. Получив немецкие аусвайсы, они спокойно досидели до конца войны и после разгрома Гитлера двинулись в Америку, где увидели истинный рай по сравнению с измученной Европой. Благодаря войне, Америка не просто разбогатела. Она сказочно разбогатела. Типичный гешефт тех времен: корпорация «Catod Ltd», крупнейший производитель аккумуляторов, одной рукой посылает тушенку русским, а другой продает Гитлеру свои самые мощные в мире танковые аккумуляторы, причем открыто, даже не потрудившись организовать поставки через третьих лиц. Общественное мнение Америки их не осуждало: бизнес.
«Императорская» семья, направляясь за океан, рассчитывала, что в Америке, где народ более простодушен, необразован и глуп, нежели в Европе, им легче будет вписаться в новую жизнь и подняться на вершину социальной лестницы – пусть даже на первое время пока в эмигрантских кругах. Но их ждало неприятное открытие: публика почти не обратила на них внимания. Всех затмила тогда Анна Андерсен-Чайковская. Она находилась в зените своей удивительной славы. Еще довоенный берлинский суд признал ее великой княжной Анастасией Николаевной Романовой, подлинной дочерью императора Николая II, которая выжила после расстрела, спаслась от большевиков и сумела бежать из РСФСР. Некоторые из членов Дома Романовых ее признали, в том числе и те, кто дружил с Аной, как ее называли сестры и брат, еще с детства, например Глеб Боткин, сын царского лейб-медика. Некоторое время даже Великая княгиня Ольга, сестра Николая Второго, робко утверждала: да, возможно, это Анастасия, хотя, как знать, может, и не она… Но «император» Кирилл еще десять лет назад, после того уникального судебного решения в Берлине, публично назвал Анну Андерсен самозванкой, более того – воровкой, укравшей сначала честное имя его погибшей любимой племянницы. А теперь она с помощью своих преступных немецких покровителей нацелилась на жалкое имущество, оставшееся после бедного Ники. Встречаться с ней, вступать в публичную полемику Кирилл, разумеется, отказался. «Ну конечно! Какой же кот, укравший мясо, захочет встречаться со строгой, но справедливой хозяйкой? – презрительно заявила Анна-Анастасия. – Березовый прут для вора у меня всегда наготове. И скоро дяде Кириллу придется дать мне отчет за все – и за узурпацию титула, и за свое предательское поведение в 1917 году. И отвечать ему придется гораздо раньше, чем он думает».
Прут, приготовленный для вороватого кота, пока оставался без применения. На повторном процессе, в США, суд города Вашингтона, округ Колумбия, рассмотрев иск Анны Андерсен об идентификации личности, не признал ее Великой Княжной Анастасией Романовой. Однако и обращения в тот же суд Кирилла Владимировича, требующего подтвердить его императорские полномочия, оказались напрасными. От такой бесполезной жизни Кирилл вскоре умер.
Сын его Владимир Кириллович объявить себя очередным «Императором» Российской империи побоялся, хотя условия изменились: теперь местные власти ему гарантировали, конфиденциально, разумеется, положительное решение суда того же города Вашингтона, округ Колумбия, о признании его Императором Российским Владимиром I. При условии, что пятьдесят процентов от наследственных капиталов, если таковые обнаружатся, будут внесены в бюджет приютившей его страны, куда Владимир Кириллович приехал за свободой. Но не хватило духу у «Цесаревича» объявить себя императором. Так и проходил всю жизнь в «Наследниках» – буквально до гробовой доски. Женился он на бывшей супруге английского банкира Кэрби – Леониде Георгиевне, которая считалась и до сих пор считается какой-то представительницей древнего грузинского рода Багратиони. В 1958 году у них родилась дочь Мария. Семья жила на колесах, разъезжая по родственникам и знакомым, иногда выступая перед публикой в разных странах, а последнее время совершала челночные поездки между Испанией, США и Россией вплоть до смерти Владимира Кирилловича в 1992 году.
Князь в тот несчастный год отдыхал в Америке, в Майами, где в последние годы пляжи были плотно завалены тушами «новых русских» бандитов и банкиров, в основном, еврейского и кавказского происхождения. Секретарь князя, который служил Владимиру Кирилловичу за харчи, организовал ему встречу с «молодыми русскими капиталистами», как они себя называли. Бандиты весело раскупили билеты ценой от 800 до 1000 долларов за место и пожертвовали еще около ста тысяч баксов наличными герою дня. Встреча получилась. Были слезы радости и внезапно вспыхнувшего взаимного обожания.
Они лились и на сцене и в зале. Князь рассказывал, как он страдал от большевиков и от поганого генералиссимуса Франко. Под конец бандиты, а особенно, их женщины, совсем расчувствовались, когда князь признался, что любит Россию и готов послужить ей в любом качестве. Кто-то крикнул: «В любом – не надо!» Зал принялся скандировать: «Царем! Царем!» Здоровенный бандюган с бочкообразным животом, явившийся на встречу в полосатых семейных трусах, рухнул перед Кирилловичем на колени и взревел: «Батя! Ты наш царь! Вертайся на хату!»
Князь всплакнул, прижал руки к сердцу, открыл рот, пытаясь сказать еще что-нибудь дополнительное о своей любви к России. Но неожиданно язык перестал ему повиноваться: закоченел, будто князь только что съел ведро мороженого. Он снова открыл рот, но неожиданно сник, отвалился на левый подлокотник кресла… И так с открытым ртом умер.
Назначенный час погребения все никак не наступал, пчелиное гудение разговоров то усиливалось, то ненадолго затихало. И вновь оживлялось там, куда порхал петербургский мэр. По этому жужжанию можно было издалека определить маршрут движения Собчака по усыпальнице.
Официальные похороны в Петропавловском соборе члена династии было событием исключительного политического значения. Сами по себе его похороны в стране, где еще вчера любой, даже самый дальний родственник династической семьи считался почти официально государственным врагом СССР, ни о чем особенном не говорили. Но взятые в совокупности с новыми и еще вчера невозможными реалиями жизни после краха советской власти могли сказать наблюдательному и вдумчивому человеку очень о многом. В первую очередь о том, в какой жестокий этап своей истории в очередной раз вступила Россия. Самым верным сигналом скорых обвальных перемен стало внезапное и жульническое переименование Ленинграда в Санкт-Петербург. Нашлись тогда, однако, и среди либеральных демократов вольнодумцы. Вечный свадебный генерал Герой Социалистического Труда академик Лихачев в интервью самой респектабельной по тем временам главной коммунистической газете «Правда» заявил, что ежели Верховный Совет Российской Федерации отменит решение съезда Советов от 1924 года о присвоении городу имени Ленинград, то автоматически восстанавливается имя Петроград, которое город получил по указу императора Николая II как раз перед первой мировой войной – такой вот патриотический акт накануне боевого соприкосновения с германцами. Народ должен был видеть, до какой степени царь с царицей ненавидят этих поганых колбасников. Отменить же царский указ о Петрограде даже современный и невиданно демократический Верховный Совет Российской Федерации не имеет права.
Тем не менее, престарелый вольнодумец, позволивший себе по привычке удовольствие иметь собственное мнение лишь тогда, когда это было для него абсолютно безопасно, вдруг заявил, что будет, тем не менее, голосовать, как мэр Собчак, – за Санкт-Петербург.
Не смолчал и кумир демократов Солженицын: присылал из своей Америки в Ленгорисполком телеграммы пачками (копии: Москва, Кремль). Знаток обустройства новой России предлагал свои варианты: «Свято-Петроград» и даже «Свято-Невоград», поскольку немецкое слово «Петербург», да еще после труднопроизносимого «Санкт» оскорбляет его патриотические уши. Но теперь его уже никто не слушал – даже самые верные поклонники. Советская власть была свергнута, и Солженицын никому оказался не нужен. Ленинградцы превратились в непостижимых умом «санкт-петербуржцев», то есть в «святых» жителей Петербурга.
… Наконец привезли священника и дьякона. Теперь все действующие лица на месте. Сюжет под названием «Похороны Великого Князя Владимира Кирилловича» приготовились отснять десятка два репортеров – местных и заграничных. Местные, кстати говоря, могли остаться вообще без материала. В собор им удалось проникнуть с огромным трудом. Накануне события секретарь князя вдруг объявил, что только родственники и свита Владимира Кирилловича обладают исключительными правами бесплатно запечатлеть на пленку исторический процесс закапывания Августейшего трупа. Остальным придется за это право платить: семья князя ограничена в средствах и не может разбрасываться прибыльным сюжетом направо и налево. В конце концов, Собчак уломал начальников княжеской свиты, резонно заявив, что для родственников князя и его приближенных сейчас в России важна любая реклама. Здесь она дороже любых денег. Да и нет в новой российской прессе вообще такой традиции – платить героям своих публикаций, а уж их наследникам тем более. Наоборот, с недавних пор уже крепко укоренилась совсем другая традиция. В Руссиянии журналисты теперь сами берут деньги со своих героев, причем очень большие, особенно на телевидении – по цене рекламы. Особенно дорого стоит скрытая реклама. Свитские испугались и отступили.
И сейчас вся снимающая и пишущая публика нетерпеливо переминалась с ног на ногу, ожидая начала.
Покойный лежал в роскошном, из цельного дуба, лакированном гробу, украшенном золотыми кистями. В полутьме отсвечивали четыре серебряные ручки по бокам. Это был гроб марки «Аль Капоне» – так уже успели прозвать в народе такие гробы.
Из нутра своего последнего прибежища князь источал на публику ароматы бальзамических благовоний. Такая роскошь местной публике и не снилась. Советских граждан всю жизнь заколачивали в простые сосновые ящики, обитые кумачом. Разница могла состоять лишь в размерах ящика или в качестве и цене обивки. Гости из туземных не могли отвести глаз от сверкающего «Аль Капоне» и стояли около него, словно зачарованные. Некоторые украдкой щупали изумительный сундук, гладили его гладкие пузатые бока, трогали серебряные ручки.
– Во как надо! Вот как у людей хоронють. Сыграть в такой ящик – одно удовольствие. А советская власть даже приличный гроб за семьдесят лет придумать не могла! – громко бросил реплику джентльмен лет пятидесяти, жуликоватого вида – худой, красноносый, с золотой фиксой во рту. Он был в дорогом английском костюме для миллиардеров из скромного темно-синего коверкота в тончайшую полоску. Костюмчик был изрядно помят и весь в мелком пуху, словно его владелец накануне ночевал в курятнике.
«Где я видел этого необычного, этого удивительного, этого оригинального человека?» – задумался Собчак, внимательно рассмотрев сначала нечищеные, стоптанные ботинки фиксатого джентльмена, потом его физиономию – в продольно-поперечных морщинах, сизую, мятую, словно старая советская пятирублевка. И внезапно вспомнил. Это был знаменитый вор в законе Владислав Кирпичев, воровское «погоняло» (кличка) – «Кирпич». Из своих сорока девяти лет Кирпичев больше тридцати провел по тюрьмам. Теперь он уважаемый предприниматель, у него большой магазин на Литейном проспекте в двадцати метрах от Главного управления внутренних дел. Он торгует по сказочно низким ценам компьютерами – крадеными и контрабандными. Год назад Кирпич обеспечил Собчаку на выборах мэра, а Ельцину на выборах президента сто процентов голосов избирателей специфического избирательного округа – «Крестов», знаменитой питерской тюрьмы.
«Как же я мог забыть?» – удивился Собчак: ведь он собственноручно подписывал Кирпичу приглашение на сегодняшние похороны. Да… Разве всех упомнишь? Каждый день помощники приводят к мэру десятки незнакомых, нередко странных, но очень нужных нынче людей.
Около гроба уже несколько часов стояла в бессменном карауле вдова князя Леонида Георгиевна Романова, она же Багратиони-Мухранская, она же Кэрби – по предыдущему своему мужу, банкиру. Нести вахту ей было невыносимо тяжело: на скелет давил собственный обширный вес – больше ста десяти килограммов. Леонида Георгиевна со скорбным вниманием вглядывалась в каждого, кто подходил к ней выразить соболезнования. А когда замечала направленную на нее телекамеру, то медленно и выразительно крестилась прямо в объектив. Она с досадой подумала, что будет плохо выглядеть в телевизоре – измученная, в желто-коричневых морщинах, под глазами черные мешки. Густые жесткие волосы под черным платочком нечесаны, и это видно издалека. «А – пусть! Так даже лучше», – наконец решила вдова. Зато на экранах телевизоров ее печаль можно будет разглядеть без труда.
Выслушивая сочувственные слова, Леонида Георгиевна отвечала гостям очень проникновенно, с грустной благодарностью. И те, кто видел ее впервые, отмечал, что внешне она никакая не русская эмигрантка и даже не грузинская. В ее произношении слышалось что-то родное, и некоторые гости в первые минуты принимали Леониду Георгиевну за обычную советскую еврейку, приехавшую хоронить мужа не из Майами, а из Одессы, – возможно, с Молдаванки или с Пересыпи, где она торгует с уличного лотка ранними помидорами или баклажанами «мантана», маринованными по рецепту местных понтийских греков.
Присмотревшись к телевизионщикам, Леонида Георгиевна с неудовольствием отметила, что среди них отсутствует негодяй Невзоров. Бешеная популярность его программы «600 секунд» обеспечила не одной бездарности стремительный политический успех, забивший впоследствии зеленым долларовым фонтаном: в нынешней Руссиянии понятия политическая карьера и бешеные деньги связаны накрепко. Без Невзорова местные демократы никогда не смогли бы столь легко, быстро и весело ликвидировать советскую власть в Ленинграде, потом в Москве. Демократы выступили тогда единой мощной партией – «Народным фронтом». Его отцы-основатели объявили, что «Народный фронт» создан, прежде всего, в поддержку горбачевской перестройки. И не соврали: за какие-то месяцы «НФ» смолол в порошок КПСС, а за ней КГБ и, наконец, СССР. Невзоров и Собчака подсадил в кресло мэра несколькими мощными толчками, а затем занялся избиением депутатов демократического Ленсовета – политических друзей Собчака, ставших за одну ночь его врагами: они попытались установить хотя бы символический контроль над мэром.
Но вдруг знаменитый репортер в январе 1991 года переметнулся в стан неприятеля и подружился с «красными», правда, называя себя просто патриотом. И все остальные патриоты, хоть «красные», хоть «белые», «желто-черно-красные», заявил он, – есть все «наши». Это произошло после того, как он побывал в Прибалтике и увидел, насколько квалифицированно ЦРУ, опираясь на местную пятую колонну, ностальгирующую по Гитлеру, организовало сначала в Вильнюсе, потом в Риге антигосударственный переворот. Самое главное, что раскрыл репортер, – откуда взялись жертвы «восстания» против Советов: их загодя припасли мятежники, расстреляв невинных людей из автоматов Калашникова и заявив впоследствии, что их убили советские солдаты, которым, кстати, в те дни вообще не выдавали боекомплекта. Так Невзоров очутился в тесной связке с коммунистами, из которых он еще совсем недавно каждый вечер в телевизоре делал котлетки.
Своим неожиданным покраснением Невзоров был полностью обязан Юрию Титовичу Шутову – главному помощнику-референту Собчака. Когда демократы окончательно прекратили финансировать изменника Невзорова, Шутов через подставных лиц стал давать ему деньги. Теперь Невзоров каждый вечер каялся и заявлял в телевизоре, что если бы он сразу рассмотрел истинное нутро демократов, то скорее отрубил бы себе руку, нежели хоть единым словом их поддержал. «Это клопы! Я их сразу не разглядел, – так отзывался он о своих бывших соратниках и друзьях. – Давить клопов – теперь моя работа!» Тем не менее, даже самый распоследний клоп из демократического лагеря считал для себя большой удачей попасть в «600 секунд» – пусть оплеванным и облитым помоями. Невзоров по-прежнему своим старым врагам был нужен больше, чем новым друзьям.
Именно Невзоров первым в России дал в эфир интервью с Владимиром Кирилловичем, – еще два года назад. Беседа вышла примитивной, глуповатой, раздражающе прямолинейной. Но после нее Владимир Кириллович стал знаменитостью. В России о нем узнали, его стали привечать и давать ему деньги. А в том интервью Невзоров, кстати, заявил, что демократической России очень нужен царь. И убеждал князя, что тот должен обязательно баллотироваться в самодержцы. Именно баллотироваться – ключевое слово было произнесено. Князь сразу согласился: да, если русский народ захочет и позовет его, то Владимир Кириллович не будет долго испытывать терпение своих подданных и мучить их ожиданием. Он готов в любое время вернуться в Зимний дворец. Назвать Кремль конечной точкой своего возвращения Владимир Кириллович побоялся: там еще сидел Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев Михаил Сергеевич, который со своей мнительностью и неутолимой жаждой власти, мог неправильно понять князя и решить, что Владимир Кириллович собрался выкинуть главного красного демократа из Кремля. Вот если бы вместе с народом и Горбачев его позвал – тогда другое дело. Тогда можно соглашаться и на Кремль.
Невзоров продал интервью крупной французской телекомпании «Антенн-2». Вышел большой скандал. Вся заграничная русская аристократия смеялась. Члены Дома Романовых плевались и выпустили специальный манифест, в котором в очередной раз напомнили всему свету, что романовская ветвь кирилловичей никаких юридических и моральных прав на российский престол не имеет. Вспомнили члены Дома Романовых и вероломную измену, на которую пошел его отец Кирилл Владимирович в Февральскую революцию, о чем раньше помалкивали. Оказывается, в мартовские дни семнадцатого Великий Князь бегал в Петрограде с митинга на митинг, удивляя всех красным бантом на отвороте своей адмиральской шинели, и восторженно кричал вместе с толпой: «Долой самодержавие!» Он привел к Таврическому дворцу, где Государственная Дума как раз была занята формированием Временного правительства, на службу революции батальон Гвардейского флотского экипажа, которым тогда командовал. Своей выходкой Кирилл потряс даже самых ярых республиканцев. Всегда невозмутимый председатель Государственной Думы Михаил Родзянко изумился и заявил Кириллу: «Князь, князь, – вас сюда не звали: ваше место не здесь!» Через несколько дней, по постановлению Временного правительства, боевой генерал Корнилов Лавр Георгиевич, кумир патриотической молодежи, исполнил позорную жандармскую акцию, на которую не решился бы ни один нормальный русский офицер. Прославленный генерал лично арестовал в Царском Селе императрицу, уже бывшую, Александру Федоровну вместе с детьми, которые болели корью и лежали в горячке. Впоследствии генерал прозреет и даже попытается в августе сковырнуть масонское Временное правительство. Но он опоздает.
На другой день после исторического ареста Императрицы Кирилл прислал в Царское своих гвардейцев. Точнее, он выполнил решение матросского комитета, которые решили, что арестованная мать непременно сбежит вместе с тяжело больными детьми. Однако хотел того комитет или нет, но его матросы спасли Александру Феодоровну и детей от верной гибели: собравшаяся разъяренная толпа была готова разгромить дворец и растерзать его обитателей.
Александра была тронута до слез – она очень хорошо понимала, что могут ждать члены династии от демократической революции. Книги по новейшей истории она читала, а судьбой короля Людовика Шестнадцатого и его супруги Марии-Антуанетты, обезглавленных революционными французскими демократами, в последнее время интересовалась особенно. Небольшой гравюрный портрет Марии-Антуанетты даже висел на стене в собственной канцелярии последней русской императрицы. Почему? Предчувствие?
Отряд прибыл ночью. При свете костров бывшая государыня обошла строй матросов, перепоясанных пулеметными лентами, вооруженных винтовками Мосина с примкнутыми трехгранными штыками, на которые падали отблески дворцовых огней. Она пожала каждому матросу руку: «Я всегда знала, была уверена, что вы нас защитите, что вы нас не бросите! Родные, дорогие! Дети мои! Я ведь навсегда остаюсь вашей матерью, как и всему нашему русскому народу!» Приказала раздуть все дворцовые самовары, чтобы гвардейцы отогревались чаем. «Какие прекрасные люди, какие настоящие русские люди! – без конца повторяла императрица. – Я всегда любила русских людей больше, чем своих мерзких бывших родственников и соотечественников!»
Утром Александра Федоровна первым делом выглянула в окно. Во дворе не было ни одного прекрасного русского человека. Только дымились головешки костров. Двоюродный брат отрекшегося императора Великий князь Кирилл Владимирович отчего-то раздумал и приказал отряду вернуться в Петроград. Этого эпизода Романовы тоже не простили кирилловичам. Так что и по этой причине никто из Дома Романовых на похороны не приехал…
По другую сторону гроба стояла дочь покойного Мария Владимировна, которую князь незадолго до смерти назначил быть Великой Княгиней и Местоблюстительницей Престола Российской Империи. С таким же успехом он мог назначить ее королевой Австралии или императрицей Африки. Ни одно государство в мире не могло признать ее даже в роли Местоблюстительницы хотя бы по одной причине: давно уже не было ни Престола, ни Империи, даже Советской – пусть без Польши и Финляндии. В опереточной роли Марию Владимировну принимали только в демократической антимонархической России.
Мария Владимировна была в особенном траурном платье и переливалась черно-синим, как скворец. Ей было уже за сорок. В черных глазках Марии Владимировны светился живой ум. Сразу было видно, что она редко теряет присутствие духа, лучики в уголках ее глаз свидетельствовали о чувстве юмора. И вообще, Мария Владимировна была весьма миловидной и даже привлекательной толстушкой. Таких женщин в России называют «булочками». Она недавно развелась со своим мужем Францем-Вильгельмом Гогенцоллерном, принцем Германского императорского дома – тоже существующего лишь в воображении его членов. Развод ее в публике, приглашенной на погребение, уже обсудили, тема вызвала острый интерес к ней части молодых людей и мужчин постарше. Подходя к гробу и шепча какие-то сочувственные слова, они с усердием прикладывались к пухлой, пахнущей дорогим кремом ручке Марии Владимировны, и Местоблюстительница награждала каждого ослепительной улыбкой. А одного из целующих даже медленно погладила по голове, после чего он попытался приложиться к ручке еще раз, однако, Мария Владимировна мягко, но решительно свою ручку отняла. Стоя у гроба, она непрерывно улыбалась, отчего к началу отпевания в ее лице стало проступать что-то дебильное.
Около нее стоял сын Георгий, смуглый жирный подросток лет тринадцати. С возрастом он, безусловно, станет толстяком, как его бабушка и мать. Демократическая российская пресса уже называла его мальчика «Наследником Российского Престола», на что остальные Романовы отвечали в своей прессе насмешками, иногда руганью. «Мальчик Георгий Михайлович, – утверждали ругатели, – никакого отношения к Престолу Российской Империи не имеет. Во-первых, он рожден в мезальянсе, во-вторых, по Русскому Закону о Престолонаследии, он не может иметь никаких прав, поскольку его настоящая фамилия Гогенцоллерн, и потому мальчик может претендовать только на германский престол, столь же реальный, как и российский». Мария Владимировна в пику ругателям и насмешникам распространила через прессу заявление, что она, несмотря на все интриги завистников и врагов, будет готовить сына в императоры, тем более что Ельциным и Собчаком дело якобы уже решено: монархия будет введена в России сразу после успешной и окончательной демократизации. А пока Мария Владимировна определила «Великого Князя Георгия Михайловича» в петербургское Нахимовское училище. Он уже сейчас должен готовиться к профессии царя. Самые достойные русские цари традиционно имели хорошую военную подготовку.
Но тут на страницах газет и на экранах телевизоров явился некто Романов-Дальский Николай Алексеевич. Он рассказал о себе, что является самым подлинным и непосредственным внуком Императора Николая II, сыном настоящего, а не фальшивого Наследника – Цесаревича Алексея Николаевича, чудесным образом спасшегося после расстрела в Екатеринбурге. Дальский подтвердил, что Царь Российский, действительно, должен быть профессиональным военным. Но Георгий Михайлович еще когда им станет – зачем ждать? А Романов-Дальский уже давно военный, более того, сегодня его чин – генерал-адмирал. Такой чин Романов-Дальский получил от некоего тайного монашеского ордена, который опекает его, настоящего хозяина российского престола, с момента его, хозяина, зачатия. Право Дальского на генерал-адмиральские погоны подтвердило и советское правительство, заявлял Николай Алексеевич, потому что он, Романов-Дальский, многие годы работал начальником советской контрразведки по всей Прибалтике. Документов, подтверждающих столь необычное место работы и такую странную должность, нигде не нашлось. На что Дальский отвечал: он был настолько засекречен, что о его существовании не знали даже в ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ – от Дзержинского до Крючкова. Только Андропов что-то подозревал, но, разумеется, хранил тайну и не открыл ее даже Брежневу. Перед телекамерами «подлинный, а не фальшивый» внук царя появлялся в каком-то странном мундире – гибриде из военной формы советского адмирала и царского генерала.
Вскоре Дальский решил, что пора короноваться, что и сделал, причем, в Костроме, где почти четыре века назад принял корону зачинатель династии Михаил Федорович. Римский Папа Дальскому не понадобился. Корону какого-то мутно-латунного цвета, похожую на ту, которую в сказках Андерсена носит крысиный король, водрузил ему на голову никому не известный священник – толстый и вида весьма густопсового.
Теперь генерал-адмирал обрел уникальный статус. Незнакомым он представлялся просто: «Романов-Дальский, русский царь» и вручал визитку, в которой, действительно, профессия владельца обозначалась коротко, одним словом: «Царь». Но на том дело и стало. Никто Романову-Дальскому престол не предлагал так же, как никто не собирался принимать Георгия Михайловича в нахимовское – начальник училища публично заявил, что такого толстяка он не возьмет: пусть сначала сбросит вес, иначе однокашники задразнят бедного Жорика до смерти. Видно было, что вес мальчика с тех пор только увеличился, но вряд ли он сейчас думал об училище или о таком абстрактном понятии, как Русский Престол. Его лицо было залито настоящими слезами, он страдал искренне и глубоко: видно, очень любил дедушку.
Зазвенело кадило. В тесном помещении распространился сладкий аромат ладана, дьякон загудел колодезным басом 73-й псалом Давида: «Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити своей? Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле…»
Присутствующие дружно закрестились. Собчак стал на колени и аккуратно, несильно, стукнул лбом о мраморный пол, его примеру нехотя последовали два чиновника мэрии.
Только два человека не крестились, не вздыхали, не били лбы о мраморные плиты, а вели неторопливую тихую беседу. Один – известный парижский издатель Никита Глебович Струве, владелец русского эмигрантского издательства «Симка-пресс», которое последние четверть века осуществляло наиболее мощные и успешные операции в психологической войне против Советского Союза. Его собеседником оказался Юрий Титович Шутов – живая легенда города Ленинграда, а потом и Питера.
При советской власти Шутов закончил кораблестроительный институт (почему-то именно из этого вуза в последние годы советской власти выходили в большом количестве видные партийные и советские функционеры). Работал Шутов в городском статистическом управлении, защитил кандидатскую диссертацию, вступил в КПСС. Руководящие товарищи заметили молодого энергичного коммуниста и призвали на партийную работу в горком КПСС. Здесь он проявил недюжинные организаторские способности, чем вызвал тайную и мучительную зависть партколлег. И теплым летним вечером одна из мелких партийных крысок, с которой Шутов сидел в одном кабинете, предложила отметить шутовский день рождения. Дело было рискованное. Тогдашний первый секретарь обкома Романов, хоть и сам закладывал за воротник, но в Смольном объявил сухой закон.
«Посидим минут десять и разбежимся», – пообещала крыска и конспиративно пронесла в Смольный две бутылки коньяка и дешевый торт «Шоколадный принц». Так и сделали: выпили по две рюмки и разбежались. На следующее утро, когда Шутов переступил порог своего кабинета, в нос ему шибанул острый запах гари. Оказалось, ночью здесь состоялся пожар – небольшой, но пожарную команду вызвать все-таки пришлось. Обгорел только стол Шутова. Причиной пожара, как установило следствие, была непогашенная сигарета, брошенная в корзину для бумаг. Шутову окурок принадлежать не мог: он за всю жизнь не выкурил ни одной сигареты. Но в тот же день Шутова с треском вышибли из горкома, а через месяц водворили в «Кресты». Дело против него о порче государственного имущества городская прокуратура сфабриковала в рекордно короткие сроки, судебный процесс длился пять минут, и был Шутов приговорен сразу к четырем годам заключения.
Для него, как и для любого другого партработника, это означало абсолютный и необратимый жизненный крах.
Отправили его на «химию» в колонию под Кингисеппом. На выходные разрешалось ездить домой. Через два года Шутова за примерное поведение выпустили, а еще через два он таинственным образом исчез не только из Ленинграда, но и из СССР. Говорили, что кто-то видел его в Федеративной Республике Германии, а потом в Южной Африке. Как его, судимого, с волчьим билетом, выпустили за границу да еще в капиталистическую страну, – до сих пор остается полной загадкой.
Шутов появился в Ленинграде так же неожиданно, как и скрылся. Он поспел к смене вех: в конце 80-х он оказался очень нужным кадром, поскольку непосредственно попадал в категорию мучеников большевистского режима. Собчак с огромной радостью взял страдальца к себе персональным помощником. Но Шутов понадобился первому и последнему, кстати, мэру Ленинграда вовсе не из-за своей романтической биографии. Собчак оказался абсолютным невеждой в управлении городом. Впрочем, он и не собирался осваивать это трудное искусство. Для этого у него был Шутов с его ценным опытом партаппаратчика.
Струве и Шутов стояли с краю толпы – в нескольких метрах от окна усыпальницы. Русский парижанин – холеный, в габардиновом костюме цвета кофе с молоком (Кристиан Диор, 8 400 новых франков); безукоризненная бородка a la Maupassagne аккуратно расчесана, лысина надушена одеколоном «Rastignaque» (120 франков). Свечку Струве держал, как полагается, в левой руке, крестился редко, но очень проникновенно. У Шутова видок был такой, словно его всего лишь час назад выпустили из «Крестов» после многолетней отсидки. Круглая голова с выпуклым крутым лбом упрямца острижена наголо. Взгляд пронзительно-оценивающий и нагловатый одновременно. Костюмчик он купил, очевидно, еще студентом и выглядел так, словно его штаны и пиджак долго и с удовольствием жевала корова. А вот ботиночки Шутов носил итальянские, из настоящей кожи, штучные ($300 за пару). Дорогой клубный галстук душил его мощную шею, и Шутов время от времени отпускал узел, а потом машинально затягивал его.
– Что же вы не креститесь, Юрий Титович? – вкрадчиво спросил Струве. – Или коммунистическое прошлое не позволяет?
– Не позволяет, – буркнул Шутов. – Хотя в детстве был крещен, как, очевидно, и вы. Но всегда полагал, что вера – штука интимная, не для балагана, не для рекламы и не для телевизора. Пусть даже рядом с покойником.
– А куда деваться от телевизора, особенно когда хоронят знаменитость… – заметил Струве.
– … И когда хоронящие тоже хотят стать немножко знаменитостями. Или пытаются с помощью телеящика убедить народ в том, во что он никогда при нормальных условиях не поверит, – согласился Шутов.
– Вот как? Не одобряете, что Ельцин крестится? Или что ваш босс превратился в православного? – усмехнулся Струве. – Говорят, на Пасху он Всенощную отстоял, земные поклоны отбивал так усердно – паркет в Спасо-Преображенском соборе звенел.
– Его дело. Мне все равно, – отрезал Шутов.
Они помолчали.
– Скажите, Юрий Титович, а кто эта? – Струве указал бородкой в сторону узкого арочного окна.
Там спиной к свету стояла, опираясь на палку, невысокая худая старуха. Она с самого начала заняла это место, откуда можно было наблюдать за всеми, оставаясь в тени.
– Вы должны ее знать! – удивился Шутов. – Это же графиня Новосильцева… Лариса Васильевна. Живет… – Шутов на мгновение задумался. – Живет в Париже на набережной Кэ д'Орфевр, номер дома не помню… в собственной квартире, занимает половину этажа, есть консьержка… телефон… центральное отопление, ванна… Окна на север.
– Господи! Надо же – не узнал… – пожал плечами Струве. – В самом деле – графинька… Вы что – хорошо с ней знакомы? Бывали у нее?
– Вовсе нет.
– Откуда же такие подробности?
– Сам не знаю, – Шутов пожал плечами. – Где-то прочитал или кто-то рассказывал. Само, наверное, запомнилось.
– Так вы знаете, что Новосильцева – дочь публичной ммм… дамы и большевистского комиссара?
– Это вы так про ее мать? – удивленно повернулся к нему Шутов. – У нас Евдокию Федоровну Новосильцеву – так… графиню… в девичестве фон Ливен… – да, именно ее – осведомленные люди считают весьма интересной личностью. Точнее даже – героической личностью. Достойная женщина, русская патриотка. Лучшая разведчица Генерального штаба царской армии.
– А эти сведения у вас откуда?
– Тоже где-то читал.
– И опять само запомнилось? – усмехнулся Струве.
– Конечно, само! – заверил Шутов. – Или кто-то рассказывал… Да уж не вы ли?! Да, вы и рассказывали!
– Господь с вами! У меня, конечно, уже есть определенный склероз, но не до такой же степени. Да и видимся мы с вами всего второй раз в жизни. Что-либо забыть о нашей встрече или перепутать трудно, – укоризненно покачал головой Струве. – Значит, по-вашему, мамаша – женщина достойная… А вот в наших кругах ходит и такое мнение: изменница, нарушила присягу, данную Государю, спуталась с одним из палачей его семьи.
В ответ Шутов хохотнул так громко, что на него неодобрительно оглянулись.
– А ваши предки, в частности, дедушка ваш, достойный Петр Бернгардович, знаменитый профессор земли русской, – он разве не изменил Государю? – шепнул он своему собеседнику в надушенное ухо. – Когда приветствовал и прославлял Февральскую революцию? Или еще раньше – когда в числе первых активно распространял в России марксизм? Между прочим, активнее, чем Ленин: тот в те времена еще только пиво пил в Женеве и в Цюрихе. А Петр Бернгардович Струве в России и свои книжки писал о пользе марксизма, сочинял статьи против самодержавия, студентов смущал, интеллигенцию… Царь выслал его даже за границу.
– Тогда были другие обстоятельства, – раздраженно ответил Струве.
– Обстоятельства всегда, во все времена – одни и те же: всю жизнь мы обязаны выбирать, постоянно взвешивать «за» или «против». И всегда речь идет об одном и том же, – жестко заявил Шутов.
– То есть? Что вы имеете в виду?
– Или вы за народ – за его всегда бедствующее в России и всегда обманутое большинство. Или за его меньшинство – всегда жиреющее на крови большинства, всегда отвратительное и всегда преступное, – с неожиданной злобой тихо произнес пострадавший от Советской власти помощник ленинградского мэра. – Ваши предки сделали свой выбор в октябре семнадцатого. Вы – тоже, хотя и гораздо позже.
– Да что это с вами? – удивился Струве. – Чем не угодил? Тем, что мой родитель, а потом и я всю жизнь посвятили борьбе за освобождение русского народа, Святой Руси от коммуно-жидовской диктатуры? А вы – уж не обижайтесь, милый друг, Юрий Титович, – вы этой диктатуре прислуживали. Ну, и как она вас отблагодарила? Вам понравилось в «Крестах»? Или вы были в ГУЛАГе?
– Никита Глебович, я ведь очень вас уважаю, – сказал в ответ бывший зэк. – Я очень ценю и уважаю ваши старания, ваши благородные попытки спасти от кровожадных большевиков русский народ. Заодно и меня, конечно, как частицу народа, – хочу верить – тоже хотите спасти от диктатуры, которой вы дали только что столь емкое определение. Я прочел почти все книги, которые выпустил ваш отец, а теперь издаете вы. Я читал ваши статьи и эссе о России. И не обижайтесь, пожалуйста, но я скажу вам правду. Полагаю, что в школе или там в лицее у вас по истории была двойка, ну, может, тройка с минусом. Вы не знаете России. Вы не знаете и нас, ваших бывших соотечественников. Проблему той самой, как вы изволили выразиться, – «коммуно-жидовской диктатуры» – радикально пытался решить еще Сталин: частью в тридцать седьмом году, частью в сорок девятом. Правда, поработал плохо, в чем мы с вами и убеждаемся теперь каждый день. И вот та самая диктатура, только под другим названием – назовем ее «демократура» – снова захватила в России власть. Правда, под другим флагом – под полосатым, а не под красным. Не в флаге, конечно, дело. Они могли выступать и под черным, с черепом и костями, – никакого значения не имеет. Важно другое: они сегодня запустили те же механизмы разрушения страны, что и в семнадцатом – с поправкой на особенности исторического момента. А вы почему-то оказались на их стороне.
– А вы на чьей? На чьей стороне референт Собчака? – тихо возмутился Струве.
– На своей собственной. Я сейчас просто служу в государственном аппарате. Делаю конкретную работу. И вроде бы справляюсь, раз мне платят хорошую зарплату. За работу платят, а не за отсутствие или наличие каких-либо политических убеждений.
И Шутов демонстративно повернулся к собеседнику спиной.
«Ну какой же хам! – подумал Струве. – Причем хам – красный, враг. И не скрывает этого. Как это Собчак его до сих пор держит около себя?» Он почувствовал, как в нем нарастает желчная ненависть к красному хаму – к его наглым манерам, сиплому голосу, к его резонерскому безапелляционному тону, к его измятому костюму. Но что поделаешь – самое доверенное лицо мэра. И, пожалуй, единственный исполкоме реальный человек, который хоть что-то понимает в управлении городом и способен принимать решения.
Струве знал, о чем думал. После победы демократов в России он побывал в Мариинском дворце, где размещается Ленсовет. С ужасом увидел шатающихся по коридорам или открыто распивающих коньяк в стерильных начальственных кабинетах толпу странных людей в замызганных джинсах, бородатых, с грязными волосами до плеч, от некоторых издалека сладковато пахло марихуаной. Он увидел людей, которые распоряжались теперь промышленностью, в том числе и военной, гигантского города, его системами жизнеобеспечения, коммунальным хозяйством, транспортом, продовольственным снабжением. Правда, Струве немного успокоился, познакомившись с новым самым большим, просто гигантским, управлением исполкома, где распоряжались городским имуществом. Здесь свое дело знали: дележка государственного имущества шла ежедневно и в большом темпе.
– А правда, что вы пишете разоблачительную книгу о своем боссе? – вдруг спросил Струве.
Шутов застыл на секунду.
– Врут, собаки! – ответил он как можно пренебрежительнее.
Священник и дьякон запели молитву на древний византийский лад, который больше тысячи лет сохраняется Русской Православной Церковью, снова зазвенело кадило. Служба кончилась.
Настал миг гражданского прощания. К гробу подошел мэр. В усыпальнице разлилась тишина. Все знали профессора Собчака как настоящего златоуста и с интересом приготовились его слушать. Но речь его оказалась на удивление короткой.
– Вот ушел еще один великий князь, еще одно воплощение ума, интеллекта, разума и мудрости России, – сказал Собчак, не принимая во внимание тот факт, что покойный никогда в России не жил и вспоминал о том, что он русский, лишь когда называл свои титулы. – Какая потеря для народа! – и профессор процитировал Лермонтова: – «И…и если посмотришь… с холодным вниманьем вокруг»… -
Собчак замолчал, потому что неожиданно обнаружил, что больше ничего из этих стихов не может вспомнить. Такого с ним еще не бывало. Пауза длилась минуты три. После чего мэр потряс слушателей неожиданной концовкой своего по-спартански выразительного выступления: – «Если посмотришь вокруг»… то увидишь, что кругом одни черносотенцы, коммунисты и евреи. Угнетенные евреи, конечно! – поспешно добавил он.
Наступило недоуменное молчание. Публика застыла, с трудом усваивая сказанное. Только Шутов нагло хмыкнул в тишине. Он отметил, что и старуха у окна саркастически усмехнулась. Жена мэра поспешила снять всеобщее состояние неловкости и недоумения и дала сигнал к прощанию. Первой подойдя к гробу «Аль Капоне», она поцеловала покойника в надушенный желто-синеватый лоб. К гробу образовалась беспокойная очередь. Струве и Шутов не двинулись с места.
– Вы мне должны – просто обязаны! – больше рассказать о графиньке Новосильцевой! – шутливо потребовал Струве. – Что она здесь делает? Вы же все знаете – и что здесь происходит, и что в мире!
– Милый Никита Глебович, откуда же мне все знать! – воскликнул Шутов. В усыпальнице возник гомон, и они тоже заговорили нормальным тоном. – Не знаю я, например, почему вы называете Новосильцеву «графинькой».
– Так всегда называли ее мать. Но точно так же называли в свете и ее бабушку, и прабабушку. Прабабка, говорят, была любовницей Государя Николая Павловича, при этом будучи старше него в два раза. Но выглядела в два раза моложе… Такая у них порода – маленькие женщины, на вид хрупкие, но силой, нравственной и физической, волей не уступят иному мужчину.
– Мужчине, – вежливо поправил его Шутов.
– Да, конечно, мужчине – спасибо, – чуть поклонился Струве. – Знаете, – доверительно сказал он, – дома, то есть там, в Париже, все вроде знаешь, ошибок в языке не делаешь. А здесь, у нас в России, иногда смущаюсь. Будто сдаю экзамен по иностранному языку.
Но Шутов не принял протянутую руку доверия, мало того – плюнул в нее.
– Так ведь он для вас и есть иностранный, – безжалостно отметил он.
Струве замолчал, раздумывая, обидеться или не обратить внимания на очередную хамскую реплику. Обидеться, значит, проявить слабость. Промолчать – значит, дать Шутову понять, что презирает его. Струве выбрал презрение, которое продолжалось всего несколько секунд, потому что Шутов снова заговорил:
– Честно говоря, я не знал, что ее прабабка Дарья Христофоровна фон Ливен была любовницей Николая Палкина. А вот то, что она была родной сестрой графа Бенкендорфа – того самого, начальника Третьего отделения Тайной канцелярии Его Величества, шефа жандармов, я обнаружил только недавно. А чем еще интересны женщины фон Ливенов-Бенкендорфов?
– У них, наверное, физиология особая. Вероятно, гипофиз вырабатывает повышенное количество гормона роста, – охотно продолжил Струве как ни в чем не бывало, словно и не обижался только что на красного хама. – В двадцатипятилетнем возрасте они консервируются и такими выглядят до сорока. Потом в сорок лет снова консервируются – и так до шестидесяти… А там уже до девяноста доживают и никто не догадывается, сколько им на самом деле.
Шутов молча разглядывал старуху.
– У нее, кажется, есть еще одно наследственное приобретение, – произнес он. – Та самая Дарья Христофоровна фон Ливен-Бенкендорф была профессиональной шпионкой и работала на своего брата в Лондоне, добывала уникальную политическую информацию. Умела при необходимости и интриговать в среде членов британского парламента… Агентесса влияния высшего класса.
– Нет, я все-таки уверен – вы знаете все! И, конечно, то, что она здесь делает! – заявил Струве. – И вы также знаете, что я знаю, что вы знаете все! И не вздумайте отпираться! – шутливо погрозил он Шутову пальцем.
– Ни в жисть, ваше высокоблагородие! – с дурашливым испугом заверил Шутов. – Но может, продолжим уже за банкетным, точнее, за поминальным столом?
– Но для этого вы должны сесть рядом со мной!
– Найдем возможность, – пообещал Шутов. – Банкет – пардон! – поминки организованы, по требованию мэра, очень демократически: каждый будет устраиваться, как хочет. Можно сидеть, где угодно, можно стоять, можно лежать по-древнеримски.
Струве почувствовал, что его неприязнь к Шутову снова нарастает каждую секунду и скоро может стать невыносимой. Придется терпеть. Нельзя из-за ерунды портить отношения с одним из самых влиятельных людей в этом городе. Чутье старого журналистского тигра ему подсказывало: Новосильцева здесь неспроста. И Шутов, безусловно, знает о ней что-то весьма интересное и важное.
Шутов действительно кое-что знал о Новосильцевой. Например, ему было прекрасно известно, что Новосильцева Лариса Васильевна после смерти матери в Париже жила замкнуто, в эмигрантских кругах почти не появлялась, в различных эмигрантских союзах, движениях и фондах не участвовала, в Церковь ходила всего три раза в год – на Рождество, Пасху и Троицу, у исповеди не бывала вовсе. Когда в Париж вошли немцы, она осталась, и ее часто видели в компании высоких эсэсовских чинов. Посему после бегства немцев Новосильцева должна была неминуемо подвергнуться позорной гражданской казни и в лучшем случае – стрижке налысо. Но вдруг вмешался сам генерал де Голль. Неожиданно к дому Новосильцевой на набережной д'Орфевр подъехал почетный кортеж с мотоциклетной охраной. Графинька уселась в черный ситроен с внутренней обивкой красного бархата, сиденьями красной кожи. Дверь автомобиля услужливо придерживал и захлопнул сам министр внутренних дел, который увез ее в Версаль. Там де Голль наградил дочь русских эмигрантов, путавшуюся с бошами, орденом Почетного легиона, а за что – официально не сообщалось. Но слухи шли. Якобы молодая графинька Новосильцева была личным агентом будущего президента Франции, который почти всю войну просидел в Лондоне, руководя оттуда по радио Сопротивлением, в то время как воевавших участников Резистанса во Франции немцы расстреливали пачками. Но их расстреляли бы еще больше, если бы не эта маленькая русская парижанка. Говорили и даже в каких-то газетах писали также, что у Новосильцевой, кроме де Голля, был еще один «любовник» по линии шпионажа – сам Лаврентий Берия, начальник советской тайной полиции.
В России Новосильцева появилась неожиданно – когда всплыла тема поиска и обретения останков семьи и приближенных последнего российского императора Николая II. Останки якобы обнаружил в болоте под Свердловском помощник тогдашнего советского министра внутренних дел Гелий Рябов, который по службе писал речи и книги за своего шефа Николая Щелокова. Как только о находке под Свердловском, скоро снова переименованном в Екатеринбург, появились первые публикации, туда, на Урал, куда почти сто лет не было ходу ни одному иностранцу, вдруг прилетел государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джеймс Бейкер собственной персоной. Ссылаясь на устное разрешение самого президента Ельцина, высокопоставленный американский чиновник потребовал от местных властей предоставить ему всю информацию о скелетах, в то числе и ту, которая, как утверждал американец, хранится в сейфах местного управления КГБ. Какие-то почерневшие кости американцу показали, правда, на расстоянии, издалека. Но сейфы свои открывать не стали. Начальник свердловского УКГБ заявил, что распоряжение Ельцина открыть сейфы до них еще не дошло. Вот как только дойдет – откроют. Причем, немедленно! Депеши от Ельцина Бейкер не дождался и через день улетел – на персональном ТУ-144, который предоставил главе Госдепа США русский президент.
Через два дня после отлета Бейкера в Свердловске появилась Новосильцева. От самого Питера ее сопровождали Владимир Онтонов, историк, лидер националистического движения «Русский патриот», и некий москвич Иван Иванович Иванов – темная личность, о которой Шутову подробностей узнать не удалось, но и того, что узнал, ему было достаточно. В Екатеринбурге Иванов несколько раз ходил в управление КГБ – свободно, как к себе домой, и четыре дня сидел в тамошнем архиве. После чего Новосильцева и ее спутники собрались и поехали в Пермь. Там она провела пять дней в гостинице «Россия», выбираясь в сопровождении Онтонова только вечером на пятнадцатиминутную прогулку перед сном. Иван же Иванович снова засел в компетентных органах, куда приходил к восьми утра и уходил после часа ночи. И вот сегодня Шутов узнает, какие документы изучал Иван Иванович и что интересного в них он нашел.
Наступил кульминационный момент. Гроб закрыли крышкой, завинтили серебряными болтами, но заколачивать не стали. Всегда можно развинтить. «Зачем это? – почему-то подумал Шутов. – Уж не обманывает ли нас покойник? Через пару часов восстанет, явится на собственные поминки и выпьет рюмку водки за упокой своей души?» Представив себе эту картинку, он хмыкнул и стал потихоньку пробираться ближе к выходу.
Снова зазвучала музыка, но теперь из переносного магнитофона «sanye», который кто-то поставил рядом с могилой князя. Под куполом Великокняжеской усыпальницы разлился «Реквием» Моцарта в исполнении хора Свешникова. Могильщики с трудом протиснули гроб в проем в каменном полу и теперь закладывали белоснежной мраморной плитой, на которой было выбито:
Его Императорское Высочество
Благоверный Великий Князь
Владимир Кириллович
Родился в Борго 1917 года Августа 30-го дня
Скончался в Майами 1992 года Апреля 21-го дня
Стукнул камень. Плита точно стала на место. Наступила тишина. Шутов подавил в себе хулиганское желание зааплодировать: спектакль закончился вовремя и без накладок.
Леонида Георгиевна, чуть живая от усталости, что-то шепнула на ухо склонившемуся к ней Собчаку.
– Да! – громко ответил он ей. – Сейчас! – и обратился ко всем: – Товарищи! Нет, пардон, – господа! Дамы и господа! – уточнил он. Ему кто-то подал мегафон. Искаженный голос мэра пронесся визгливыми волнами под сводами усыпальницы: – Вдова и родственники нашего дорогого покойного друга просят всех присутствующих, а также тех, кто не мог попасть в это помещение, но имеет пригласительные билеты, пожаловать на поминальный ужин в конференц-зал музея этнографии. Там будут столы. Повторяю: вход строго по пригласительным билетам или специальным аккредитационным пулам. После третьего звонка в банкетный зал никого пускать не будут. Это я вам говорю как мэр! У меня будет там порядок.
Толпа зашумела и оживленно потекла к выходу.
– М-да, – сказал Струве, догнавший Шутова, – похоронили-то беднягу князя через сорок дней после кончины. Где же сейчас его душа? – и шепнул Шутову на ухо. – И никакое он не императорское высочество, никакой не великий князь. Самозванец он…
Шутов равнодушно отмахнулся.
Скромный, на пятьсот персон, стол был накрыт в большом, гулком и безумно холодном лекционном зале музея, где стены облицованы черным мрамором. Из-за этого казалось, что гости собрались для поминок в одном гигантском склепе. Старые и очень старые заграничные русские еще помнили рассказы своих отцов и дедов о хлебосольной дореволюционной Москве, о лукулловых пиршествах в «Яре», «Балчуге» или «Славянском базаре», где в винных картах, подаваемых гостю, числились 200–300 марок коллекционных вин ежедневно. Но даже они были потрясены обилием и разнообразием поминального стола. А их советские, а нынче антисоветские соотечественники такого не видели даже в кино. Потом очевидец рассказывал, что видный демократ Пинхус Филипповский, крепкий сорокалетний толстяк с купеческой бородой, едва не упал в обморок, не сумев душой и разумом спокойно охватить поминальное великолепие. В демократе Пинхусе, очевидно, еще глубоко сидел скромный советский человек. Впрочем, к хорошему привыкаешь быстро. Всего через три с лишним года после поминок слабонервный демократ станет владельцем суперсекретного научно-производственного объединения «Гелиос», работавшего на советский космос и обгонявшего по качеству разработок в области оптики своих коллег из NASA лет на пятнадцать. Новый русский капиталист купил уникальное предприятие за чемодан желтых пустых бумажек – ваучеров. Их правительство Ельцина раздало всем руссиянам по одной штуке – они олицетворяли ту долю общественной собственности, которую клептократическое государство отвалило каждому отдельно: берите теперь на ваучер все, что нравится, и ни в чем себе не отказывайте. Ваучеры изобрел некто Чубайс – институтский приятель Пинхуса Моисеевича, оттого народ прозвал бумажки «чубайсами».
На одну бумажку от госсобственности ничего не отрежешь. Скупить побольше подавляющая часть населения была не в состоянии, поскольку при Советах воровала фантастически мало. Посему владельцы продавали свои «чубайсы» скупщикам по дешевке. Цена бумажки сложилась твердая: один «чубайс» – одна бутылка водки.
Немного потратившись на водку, новые русские, вернее, как было сказано, в основном, нерусские – ничтожная кучка в пятьсот-шестьсот человек на всю страну расхватали самые лучшие, самые наукоемкие заводы и фабрики, самые богатые нефтяные скважины, золотые прииски и много еще хорошего из того, что более семидесяти лет считалось неотъемлемой народной собственностью.
У Пинхуса Моисеевича, впрочем, не все сразу пошло гладко. Ему удалось скупить у граждан, свихнувшихся от реформ, лишь половину необходимого количества ваучеров. Остальные у него прямо из-под носа выхватывали кавказские и татарские конкуренты. Была опасность, что владельцем «Гелиоса» станет грузинский толстяк-аспирант Каха Бендукидзе, который только что за два мешка «чубайсов» стал владельцем Уралмаша – самого мощного в Восточном полушарии Земли военного машиностроительного предприятия, которым когда-то руководил Николай Рыжков – позже глава Совмина при Горбачеве. И тогда приятель Пинхуса из комитета по госимуществу доверительно посоветовал не гоняться за ваучерами, а просто заказать за наличные недостающую половину на фабрике Гознака. Так Пинхус стал крупным капиталистом.
После приватизации «Гелиос» продолжал работать на космос, но теперь не на русский, а на американский, точнее на NASA – государственное управление по аэронавтике и космическим исследованиям. И уже за первый год демократ Филипповский разбогател настолько, что мог, по примеру древнеримского императора Домициана, выписывать себе на обед из стран Северной Африки удивительную рыбу султанку. Смысл в том, чтоб доставить султанку к столу живой. Умирая, она покрывалась узорами необычайно богатой расцветки, что доставляло пресыщенным едокам дополнительные гастрономические удовольствия.
Выходя из собора вместе со Струве, Титыч мельком взглянул на Новосильцеву. Старуха по-прежнему неподвижно, как статуя, каменела у окна и равнодушно глядела на проходящих, словно сквозь пыльное стекло. Однако Шутову показалось, что на него самого Новосильцева глянула внимательно и с интересом. Он готов был поклясться, что старуха ему даже подмигнула.
Она уходила из собора последней. Опираясь на изящную палку черного дерева, с бронзовой инкрустацией, Новосильцева медленно двигалась по восточной аллее Петропавловской крепости. Графиньку бережно поддерживал под локоть неразлучный Онтонов. Они прошли к Петровским воротам. Там у мостика их ждал старенький москвич-412.
– Ну что, похоронили? – спросил их водитель. – Что-то долго. Я уж решил, что они завтра продолжат.
– Иван Иваныч, дорогой, простите, что задержалась – не моя вина, – сказала Новосильцева, осторожно садясь в машину на заднее сиденье. – Похоронили. Вы, родной мой, наверное, проголодались?
Она говорила по-русски легко и чисто, без характерного франко-немецкого акцента, который всегда был свойствен почти всей русской аристократии и в эмиграции передавался от поколения к поколению.
– Нет, Лариса Васильевна! – улыбнулся Иван Иванович, полный невзрачный человечек неопределенного возраста. – Я, как учит теперь телевизор, съел сникерс и – порядок!
– Никогда не ешьте сникерсов! – строго приказала старуха. – Никогда не ешьте в России иностранных продуктов. Запад все свои помойные ведра опорожняет на здешние прилавки.
– Так своих же, отечественных, сникерсов нет, – с печалью вздохнул Иван Иванович.
– А зачем они вам? Ешьте конфеты фабрики имени Крупской. «Мишку на Севере», например.
– Где-то я подобное уже слышал… – усмехнулся Иван Иванович. – Да – Мария-Антуанетта… Когда ей доложили, что простой народ голодает, потому что у людей нет хлеба, она страшно удивилась: «Зачем же голодать? Нет хлеба – пусть едят пирожные!» Вы бывали в наших продовольственных магазинах? Такая пустота была только во время блокады. Хорошо еще, что Собчак ввел карточки.
– Да, – вздохнула графиня. – Сталин отменил карточки, Ельцин с Собчаком ввели… Что вы сотворили со страной? Где был ваш хваленый комитет государственной безопасности, почему вы не исполнили своих служебных обязанностей? Ваша контора на весь мир наводила ужас. А тут за один день совершила акт массового предательства…
– Я-то, положим, свой служебный долг выполнил и выполняю, – обиженно возразил Иван Иванович. – Вот другие, генерал Калугин, например…
– Генерал Калугин – самый обычный изменник. Такие есть везде. Но чтобы вся мощная спецслужба разбежалась, поджав хвост! Такого в мировой истории, кажется, еще не было… Но простите старуху. Меня вывела из себя эта банда на похоронах. Надо же: как много мерзавцев может поместиться на таком небольшом пространстве, как усыпальница!
– Куда, Лариса Васильевна? – спросил Онтонов, садясь впереди.
– Мы ведь собирались к вашему… к тому человеку? Кажется, я его вычислила… невозможно не заметить. Или без звонка неудобно?
– Он готов вас видеть в любое время дня и ночи, – сказал Иван Иванович. – Едем прямо сейчас.
– Тогда вперед! – скомандовала Новосильцева.
Старенький москвич неожиданно взревел своим, явно не москвичевским, мотором, рванул с места и стремительно влился в поток автомобилей, плывущих в сторону Троицкого моста. Они пересекли Марсово поле, развернулись вокруг памятника Суворову и выехали на набережную Робеспьера.
– Есть небольшой хвостик, – озабоченно сказал Иван Иванович, глядя в боковое зеркало. – Сейчас отсечем. Не оборачивайтесь, Лариса Васильевна, они вас хорошо видят.
Иван Иванович въехал на Литейный мост в сторону Финляндского вокзала. На середине моста он вдруг резко отвернул влево, чудом вклинился во встречный поток автомобилей, обогнал трамвай и остановился впереди него перед светофором. Идущий за ним потрепанный форд-эскорт попытался повторить маневр, но не вписался в поворот и врезался в бок тяжелого джипа шевроле.
Завизжали тормоза, шевроле остановился. В его задний бампер тут же влетел мерседес-600, в мерса ударил идущий за ним ауди, у которого от сильного удара открылся капот, сорвался с креплений, плавно перелетел через перила моста и исчез в Неве.
Из шевроле вышли двое быков – накачанных парней с одинаково тупыми рожами, одинаково остриженных под табуретку, и направились к форду. Один из них держал в руках черную короткую и толстую палку – электрошокер.
Москвич тем временем въехал на Шпалерную, взял влево и помчался в сторону Смольного собора.
В эти же минуты Шутов медленно ехал в своем стареньком вольво на свою конспиративную квартиру. До встречи оставалось еще полчаса. О квартире никто не знал, даже жена. Приобрел он ее на подставное лицо. Здесь Шутов отдыхал и проводил тайные встречи. Но, главное, писал книгу – ту самую, о которой спрашивал Струве.
Его вопрос застал Шутова врасплох, мало того – ошеломил и страшно испугал. Никто, кроме него самого, не знал о книге, которая должна стать бомбой убойной силы. А Струве, оказывается, знал. Значит, тайны уже нет. Есть внезапно возникшая опасность. «Скверно. Что-то нехорошее произойдет». На какую-то тысячную секунды в его мозгу мелькнула яркая картинка: он за рулем спортивного феррари, скорость двести пятьдесят километров в час, а впереди, в двух метрах, внезапно возникла бетонная стена, но затормозить уже невозможно.
Оставив машину в соседнем дворе, Шутов взбежал по черной лестнице на шестой этаж, разминая застоявшиеся мышцы. Подошел к квартирной двери, вытащил ключи из кармана, поднес их к замку. Неожиданно его рука сама застыла в воздухе. Он еще ничего не успел понять, но подсознание уже приняло сигнал тревоги.
Шутов припал ухом к двери. Потом прильнул к дверному глазку, пытаясь что-нибудь разглядеть. И тут дверь резко распахнулась. Шутов, получив оглушительный удар по лбу, не удержался на ногах и медленно опустился на колени. Из квартиры выскочили двое. Один из них с профессиональной точностью ткнул Шутова под подбородок узким окованным медью носком ботинка, и он задохнулся, теряя сознание.
Он уже не видел и не чувствовал, как его втащили в квартиру, нанесли по голове четыре удара молотком, отчего пол в квартире сразу был залит черной кровью.