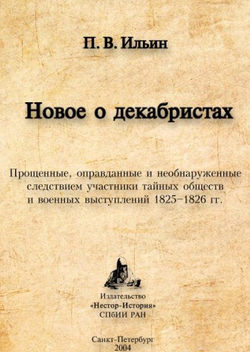Читать книгу Новое о декабристах. Прощенные, оправданные и необнаруженные следствием участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг. - П. В. Ильин, Павел Ильин - Страница 3
Глава 1
«Простить… заблуждения прошедшие»
Участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг., освобожденные от наказания
Декабристы, освобожденные от наказания, как исследовательская проблема
ОглавлениеСохранилось не одно свидетельство о том, что некоторые из участников декабристских тайных обществ избежали наказания. Если оставить в стороне тех, кто не был обнаружен следствием или сумел оправдаться в ходе расследования[10], то в сфере исследовательского внимания остаются лица, «всемилостивейше» прощенные императором, либо освобожденные от наказания в ходе и по итогам процесса.
«Прощение» («высочайшее прощение») – это освобождение от наказания или прекращение расследования по воле верховной власти, т. е. императора. Оно непосредственно связано с выявленной в ходе предварительного следствия виновностью; иначе говоря, для того чтобы прощать, нужно было установить «состав преступления», – что именно прощать. Следовательно, в число «прощенных» входят те, кто, несмотря на выявленную виновность по «делу декабристов», были освобождены от ответственности и не понесли наказания[11].
Обращение к материалам следствия показывает, что среди освобожденных в ходе расследования оказались лица, виновность которых не получила подтверждения. Это были арестованные по подозрению, по доносу (часто – ложному), привлеченные к следствию по ошибке, случайно попавшие в его орбиту, оговорившие себя и т. д. Освобожденные в силу доказанной невиновности, они, в своем большинстве, не имели прямого отношения к деятельности тайных обществ; в ходе допросов была установлена их полная непричастность к «делу». Предмет настоящего раздела – лица, участие которых в тайном обществе, заговоре и военных выступлениях декабристов было обнаружено следствием. Речь идет о тех случаях, когда прощалась выявленная и доказанная «виновность», – как правило, с официальным признанием акта помилования и освобождения от наказания, после чего следовало освобождение из-под ареста.
Отметим, что в мемуарных источниках и исследовательской литературе можно встретить упоминания о «прощении» целого ряда лиц, получивших то или иное административное наказание (М. Ф. Орлов, И. Г. Бурцов, Н. Н. Депрерадович и др.). Фактически это те, кто спасся от судебного преследования по итогам процесса, от более серьезного наказания. Вынесенное им наказание было, очевидно, значительно смягчено по сравнению с установленной «виновностью», что можно рассматривать как своеобразный акт «частичного прощения». Однако в точном смысле слова их, конечно, считать «помилованными» нельзя. Оказанное им «снисхождение» касалось лишь степени наказания, которое было существенно облегчено.
Обращаясь к традиции освещения деятельности в декабристских обществах лиц категории «прощенных», приходится признать, что «декабристский статус» этой группы выглядит менее определенным и выраженным, чем в случае пострадавших по «делу». Прощенным декабристам, их участию в конспиративных обществах уделяется значительно меньше внимания в трудах историков. Не нашли более или менее подробного отражения в исторической литературе и особенности официального расследования в отношении декабристов, освобожденных от наказания.
В этой связи следует обратиться к библиографическим указателям декабристоведческой литературы[12], которые отражают и обобщают реальную практику включения того или иного лица в число декабристов, наблюдаемую в научной литературе. Выясняется, что среди прощенных или не привлекавшихся к процессу лиц к декабристам отнесены: все четыре раза – В. Д. Вольховский (несомненно, благодаря близости к А. С. Пушкину и своему участию в декабристских обществах после 1821 г.), основатель «Ордена русских рыцарей» М. А. Дмитриев-Мамонов, И. А. Долгоруков (вероятно, благодаря участию в Петербургском совещании руководителей Союза благоденствия 1820 г. и упоминанию в 10-й главе «Евгения Онегина» А. С. Пушкина); три раза – участники Союза спасения и Союза благоденствия П. А. Катенин, П. П. Каверин и П. С. Пущин (прежде всего, благодаря литературному наследию и дружеским связям с Пушкиным), один из видных участников ранних тайных обществ Петр И. Колошин (вследствие активной роли в Союзе спасения и Союзе благоденствия), входивший в руководство Союза благоденствия художник Ф. П. Толстой, а также известные в истории русского общественного движения Г. А. Римский-Корсаков и П. Я. Чаадаев; два раза – С. Н. Бегичев, В. А. Глинка, С. В. Капнист, откровенный на следствии Н. И. Комаров, литератор С.Е. Раич, еще один участник совещаний руководства Союза благоденствия в 1820 г. И. П. Шипов, а из членов более поздних тайных обществ – прощенный после допроса с участием императора А. А. Суворов.
Наибольшее число новых признаний в «декабристском статусе» фиксируется в последнем по времени библиографическом справочнике 1994 г. В нем к числу декабристов впервые отнесены некоторые из членов Союза благоденствия, не привлекавшиеся к следствию: Ф. В. Акинфов, В. И. Белавин, М. А. Волков, П. П. Трубецкой, А.А. Челищев, А. В. Шереметев, С.П. Шипов и даже М. К. Грибовский, автор доноса на Союз благоденствия. Из числа участников более поздних обществ здесь впервые значатся в ранге декабристов Ф. В. Барыков и участник восстания 14 декабря, не понесший наказания, Н. А Колончаков.
Обратная тенденция (сначала признание в ранге «декабриста», а затем лишение этого статуса) также имела место. Так, только в первых справочниках (1929 и 1960 гг.) в качестве декабристов признавались участники тайных обществ до 1821 г. Н. И. Кутузов, А. Я. Миркович, член Союза благоденствия и доносчик И. М. Юмин, член Северного общества, избежавший наказания, А. Ф. Моллер, а в последующих справочниках они уже были вынесены за пределы этой группы.
Ни разу не были отнесены к числу декабристов освобожденные без наказания бывшие участники тайных обществ, сделавшие значительную карьеру в следующее царствование: А. А Кавелин, В. О. Гурко, братья В. А. и Л. А. Перовские, брат П. И. Пестеля В. И. Пестель, литератор одиозной репутации А.Ф. Воейков, некоторые другие бывшие члены Союза благоденствия (В. М. Бакунин, О. П. Богородицкий, Н. П. Годеин, А. А. Оленин, П. Н. Семенов, П. В. Хавский), а из участников событий 14 декабря – конноартиллеристы А. Г. Вилламов, А. И. Гагарин, К. Д. Лукин, офицер Гвардейского морского экипажа Д. Н. Лермантов, прощенный на первом допросе императором С. Н. Жеребцов. Ни разу не был признан декабристом П. П. Лопухин, довольно влиятельная фигура в ранних тайных обществах.
Все эти наблюдения говорят об одном: статус группы прощенных участников тайных обществ остается в целом неопределенным. Зачастую их относят к «недекабристам», определяя как лиц, привлекавшихся к следствию по делу декабристов. Очевидным свидетельством неустойчивого и противоречивого положения этой группы участников декабристской конспирации является тот факт, что в рамках одного справочника их относят как к декабристам, так и к «недекабристам»[13]. Такова ситуация с В. Д. Вольховским, И. А. Долгоруковым, А. А. Суворовым, И. П. Шиповым. В справочнике 1929 г. одновременно и декабристами, и «недекабристами» обозначены М. А. Дмитриев-Мамонов, Н. И. Комаров, М. Н. Муравьев, ставший известным впоследствии как жестокий «усмиритель» восстания в Польше и Литовском крае. Следовательно, в их отношении у составителей указанных справочников имелись определенные сомнения. Ситуация принципиально не изменилась и к настоящему времени. В справочнике 1994 г. то же произошло с Ф. П. Толстым, статус которого остается противоречивым и не проясненным – декабрист он или нет? В этом же положении оказался участник Союза спасения Ф. М. Свободской.
В качестве причин, вследствие которых участники тайных обществ исключались из числа декабристов или вообще не могли претендовать на такой статус, выступали следующие факты и обстоятельства: ранний отход от тайного общества и неучастие в движении после 1821 г., дальнейшая благополучная карьера после 1826 г., противоречивость общественной репутации (наиболее показателен в этом отношении случай М. Н. Муравьева, который, за исключением справочника 1929 г., ни разу не был отнесен к разряду декабристов). Но, пожалуй, определяющим фактором, влиявшим на включение того или иного лица в число декабристов в исследовательской традиции, следует признать отсутствие наказания по итогам следственного процесса.
В исторической литературе нет специального исследования, посвященного вопросу о прощении привлеченных к следствию по «делу декабристов», в котором бы освещались степень виновности этих лиц и причины их освобождения от наказания. В работах о следствии и суде можно обнаружить только упоминания фактов прощения и освобождения без наказания некоторых декабристов. Так, в монографическом исследовании процесса декабристов, принадлежащем В. А. Федорову, констатируются факты освобождения от наказания некоторых подследственных – участников тайных обществ, однако данный круг сюжетов не вызвал у автора специального интереса[14]. Содержание книги оказалось сосредоточенным вокруг главной линии следствия и основной группы подследственных – наказанных по приговору суда. Факты прощения и освобождения от наказания не получили сколько-нибудь развернутого освещения. Лишь в последние годы историки стали уделять значительно больше внимания этим сюжетам[15].
Литература собственно о прощенных декабристах немногочисленна; еще меньше исследований, которые бы затрагивали деятельность этих лиц как членов тайных обществ, освещали их привлечение к следствию по делу декабристов. Из числа тех, кому посвящены отдельные исследования, в первую очередь необходимо упомянуть Ф. П. Толстого[16], Петра И. Колошина[17] и М. Н. Муравьева, участие которого в декабристских союзах стало предметом внимания в биографических статьях декабриста А. Е. Розена, П. Е. Щеголева и давней биографии Д. А. Кропотова[18]. Достаточно большой интерес привлекла к себе фигура В. Д. Вольховского, декабристскому прошлому которого посвящены исследование B. C. Шадури, статьи Н. А Гастфрейнда и Н. Е. Мясоедовой[19]. Участие П. Я. Чаадаева в тайных обществах декабристов рассматривали в своих работах Д. И. Шаховской и Ф. И. Берелевич[20]. Хорошо известно исследование Ю. М. Лотмана о М. А. Дмитриеве-Мамонове, в котором подверглись анализу программные документы первой организации декабристского ряда «Орден русских рыцарей» [21]. К числу содержательных работ о видном участнике движения тайных обществ, оставленном следствием «без внимания», без сомнения, относится исследование Ю. Г. Оксмана о П. А Катенине[22]. Кроме того, имеются работы о таких избежавших наказания участниках Союза благоденствия, как В. А. Глинка[23] и С. Н. Бегичев[24]. Можно отметить еще немаловажные публикации и исследования В. Г. Бортневского о П. С. Пущине[25]. Из приведенных выше данных нетрудно заметить, что причины обращения к биографическим исследованиям о малоизвестных членах тайных обществ в своей подавляющей части не были связаны с политической деятельностью этих лиц в декабристских союзах, а определялись, главным образом, их литературным и мемуарным наследием, либо их участием в культурной жизни современной им эпохи, последующей контрастной биографией и политическим обликом (М. Н. Муравьев).
На современном этапе изучения интерес к «уцелевшим декабристам» в значительной степени усилился в связи с публикацией следственных дел участников тайных обществ, не преданных суду[26]. Историки приступают к изучению особенностей расследования, проводившегося в отношении «малозамешанных» лиц, выяснению мотивов состоявшихся решений о «прощении» установленной вины, выявлению внутренней структуры группы освобожденных от наказания. В этом контексте стоит особо выделить сопроводительную статью и комментарии А. В. Семеновой к публикации следственных дел членов Союза благоденствия в недавно вышедшем XX томе документальной серии «Восстание декабристов». В последние годы участники тайных обществ, освобожденные от наказания, стали предметом изучения в работах, посвященных Н. И. Кутузову, А. В. Семенову, П. В. Хавскому, О. П. Богородицкому[27].
Заявленное направление исследования позволяет прояснить несколько важных проблем в изучении истории декабристов. Во-первых, оно способствует дальнейшему анализу особенностей следственного процесса, квалификации «вины» различных категорий обвиняемых. Во-вторых, рассмотрение конкретных обстоятельств «высочайшего прощения», официально заявленных и действительных мотивов актов помилования, создает необходимую основу для оценки причин освобождения от наказания и влияния посторонних факторов на ход следствия. В-третьих, привлечение исследовательского внимания к «малоизвестным» участникам тайных обществ и военных выступлений декабристов, прощенным в ходе следствия, позволит осветить некоторые страницы в истории декабризма, ранее не привлекавшие внимания историков.
В рамках настоящей работы предпринята попытка заполнить лакуны в представлениях о группе прощенных и освобожденных от наказания, о расследовании, которое велось в их отношении в рамках следственного процесса. При этом мы стремились очертить границы и внутреннюю структуру группы, осветить степень виновности «прощенных декабристов», выявленную следствием, проанализировать причины помилования и освобождения от наказания, в том числе не вызванные внутренней логикой следствия.
10
См. главы 2 и 3.
11
Согласно нормам уголовно-процессуального права изучаемой эпохи, арест во время следствия не являлся наказанием, если он не был признан таковым последующим решением судебно-следственных органов.
12
Ченцов Н. М. Восстание декабристов. Библиография. М.; Л., 1929; Движение декабристов: Указатель литературы 1928–1959 / Сост. Р. Г. Эймонтова. М., 1960; Движение декабристов: Указатель литературы. 1960–1976 / Сост. Р. Г. Эймонтова. М., 1983; Движение декабристов. Указатель литературы. 1977–1992 / Под ред. С. В. Мироненко. М., 1994.
13
Речь идет о той ситуации, когда в справочнике одно и то же лицо включено в персональную рубрику «Декабристы», но не отнесено к декабристам в именном указателе.
14
Федоров В. А. «Своей судьбой гордимся мы…» Следствие и суд над декабристами. М., 1988. С. 64, 66. Автор справедливо отмечает, что среди освобожденных от наказания находились и действительные члены тайных обществ. Вместе с тем, в этом единственном специальном исследовании, посвященном следствию, достаточно часто можно встретить следы устоявшейся, традиционной точки зрения о невиновности всех освобожденных: таково, например, заключение автора о том, что освобождение с «оправдательным аттестатом» происходило, «если арестованный оказывался непричастным к тайному обществу» (С. 107). Тем самым исследователь прошел мимо того факта, что освобождение от наказания в ряде случаев состоялось, несмотря на вскрытое следствием участие в тайном обществе. Кроме того, сообщение автора о том, что А. А. Суворов, А. Г. Вилламов и Л. П. Витгенштейн были освобождены от следствия с «оправдательными аттестатами» (С. 66), – не соответствует действительности. Суворов и Вилламов, как прощенные императором в первые дни следствия, еще до начала регулярных заседаний Следственного комитета, освобождались без каких-либо оправдательных документов (см. об этом в настоящей главе); Витгенштейн, не подвергавшийся аресту и заключению, также не получил «аттестата».
15
Семенова А. В. Предисловие // ВД. Т. XX. С. 7–20; Ильин П. В. «Государь! Исповедую тебе яко боящийся бога!» Прошения родственников декабристов о помиловании арестованных // Исторический архив. 2001. № 1. С. 156–158. [сопроводительная статья к публикации].
16
Коваленская Н. Н. Художник-декабрист Ф. П. Толстой // Очерки из истории движения декабристов. М., 1954. С. 516–560; Комарницкая Ж. О. Библиотека декабриста Ф. П. Толстого // Проблемы библиографии и библиотековедения. Л., 1976. Вып. 12. С. 105–115; Кузнецова Э. В. Федор Петрович Толстой. 1783–1873. М., 1977.
17
Вейс А. Ю.: 1) Петр Колошин – автор послания «К артельным друзьям» // Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. М., 1956. С. 541–554; 2) Автобиографическая записка декабриста Петра Колошина // Пушкин и его время. Л., 1962. С. 290–295; Калантырская И. С. П. И. Колошин и «Священная артель» // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 247–260.
18
Кропотов Д. А. Жизнь графа Муравьева в связи с событиями его времени. СПб., 1874; Розен А. Е. М. Н. Муравьев и его участие в тайном обществе // Русская старина. 1884. Т. 41. № 1. С. 61–70; Щеголев П. Е. Граф М. Н. Муравьев – заговорщик// Современник. 1913. № 1. С. 301–326.
19
[Малиновский И. В.] О жизни генерал-майора Вольховского. Харьков, 1844; Гастфрейнд Н. А. Товарищи Пушкина по Царскосельскому лицею. Материалы для словаря лицеистов первого курса. 1811–1817. СПб., 1912. Т. 1. С. 1–286; Шадури В. С. Покровитель сосланных на Кавказ декабристов и опальных литераторов: Неизвестные материалы о лицейском друге Пушкина В. Д. Вольховском. Тбилиси, 1979; Афанасьев В. В. Декабрист В. Д. Вольховский // Афанасьев В. В. События и судьбы. Б. м., 1992. С. 7–10; Мясоедова Н. Е. Друг Пушкина – В. Д. Вольховский // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 27. СПб., 1996. С. 172–187.
20
Шаховской Д. И. 1) Якушкин и Чаадаев // Декабристы и их время. [Сб. ст.] Т. 2. М., 1932. С. 161–203; 2) П. Я. Чаадаев на пути в Россию в 1826 г. / Публ. и вступ. ст.д. И. Шаховского // Литературное наследство. Т. 19/21. М., 1935. С. 16–32; Берелевич Ф. И.: 1) Чаадаев и декабристы // Учен. зап. Тюменского гос. пед. ин-та. 1958. Т. 5. Вып. 2. С. 157–177; 2) Был ли П. Я. Чаадаев членом Союза благоденствия // Учен. зап. Тюменского гос. пед. ин-та. 1962. Т. 15. Вып. 3. С. 66–75.
21
Лотман Ю. М. М. А. Дмитриев-Мамонов – поэт, публицист и общественный деятель// Учен. зап. Тартуского ун-та. Тарту, 1959. Вып. 78. С. 19–92.
22
Воспоминания П. А. Катенина о Пушкине / Вступ. ст. и примечания Ю. Г. Оксмана// Литературное наследство. Т. 16/18. М., 1934. С. 619–656.
23
Яровой Ю. Странный генерал Глинка // Рифей. Уральский литературно-краеведческий сб. Челябинск, 1976. С. 159–223.
24
Глаголева О. Е. Книги с пометами декабриста С. Н. Бегичева в Туле // Русские библиотеки и их читатели. Л., 1983. С. 217–226. О Бегичеве см. также: Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. М., 1977.
25
Бортневский В. Г. Дневник декабриста П. С. Пущина // Вестн. ЛГУ. Сер. 2. История. Языкознание. Литературоведение. 1986. Вып. 4. С. 27–33; Бортневский В. Г., Анисимов Е. В. Новые материалы о П. С. Пущине // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1988. С. 157–161.
26
Восстание декабристов. Документы. Т. XVIII–XX. М., 1984–2001.
27
«Истинное изображение нравственного состояния войск». Записка декабриста Н. И. Кутузова Николаю I 1826 г. / Публ. А. В. Семеновой // Исторический архив. 2000. № 6. С. 30–45; Ильин П. В.: 1) Из истории либеральной публицистики 1810-1820-х гг.: Н. И. Кутузов и его статья «О причинах благоденствия и величия народов»// Общество и власть: Межвуз. сб. науч. трудов. СПб., 2001. Ч. 1. С. 104–116; 2) Записки члена Союза благоденствия Н. И. Кутузова к императору Николаю I: К изучению эволюции «декабристского либерализма» после 1825 г. // История глазами историков: Межвуз. сб. науч. трудов, посвященный 70-летию проф. Е. Р. Ольховского. СПб.; Пушкин, 2002. С. 45–65; 3) К характеристике политических взглядов членов Союза благоденствия: новонайденные записи А. В. Семенова (1821 г.) // Власть и общество. Матер. всероссийской науч. конф. СПб., 2003. С. 57–65; Трибунский П. А.: 1) Жизнь и деятельность О. П. Богородицкого // Вопросы истории. 2001. № 6. С. 137–141; 2) Из биографических разысканий: П. В. Хавский// 14 декабря 1825 года: Источники, исследования, историография, библиография. СПб.; Кишинев, 2001. Вып. 4. С. 469–476.