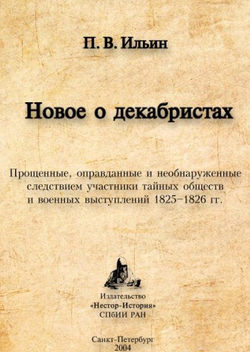Читать книгу Новое о декабристах. Прощенные, оправданные и необнаруженные следствием участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг. - П. В. Ильин, Павел Ильин - Страница 7
Глава 1
«Простить… заблуждения прошедшие»
Участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг., освобожденные от наказания
Ход и результаты расследования в отношении различных категорий освобожденных от наказания
ОглавлениеРассмотрим особенности ведения следствия в отношении каждой из групп освобожденных от наказания лиц, обнаруживших свою принадлежность к тайному обществу.
1. «Высочайше прощенные» после первых допросов
В первые дни расследования состоялось «высочайшее прощение» нескольких лиц, об участии которых в тайном обществе на момент помилования или позднее были получены убедительные данные. Наиболее известная и колоритная фигура в группе освобожденных «по высочайшему повелению» в первые дни следствия – Петр Иванович Колошин. Петр Колошин – один из давних участников тайного общества. Он состоял членом Союза спасения, Военного общества и Союза благоденствия, занимал видное место среди руководителей последнего (член Коренного совета). Представитель поколения основателей тайных обществ, Колошин принимал деятельное участие в составлении устава Союза благоденствия «Зеленой книги»; он же перевел на русский язык первоисточник этого документа – опубликованный устав немецкого «Тугендбунда». С 1819 г. Колошин возглавлял одну из московских управ тайного Союза, участвовал в Московском съезде 1821 г., который вынес решения о закрытии Союза благоденствия и учреждении нового тайного общества.
Следствие располагало показаниями о том, что Колошин формально отошел от руководства тайным обществом после Московского съезда 1821 г., но продолжал встречаться с некоторыми его членами вплоть до событий 14 декабря 1825 г., о чем говорили первые показания С.П. Трубецкого. 25 декабря было отдано распоряжение об аресте Колошина[80]. В тот же день на единственном допросе у В. В. Левашева в присутствии Николая I сам Колошин обнаружил круг связей (С. П. Трубецкой, И. И. и М. И. Пущины, Е. П. Оболенский, К. Ф. Рылеев), которые свидетельствовали о продолжении его контактов с деятелями конспиративного общества. Вместе с тем, на допросе Колошин представил тайное общество, в котором состоял, как просветительскую организацию; причастность к политическим целям и намерениям отверг. Как позже писал сам Колошин императору «…угодно было простить мне заблуждения прошедшие и поверить настоящему образу мыслей моих» [81]. После разбора бумаг и упомянутого допроса Петр Колошин «по высочайшему повелению» был освобожден[82]. В дальнейшем в руках следователей появились новые обвиняющие показания: по утверждению Е. П. Оболенского, Колошин знал о продолжении тайного общества после 1821 г., о существовании Северного общества, политических планах тайного общества[83]. Но это не повлекло за собой никаких дополнительных разысканий, не состоялось и привлечение к ответственности уже прощенного императором лица.
Согласно справке «Алфавита» Боровкова, юнкер л.-гв. Конного полка Александр Аркадьевич Суворов «при допросе отвечал, что, узнав от Одоевского, что есть люди, желающие блага государству и занимающиеся сим, он согласился взять в том участие, ежели не увидит ничего противного чувствам и совести. Более ничего не знал и ни с кем из членов сношений не имел»[84]. В этом достаточно лаконичном тексте справки содержится множество недоговоренностей. Сведения, собранные следствием и не учтенные в справке, несомненно, являлись с точки зрения обвинения более значительными. При обращении к записи самого допроса, проведенного Левашевым, обнаруживается более полная картина. В ответ на вопрос: «Что вы знали про общество тайное?» Суворов показал: «Прошедшею весною к[нязь] Одоевский с[о] мною заговаривал о чужих краях и о том, что я заметил[85], после чего он… уверил меня, что есть общество людей, желающих блага Государства, которые им занимаются, и на коих считать можно. Я согласился взять в них участие…». Признавшись тем самым в своем вступлении в тайное общество, Суворов убеждал: «В сношении с другими участниками сего я не был. О 14-м числе я ничего не знал. За три дня Одоевский спрашивал меня, что я буду делать, если велено будет присягать?.. Я сказал, что буду действовать с полком»[86].
Таким образом, на допросе Суворов признал, что весной 1825 г. согласился участвовать в обществе, члены которого «занимались» государственным «благом» (цель и содержание занятий не раскрываются), но при этом сопроводил свое признание смягчающим обстоятельством: он согласился вступить только на условии, если не найдет в этом сообществе «ничего противного чувствам и совести».
При достаточно нечеткой формулировке цели тайного общества большое значение приобретало утверждение Суворова о его неосведомленности о заговоре 14 декабря, а в особенности обозначенные им «принципы» своего согласия участвовать в обществе, очень близкие традиционным дворянским ценностям верности служебному долгу, официально декларируемым и поощряемым Николаем I. Если бы такие формулировки содержались в первых показаниях других арестованных, то, возможно, число наказанных по итогам процесса могло несколько уменьшиться. В результате Суворов был «по снятии… допроса по высочайшему повелению тогда же освобожден»[87].
Между тем, сведения, полученные на единственном «предварительном» допросе, состоявшемся 23 декабря, и лишь частично отраженные в справке «Алфавита», не содержат главного. Вовлеченность Суворова в тайное общество, как выяснилось сразу же из показаний других лиц, была существенно большей. Почти одновременно с прощением следствие получило данные о том, что Суворов входил в число участников Южного общества в Петербурге. Глава Петербургского филиала Южного общества П. Н. Свистунов на своем первом допросе 23 декабря[88], а также состоявшие в этом филиале А. С. Горожанский (еще ранее, 19 декабря), Ф. Ф. Вадковский (до 23 декабря) и З. Г. Чернышев (конец декабря) назвали Суворова среди своих сочленов. Тогда же, в конце декабря 1825 г. и начале января 1826 г., последовали показания об участии Суворова в тайном обществе от А. А. Бестужева и Е. П. Оболенского. Позднее, 26 апреля 1826 г., поступили показания от A. M. Муравьева, который назвал лицо, принявшее Суворова в петербургский филиал Южного общества – С. И. Кривцова, много лет учившегося за границей вместе с Суворовым. Муравьев свидетельствовал также о том, что лично сообщил Суворову план военного выступления, разработанный Оболенским и другими лидерами заговора[89]. Чрезвычайно характерны в этой связи показания А. И. Одоевского: в них речь идет о том, что принятого Одоевским корнета А. Е. Ринкевича затем, «со своей стороны», принял Суворов: иначе говоря, Суворов активно действовал как участник Петербургской организации Южного общества[90].
Мемуарное свидетельство М. И. Пущина дополняет картину: находясь во время следствия в крепости, он оказался соседом СИ. Кривцова, принявшего Суворова в тайное общество. Пущин убедил Кривцова не называть имени Суворова в своих показаниях: «Суворова я просил его не называть, потому что он еще в декабре был призываем государем, прощен и произведен в корнеты… Впоследствии Суворов мне сказал, что показание Кривцова могло бы его погубить»[91]. Кривцов действительно не назвал Суворова в своих показаниях. Таким образом, на следствии выяснилось, что Суворов непосредственно входил в число петербургских «южан» – как известно, радикально настроенных, ориентированных П. И. Пестелем и М. И. Муравьевым-Апостолом на установление после переворота республиканского правления, знал о планах выступления 14 декабря и принимал в тайное общество новых членов. Налицо был достаточно серьезный с точки зрения «состав преступления», который в других случаях вел подследственного к преданию Верховному уголовному суду и суровому приговору. Но в случае Суворова этого не произошло.
Большой объем обвиняющей информации об участии Суворова в Южном обществе, возможной его осведомленности о «республиканской цели», об участии в заговоре 1825 г. и знании им плана восстания фактически не был учтен следствием, причастность его к декабристскому обществу в итоговых документах расследования ограничилась по существу сообщением о неясных контактах с Одоевским, при том что показания подследственных содержали достаточно конкретные сведения о деятельности Суворова в тайном обществе. Несмотря на собранный следствием обвинительный материал, распоряжения о новом привлечении Суворова к процессу не последовало. Во всяком случае, не сохранилось никаких следов запроса Комитета о новом аресте Суворова, дальнейшие разыскания о нем не проводились. Прощение, дарованное ему императором после «предварительного» допроса, не было нарушено.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что справка «Алфавита» Боровкова не в полной мере отражает факт признания Суворовым своего участия в тайном обществе, равно как и другую, полученную следствием позднее, информацию. Видимо, после «высочайшего прощения» сбор и анализ поступавших обвинительных данных, касающихся освобожденных от следствия лиц, прекращался или значительным образом ослабевал. Кроме того, сам факт прощения накладывал свою печать на последующую обработку данных: обвинительные показания в данном случае существенно смягчались. В результате этого в тексте итогового справочного документа следствия было значительно ослаблено серьезное обвиняющее значение установленного факта знакомства Суворова с целью тайного общества, его вступления в конспиративный союз.
Рассказ об освобождении А. А. Суворова – внука знаменитого полководца, прощенного императором, с течением времени приобрел характер исторического анекдота. Он, как правило, не содержал упоминаний об участии Суворова в тайном обществе, которое стало известно следствию из целого ряда показаний. В этой традиции, чаще всего, «замешанный в событиях» Суворов предстает как человек, арестованный по ошибке, невинно, только вследствие дружбы с некоторыми из заговорщиков. В качестве основания для привлечения его к допросу выступают «связи» молодого человека, его «высказывания» и лишь иногда глухо, в предположительном смысле упоминается участие в тайных обществах: «…возможно, некоторые [его] действия должны были повлечь за собой суровые последствия». Но в этом случае особенно наглядно проступают намерения императора освободить Суворова: «Вопросы государя… были составлены так, что осужденный неминуемо должен был быть оправдан. Казалось, его допрашивал не судья, но защитник…» [92].
Варианты этого рассказа были не раз опубликованы; некоторые из них повествуют о реальном участии в заговоре Суворова, который «принес повинную голову» императору[93]. Чаще всего они воспроизводились как яркое свидетельство справедливости, благородства и великодушия Николая I, который простил и освободил нескольких лиц, «не причастных к заговору». Не совсем логичное построение рассказов (за что же прощать, если виновность заключалась только в дружеских связях с некоторыми заговорщиками?) затенялось яркими красками благородного поступка императора, простившего внука Суворова:
«– Как, и ты здесь?
– Я не виноват, Государь!..
– Даешь слово?
– Даю.
– Ступай домой; внук великого Суворова не может быть изменником отечеству…»[94].
Как утверждают другие рассказы, в ходе допроса вполне выяснилась невиновность Суворова. Освобожденный впоследствии сам любил вспоминать об этом эпизоде своей биографии[95]. Этот случай – яркий пример того, как в анекдотических рассказах прощение императором выявленной вины участника заговора трансформировалось в представление о справедливом решении монарха, освободившего невиновного (или мало виновного) человека, «случайно» вовлеченного в следственный процесс.
По оценке современных исследователей, Суворову «было сделано несомненное снисхождение»[96]; один из деятельных участников тайного общества в Петербурге был освобожден от следствия и расследование в его отношении полностью прекращено.
Корнет л.-гв. Конного полка Федор Васильевич Барыков был арестован и привлечен к следствию на основании доноса И. В. Шервуда, узнавшего об участии его в тайном обществе от своего главного источника информации – Ф. Ф. Вадковского. На допросе, состоявшемся между 15 и 18 декабря и записанном Левашевым, Барыков показал, что «в октябре 1825 года, во время проезда его через Курск, Вадковский открыл ему существование общества, желавшего представительного правления, сказав, что общество сие в сношении с чужими краями и что Бенжамен Констан занимается приготовлением конституции. Описав пленительными красками картину будущего, Вадковский вопросил его: „Не правда ли, что вы разделяете мои мысли?“. Отвечая утвердительно, Барыков присовокупил, что он полагает, что конституция могла бы доставить благоденствие»[97]. После допроса, снятого Левашевым, как гласит справка «Алфавита», Барыков был «по высочайшему повелению освобожден».
Дальнейшее следствие в его отношении не проводилось, несмотря на полученные вскоре данные, подтверждавшие знание им цели тайного общества – достижения конституции. Об участии Барыкова в тайном обществе показали на первых своих допросах Ф. Ф. Вадковский (до 23 декабря), П. Н. Свистунов (23 декабря) и З. Г. Чернышев (конец декабря). 29 декабря Свистунов показал, что в конце ноября 1825 г. Барыков, прибыв в Петербург, привез ему записку от Вадковского, в которой говорилось о принятии Барыкова в тайное общество[98]. В своих показаниях от 6 января 1826 г. Вадковский отверг свидетельство Барыкова о том, что он говорил о сочинении Б. Констаном конституции для России, и просил очной ставки. Она не состоялась, так как Барыков к тому времени был прощен и освобожден от следствия[99].
На первом заседании Следственного комитета 17 декабря было отдано распоряжение об аресте Барыкова, о чем сообщалось в докладной записке императору. Последовала резолюция Николая I: «Оставить под присмотром». На заседании Комитета 18 декабря, согласно его «журналу», военный генерал-губернатор Петербурга П. В. Голенищев-Кутузов взял на себя распоряжения о надзоре за Барыковым[100]. Поступавшие сведения заставили следователей снова обратить внимание на Барыкова как участника тайного общества. Новое решение об его аресте Комитет принял после того, как в его распоряжении к 23 декабря оказались записи первых допросов Вадковского и Свистунова. Сохранилась докладная записка о заседании Комитета 24 декабря 1825 г., включающая фамилию Барыкова в число лиц, которых нужно арестовать. Однако эта фамилия была отмечена Николаем I крестиком на полях. Помета А. И. Татищева гласила: «Высочайше повелено исполнить, кроме означенных крестиком рукою императора… 24 декабря»[101]. Следовательно, Барыков, после того как был прощен императором, фактически исключался из числа подследственных. Император ограничился учреждением временного надзора. Характерно, что прощение Барыкова, несмотря на выявленное участие в тайном обществе, приравнивало его в мнении наблюдателей к «невинным» и «очищало» от подозрений в участии в заговоре, о чем свидетельствует разговор императрицы Александры Федоровны и А. Ф. Орлова[102].
Случай Семена Николаевича Жеребцова осложнялся подозрением в его участии в событиях 14 декабря на стороне восставших. Офицер Гренадерского полка, он знал о заговоре от своих однополчан А. Н. Сутгофа, Н. А. Панова, А. Л. Кожевникова, знал он и об их намерениях поднять полк. Об этом стало известно из первого допроса Сутгофа, записанного вечером 14 декабря Левашевым, а через несколько дней К. Ф. Рылеев показал, что Жеребцова наряду с другими офицерами-гренадерами принял в тайное общество П. Г. Каховский[103]. Это, очевидно, стало основанием для ареста Жеребцова и привлечения к следствию.
При допросе, записанном Левашевым, Жеребцов сообщил о том, «что Сутгоф открыл ему все намерения, но он, не входя в его виды, отвечал ему, что во всех полках присягнули, и что пустое затевает». Речь шла, таким образом, только о «намерениях» отказаться от присяги и участвовать в выступлении; вопрос об участии в тайном обществе был обойден. Следствие не располагало данными об участии Жеребцова в самом мятеже (неизвестно, собирались ли данные о поведении этого офицера 14 декабря, как это делалось в отношении других заговорщиков-гренадер, не выведенных за пределы следствия). В итоге Жеребцов «после предварительного допроса по высочайшему повелению освобожден», дальнейшее расследование было прекращено. Как отмечает справка «Алфавита», «при производстве следствия никто не сделал на него никакого показания»[104]. В действительности дело обстояло не так: другой офицер Гренадерского полка, А. Л. Кожевников, в своих показаниях от 28 января 1826 г. назвал Жеребцова членом тайного общества, сообщив, что он познакомился с ним в качестве заговорщика еще в дни междуцарствия – 28 ноября 1825 г. Тогда же, в январе 1826 г., Оболенский показал о присутствии Жеребцова на собрании заговорщиков-офицеров Гренадерского полка у Каховского 10 декабря 1825 г. Наконец, 14 мая 1826 г. Каховский сообщил следствию о том, что он лично принял в тайное общество Жеребцова и Кожевникова[105]. Однако справка «Алфавита» о Жеребцове предельно лаконична, налицо стремление не акцентировать внимание на обвиняющих его показаниях о вступлении в тайное общество.
На листе допроса Жеребцова Левашевым, состоявшегося в первые дни после 14 декабря (не позднее 21 декабря), имеется помета К. Ф. Толя: «По прочтении сих допросных пунктов государю его величество изволил простить Жеребцова». Здесь же другая помета: «Спросить, принадлежал ли и с какого времени к обществу и кем был принят», которая, видимо, не имела никаких последствий[106]. Таким образом, акт «высочайшего» прощения оказал определяющее влияние на то, что Жеребцов более не привлекался к следствию. Кроме того, прощение стало причиной неполного учета обвинительного материала в итоговых документах следствия.
Офицеры гвардейской Конной артиллерии А. Г. Вилламов, А. И. Гагарин, К. Д. Лукин, И. П. Коновницын и А. В. Малиновский приняли непосредственное участие в событиях 14 декабря 1825 г.: ранним утром этого дня они осуществили первую попытку сорвать присягу в гвардейской части. Попытка лишь частично увенчалась успехом: присяга была сорвана, однако присоединить конно-артиллерийскую роту к мятежным частям заговорщикам не удалось. Все офицеры, участвовавшие в сопротивлении присяге в Конной артиллерии, были арестованы при возвращении в свои казармы и содержались в последующие дни в казармах 1-й артиллерийской бригады[107]. Для следствия наиболее важным являлся вопрос о степени их причастности к заговору: участвовали ли они в тайном обществе, располагали ли сведениями о цели готовящегося выступления? Выяснение этого вопроса должно было составить главный предмет расследования. Однако в этот момент в распоряжении следователей еще не было данных о связях конноартиллеристов с руководителями заговора. Тем не менее, спустя два дня, 16 декабря, артиллерийские офицеры были прощены Николаем I[108]. В тексте справок «Алфавита» были отражены слова императора, сказанные, очевидно, при решении их участи: «что не желает знать и имен сих шалунов»[109]. Только один офицер-конноартиллерист был допрошен Левашевым, после чего также получил «высочайшее прощение»: более всех виновный в «беспорядках» Иван Коновницын, младший брат преданного суду П. П. Коновницына. По словам Г. И. Вилламова, отца одного из прощенных офицеров, И. Коновницын получил прощение только «ради заслуг покойного отца», героя 1812 г.[110]
Связи конноартиллеристов с заговорщиками открылись при дальнейшем расследовании. Следствие располагало показаниями о том, что конноартиллеристы соглашались принять участие в заговоре и военном выступлении. Эти обещания были даны И. Коновницыным и А. Малиновским Оболенскому и И. Пущину. Из показаний В. И. Штейнгейля выяснилось также, что днем 14 декабря, после организованных беспорядков, Лукин и Гагарин приезжали к И. Пущину и спрашивали о дальнейших действиях[111].
Акт прощения конноартиллеристов отмечен одной особенностью: на поздней стадии следствия И. Коновницын и А. Малиновский вновь были привлечены к ответственности и получили административное наказание[112]. Это тот редкий случай, когда прощение императора фактически оказалось отменено – правда, последовавшее наказание не отличалось строгостью. В числе первоначально прощенных были и те, кто позднее вновь привлекался к следствию, в итоге получил то или иное наказание или даже был предан суду (Ф. Н. Глинка, П. Х. Граббе, М. А. Назимов, Д. И. Завалишин)[113]. Данный факт говорит о том, что прощение, в случае открытия новых серьезно обвиняющих обстоятельств, теряло свою силу.
Прочие офицеры-участники событий 14 декабря – Артемий Григорьевич Вилламов, Александр Иванович Гагарин и Константин Дмитриевич Лукин к следствию больше не привлекались. В своих объяснениях причиной своего «проступка» они выставили желание получить у начальства обоснованные доказательства новой присяги[114]. Участие конноартиллеристов в беспорядках 14 декабря оказалось «снятым» «высочайшим прощением»; других обвиняющих показаний следствие не получило.
Немаловажным в этой связи представляется то обстоятельство, что прощенные офицеры принадлежали к влиятельным семействам, близким к императору, входившим в его окружение. Так, И. Коновницын был сыном недавно умершего военного министра П. П. Коновницына, А. И. Гагарин – обер-шталмейстера сенатора И. А. Гагарина, близкого к новой императрице Александре Федоровне, А. Г. Вилламов – секретаря императрицы-матери Марии Федоровны Г. И. Вилламова, занявшего вскоре должность управляющего IV Отделением Собственной канцелярии.
Отметим главное: значительная часть лиц, освобожденных от наказания в первые дни расследования, была прощена самим императором, в присутствии которого проходили допросы. Таким образом, роль императора в первые дни следствия была весьма значительной. Следует констатировать отсутствие каких-либо разысканий в отношении подавляющего большинства прощенных «по высочайшему повелению» в самом начале формального расследования.
2. Освобожденные с «оправдательными аттестатами» в ходе следствия и по его итогам
В ходе процесса и при его окончании были освобождены члены тайного общества, арестованные в начале следствия. Освобождение от ответственности осуществлялось с санкции императора и, как уже отмечалось, сопровождалось выдачей специального оправдательного документа – «аттестата».
Первым из числа выявленных участников тайных обществ получил «аттестат» командир Клястицкого гусарского полка полковник Федор Федорович Гагарин. Он был арестован на основе списка членов общества, представленного С. П. Трубецким 26 декабря 1825 г. Как было установлено следствием, в 1817 г. Гагарин вступил в Военное общество, существовавшее короткое время перед учреждением Союза благоденствия в Москве. В своих показаниях Гагарин подтвердил свое участие в этом обществе, настаивая на том, что вскоре «отстал» от него. Он сообщил, что на собраниях упомянутого общества говорили о «представительном правлении», однако отрицал знание политической цели тайного общества[115]. Оказавшиеся в распоряжении следствия показания других лиц (Е. П. Оболенского, В. А. Перовского, А. З. Муравьева) не добавили к факту участия Гагарина в тайном обществе ничего нового. Таким образом, Гагарин, как не принявший участия в обществе после 1821 г. и не знавший о политической цели, по степени причастности к делу уравнивался с не привлекавшимися к следствию членами Союза благоденствия. 2 февраля Комитет решил «представить» императору об освобождении Гагарина. Последовала резолюция: «Выпустить». 15 февраля ему первому был выдан «аттестат» новой формы для освобожденных членов тайного общества[116].
Одновременно был освобожден участник Союза благоденствия старший адъютант штаба Гвардейского корпуса штабс-капитан Николай Иванович Кутузов, публицист, автор статей, опубликованных на страницах журнала «Сын Отечества», и записок по проблемам социального и экономического положения России, обращенных на имя императора[117]. Имя Кутузова значилось в обширном перечне членов тайного общества, составленном Оболенским 21 января 1826 г., – правда, среди отошедших от конспиративных связей до 1821 г.[118] На первом допросе у Левашева, состоявшемся 25 января, Кутузов полностью отрицал свое участие в тайном обществе, однако на допросе в присутствии Следственного комитета признал свое участие в Союзе благоденствия, имевшем целью «распространение просвещения». Одновременно Кутузов настаивал на том, что не знал никаких политических намерений конспираторов. Других сведений следствие, обратившееся с вопросными пунктами о Кутузове к руководящим участникам Северного общества, не обнаружило. Оно пришло к выводу, что Кутузов состоял в Союзе благоденствия с начала его существования, но затем «отстал» от тайного общества. Итогом стало представление Комитета об освобождении Кутузова (2 февраля) и резолюция императора о своем согласии. После этого Кутузова неоднократно называли как участника двух тайных обществ, связанных с Союзом благоденствия: общества Ф. Н. Глинки и Измайловских офицеров, имевших целью введение «представительного правления». В обоих случаях в показаниях некоторых из участников этих обществ Кутузов фигурировал в качестве «начальствующего» члена; эти свидетельства стали причиной вызова Кутузова к допросам 7 и 8 мая 1826 г. – с санкции императора и не арестованным. В новых своих показаниях он полностью отрицал свое участие в указанных тайных обществах. Сведения об этой стороне деятельности Кутузова не нашли отражения в справке о нем в «Алфавите» Боровкова[119]. Таким образом, осведомленность Кутузова о политической цели тайного общества осталась неучтенной на следствии. Он был освобожден от наказания без учета показаний об этой осведомленности.
Кроме Гагарина и Кутузова, в ходе процесса были освобождены с «оправдательным аттестатом» еще несколько выявленных участников тайных обществ до 1821 г., по данным следствия не состоявших в более поздних обществах. «Высочайшая воля» о «скорейшем разрешении» участи 9 членов Союза благоденствия, находившихся под арестом, была оглашена на заседании Комитета еще 23 февраля, итоговые «записки» о них составлены к 9 марта, решение «дела» состоялось 18 марта. Все они получили административные наказания, и только двое, И. М. Юмин и Ф. Г. Кальм, совсем освобождались от ответственности[120].
Майор 12-го егерского полка Иван Матвеевич Юмин был арестован вследствие показаний Н. И. Комарова, раскрывшего круг известных ему участников Союза благоденствия, от 27 декабря 1825 г.[121] Знало ли петербургское следствие о роли Юмина – доносчика в «деле» М.Ф. Орлова-В.Ф. Раевского, вынося решение об аресте? Как известно, в ходе предварительного расследования по указанному «делу», еще в 1822 г., Юмин представил начальству записку, в которой сообщил о своем вступлении в Союз благоденствия. Тогда же, при допросах, он раскрыл детали приема, содержание «Зеленой книги», требования, предъявляемые к членам общества, указал на принявшего его А. Г. Непенина; Юмин фактически открыл существование Союза. Все эти обстоятельства, как можно уверенно считать, первоначально не были известны петербургскому следствию. В противном случае оно бы действовало так же, как в случае с М. К. Грибовским (который к следствию не привлекался) или с А. И. Майбородой и А. К. Бошняком (игравших роль «свидетелей обвинения»: будучи привезенными в Петербург, они не привлекались к допросам, хотя и дали дополнительные показания по делу). В отношении Юмина поступили иначе: его арестовали, отправив на гауптвахту Главного штаба, где содержались другие подследственные, главным образом арестованные участники Союза благоденствия. Нет сомнения, что его рассматривали как одного из мало замешанных членов тайного общества. Вскоре, при допросах Юмина, его роль в деле Орлова-Раевского вполне обнаружилась: сам подследственный был крайне заинтересован в этом, надеясь на скорейшее освобождение из-под ареста. Однако, что любопытно, данная информация не вызвала немедленного освобождения Юмина. Решение его участи не было отделено от решений по делам группы участников Союза благоденствия, находившихся под следствием и подвергнувшихся несудебному наказанию.
Собранный при расследовании материал о Юмине не выходил за пределы его принадлежности к тайному обществу до 1821 г.; сам Юмин отрицал знание политической цели общества. Сведения о доносе, сделанном им в 1822 г., были включены в «записку» о Юмине; резолюция императора на ней гласила: «Выпустить»[122].
Причины, по которым сначала не было обращено внимание на «донос» Юмина 1822 г., вероятнее всего, заключались в том, что сюжет о расследовании «дела» Раевского для петербургского следствия являлся периферийным. В этом случае значение сообщения Юмина о Союзе благоденствия 1822 г., которое не привело к своевременному открытию тайного общества, для расследования 1826 г. фактически сводилось к нулю. Тем не менее, император принял во внимание эти обстоятельства, что способствовало безоговорочному и полному освобождению Юмина от ответственности.
Генерал-майор Федор Григорьевич Кальм принадлежал к числу участников Тульчинской управы Союза благоденствия, о чем стало известно из доноса А. И. Майбороды и показаний С. П. Трубецкого от 23 декабря 1825 г. Эти сведения и послужили причиной ареста. Многие из привлеченных к следствию лиц утверждали, что Кальм отошел от тайного общества после 1821 г. Вместе с тем, имелись показания (Н. И. Комарова, П. И. Пестеля, С. Г. Волконского, И. Н. Хотяинцева), которые ясно говорили о том, что Кальм знал о существовании Южного общества, не отказывался от участия в нем, имел контакты с его участниками вплоть до конца 1825 г. Волконский даже считал его членом тайного общества после 1821 г., только не действовавшим; Пестель утверждал, что Кальм знал о введении конституционного правления как цели тайного общества. Все эти показания сам Кальм упорно отрицал, а известной ему целью декабристского союза, по его словам, являлось просвещение и благотворение. В «записке» о Кальме были собраны обвиняющие показания Хотяинцева, Пестеля и Волконского[123]; она вместе с другими «записками» о членах Союза благоденствия, находившихся под арестом, оказалась на рассмотрении императора не ранее 14 марта. Решение о Кальме тогда было отложено, помета Николая I гласила: «Рано выпустить». Очевидно, по его мнению, нужно было окончательно выяснить степень причастности Кальма к тайному обществу после 1821 г.
Однако вскоре ситуация изменилась в благоприятном для подследственного направлении: 18 апреля последовал высочайший приказ по военному ведомству об отставке Кальма, а 29 апреля он был освобожден[124]. В данном случае отставка «с мундиром и пенсионом полного жалованья» не являлась репрессивным актом, поскольку она состоялась по собственному прошению Кальма, поданному еще до ареста. С другой стороны, хотя это не было заявлено официально, дополнительный месяц, который Кальм провел под арестом, вполне может быть приравнен к административному наказанию (в связи с недоказанной на следствии принадлежностью к Южному обществу). Причиной этому могли послужить данные об особой активности Кальма как члена Союза благоденствия (особенно в деле принятия новых членов), что заставляло подозревать его в знании политической цели Союза, однако отдельного расследования этого вопроса не проводилось.
Некоторые участники тайных обществ находились под подозрением в том, что их роль в конспиративной деятельности была более значительной в сравнении с той, что обнаруживалась в их собственных показаниях. Решение их участи было отложено императором до завершения следственного процесса. К числу освобожденных по итогам следствия принадлежал чиновник министерства финансов надворный советник Алексей Васильевич Семенов.
А. В. Семенов – один из старейших участников тайного общества, состоявший еще в «преддекабристских» дружеских кружках (артель офицеров Генерального штаба братьев Муравьевых), а затем входивший в руководство Союза благоденствия, – он возглавлял одну из петербургских управ Союза. В показаниях от 21 января 1826 г. Оболенский сообщил, что Семенов принадлежал к обществу после 1821 г. Более того, находясь в 1825 г. в Петербурге, Семенов, по словам Оболенского, был извещен им о плане заговора и намерениях заговорщиков на 14 декабря. Следствие располагало и показаниями И. И. Пущина о принадлежности Семенова к тайному обществу после 1821 г. В частности, речь шла об участии Семенова в собраниях Московской управы Северного общества, учрежденной Пущиным. Из этого следовала, в том числе, и осведомленность Семенова в планах политических преобразований. В связи с показаниями Пущина и Оболенского Семенов был арестован и привлечен к следствию. На допросах и в своих письменных показаниях он утверждал, что после 1821 г. отошел от тайного общества, политической цели которого не знал, о заговоре и выступлении 14 декабря уведомлен не был. Семенов категорически и полностью отверг все предъявленные ему обвинения, в том числе на очных ставках с Пущиным и Оболенским[125]. Он настаивал на своем отходе от тайного общества при роспуске Союза благоденствия, занятиями которого были, по его словам, «просвещение и благотворительность»[126].
В итоговой «записке» о Семенове фиксировались обвиняющие показания Пущина и Оболенского, но оба свидетельства оценивались как «неосновательные»: утверждалось, что Семенов подходит под разряд не привлекавшихся к следствию членов Союза благоденствия и потому подлежит освобождению[127]. Причиной признания следствием уличающих показаний Оболенского и Пущина неосновательными стало решительное отрицание этих показаний самим Семеновым, а также то обстоятельство, что показания Пущина о политическом характере созданного им в Москве отделения тайного общества были отвергнуты большинством его участников. Особенно опасные для Семенова показания Оболенского о знании им намерения и плана выступления 14 декабря были категорически отвергнуты подследственным, с приведением собственной версии имевшего место разговора[128].
«Записка» о Семенове была подана императору по решению Комитета 15 апреля 1826 г., но по высочайшему повелению он был оставлен «на время» под арестом. 31 мая 1826 г., когда работа следствия близилась к концу, Комитет возобновил свое ходатайство об освобождении Семенова. 2 июня последовала резолюция Николая I: «Выпустить», 9 июня он получил «аттестат»[129].
Другой человек, судьба которого решилась в конце расследования, – отставной подполковник Михаил Николаевич Муравьев, впоследствии получивший известность как жестокий усмиритель польского национального движения в Литовском крае и западных губерниях в 1863 г. (граф Виленский; «Муравьев-вешатель»). В 1817 г. М. Н. Муравьев, благодаря своему старшему брату, основателю тайного общества Александру Николаевичу, сразу вошел в число руководителей тайного общества. При создании Союза благоденствия в конце 1817 г. он играл очень заметную роль, являясь одним из авторов его устава – «Зеленой книги», о чем согласно свидетельствовали многие участники тайного общества. Сам Муравьев занял на следствии четкую и бескомпромиссную позицию, от которой не отступил до конца расследования. Описывая собственное участие в тайном обществе, Муравьев настаивал на своем кратковременном «заблуждении», утверждал, что занятия общества ограничивались распространением «добрых нравов» и просвещения, что после 1821 г. никакими сведениями о тайном обществе он не располагал и в его действиях не участвовал. Он настойчиво пытался отвести от себя всякое подозрение в радикальных и вообще каких-либо политических устремлениях.
При этом принятая им тактика защиты отличалась особой наступательностью и активностью. Так, в своем письме на имя А. Х. Бенкендорфа он прямо заявлял, что рассчитывает на высочайшее прощение[130]. А. Н. Муравьев также всеми силами стремился убедить следствие в желании своего младшего брата выйти из тайного общества, в его постоянном стремлении удалить из общества радикально настроенных лиц, стремился доказать, что брат не участвовал в обсуждении планов политических перемен. С помощью своих ответов Михаил Муравьев оказал вполне определенное воздействие на членов Комитета; этому способствовали и показания его родственников, состоявших в тайном обществе. В «журнале» Комитета отразилось резюмирующее заключение после прочтения его показаний: «Был в Союзе благоденствия, но отстал еще прежде разрушения и по показаниям почти всех главных членов всегда был защитник мер кротких и умеренных, противился всем предложениям ко введению другого порядка в Союзе, могущего дать повод к замыслам и… требовал разрушения общества»[131]. Конечно, такого рода выводы способствовали снижению «важности» роли подследственного в конспиративных связях, ослабляя в конечном счете его вину и в глазах императора. Однако Якушкин, в противоположность тому, свидетельствовал о более активном участии М. Муравьева в тайном союзе. Он утверждал, что Муравьев знал о продолжении общества после 1821 г. и, следовательно, о его политических намерениях[132]а.
Михаил Муравьев находился в числе 9 участников Союза благоденствия, участь которых предполагалось решить до завершения следствия. Однако 18 марта на «записке» о Муравьеве Николай I написал: «Подождать»[133]. Участие Михаила Муравьева в собраниях в Москве в 1817 г. и на Московском съезде 1821 г., подозрения в принадлежности к декабристскому союзу после 1821 г., а также факт участия в руководящем Коренном совете в 1818–1821 гг. – все это способствовало отсрочке решения. Вновь вопрос о Муравьеве возник уже при завершении работ следствия 31 мая; 2 июня последовала высочайшая резолюция: «Выпустить»[134].
Если учесть то обстоятельство, что целый ряд участников Союза благоденствия, оказавшихся под арестом, подверглись несудебному наказанию только за факт данной ими в 1822 г. «ложной подписки» о непринадлежности к тайному обществу, т. е. за само участие в Союзе благоденствия, формально А. В. Семенову и М. Н. Муравьеву грозило такое же административное наказание: небольшой срок крепостного заключения, освобождение под надзор начальства или полиции, статус «прикосновенного» к делу. Можно было ожидать и более строгого наказания, – принимая во внимание тот факт, что решение их участи первоначально было отложено императором. Однако они были освобождены из-под ареста без каких-либо последствий. Несомненно, на избавление обоих от наказания повлияла жесткое отрицание ими прозвучавших обвинительных показаний.
Среди освобожденных от ответственности по результатам следствия оказались и участники выступления 14 декабря 1825 г., в том числе офицеры, принявшие самое непосредственное участие в мятеже. 15 июня 1826 г., вместе с резолюциями об административных наказаниях основной массы подследственных, император вынес решения о полном освобождении от наказания офицеров Гвардейского флотского экипажа, участников выступления 14 декабря: «Гвардейского экипажа лейтенантов Лермантова, Миллера и Цебрикова освободить немедленно и отправить в Гвардейский экипаж»[135].
Дмитрий Николаевич Лермантов был арестован вместе с другими офицерами экипажа, находившимися на Сенатской площади. Он вместе с основной массой офицеров-моряков находился в рядах восставших. Следствие не установило данных об участии его в тайном обществе или заговоре декабря 1825 г. Факт участия в мятеже смягчался тем, что Лермантов вскоре покинул восставшие части, не возбуждал солдат к мятежу и не возражал начальству[136]. Петр Федорович Миллер, согласно итоговой записке и справке «Алфавита», имел такой же «состав преступления»[137]. Александр Романович Цебриков, младший брат преданного Верховному уголовному суду Н. Р. Цебрикова, находился в рядах экипажа на Сенатской площади, но покинул их до разгрома мятежа[138].
На первый взгляд, очень важным представляется следующее обстоятельство: все перечисленные офицеры убедили следствие в том, что вышли на Сенатскую площадь, в надежде вернуть к порядку нижних чинов и находиться вместе со своей командой. Однако такое же обоснование причин присутствия в рядах восставших не было принято во внимание в других случаях – офицеры того же Гвардейского экипажа были наказаны административными наказаниями, а некоторые преданы Верховному уголовному суду. Факт полного освобождения участников мятежа от наказания по итогам процесса труднообъясним. Можно предположить, что на это решение императора оказали влияние следующие обстоятельства. Во-первых, все они не являлись ротными командирами экипажа; на последних лежала дополнительная ответственность: ведь они должны были не допустить вовлечения в мятеж подчиненных нижних чинов, поэтому вина их, как участников выступления, в глазах следствия, а особенно Николая I, в значительной степени увеличивалась (не случайно едва ли не все ротные командиры экипажа, ставшие участниками выступления, были преданы суду). Во-вторых, следствие не обнаружило каких-либо конкретных данных о причастности Лермантова, Миллера и Цебрикова к тайному обществу и заговору, в его распоряжении не было сведений о знании ими политических планов. В-третьих, не были выявлены следы их активного участия в событиях 14 декабря: по данным следствия, они не участвовали в возбуждении нижних чинов, не были заметны на самой Сенатской площади. В первые недели следствия, ранее перечисленных офицеров-моряков, по этим же причинам был освобожден от наказания их однополчанин, лейтенант Николай Алексеевич Колончаков[139]. Он был, по формулировке следствия, «оставлен без внимания», что означало заочное рассмотрение дела и освобождение от ответственности, однако известно, что все офицеры Гвардейского экипажа по возвращении в казармы вечером 14 декабря были задержаны и первоначально находились под арестом[140]. Очевидно, на некоторое время был арестован и Колончаков, вскоре освобожденный от следствия.
3. Члены тайных обществ и участники выступлений 1825–1826 гг., привлекавшиеся к следствию неарестованными
Среди участников тайных обществ, привлекавшихся к следствию, имеется группа лиц, вызывавшихся к допросу Следственного комитета по особому распоряжению императора без ареста или допрошенных без вызова в Комитет.
Такой способ привлечения к следствию был избран в отношении генерал-майора Павла Петровича Лопухина. Единственный сын первого сановника империи, председателя Государственного Совета и Комитета министров светлейшего князя Петра Васильевича Лопухина, конечно, являлся фигурой, представлявшей некоторую сложность для официального расследования. Вскрывшаяся принадлежность к тайному обществу потребовала, однако, привлечения Лопухина к процессу, но его положение в обществе и родственные связи создавали, несомненно, значительные затруднения при полноценном расследовании «состава преступления» и оказывали самое непосредственное воздействие на ход следствия.
В распоряжении Комитета достаточно быстро (через несколько дней после начала работы) оказались показания, свидетельствующие о том, что Лопухин стал членом общества еще в период Союза спасения. Эти показания не позднее 19 декабря дал Трубецкой, а 23 декабря Николай I писал Константину Павловичу: «Я жду Михаила Орлова и Лопухина, которые уже должны быть арестованы», – как видим, на этом этапе император считал нужным арестовать Лопухина[141]. Из показаний Трубецкого и Никиты Муравьева обнаружилась принадлежность Лопухина к руководящему органу Союза благоденствия – Коренному совету. Смягчающим обстоятельством служил лишь тот факт, что Лопухин не участвовал в наиболее «криминальных» эпизодах деятельности Союза благоденствия: в собраниях в Москве в 1817 г., совещаниях в Петербурге на квартире Ф. Н. Глинки в 1820 г. Однако тогда же стало известно о вступлении Лопухина в тайное общество после 1821 г. и его близких связях с Никитой Муравьевым в 1821–1822 гг. Вадковский и Свистунов в своих первых показаниях, данных не позднее 23 декабря, утверждали, что Лопухин принадлежал и к существовавшему после 1821 г. тайному обществу[142].
Имея в виду полученные к моменту первого допроса данные, Комитет запросил императора о том, нужно ли привлекать к следствию Лопухина – очевидно, на правах «обычного» подследственного. Николай I разрешил допросить его, но только неарестованным; при этом ничего не говорилось о том, как поступить с Лопухиным, если он признается в имевшихся против него обвинениях. Правда, такой вариант развития событий, видимо, едва ли был возможен.
Привлечение к расследованию сопровождалось личной встречей с Николаем I. При свидании с императором 28 декабря Лопухин отрицал свое участие в тайном обществе, однако на допросе и в письменных показаниях он сообщил о своем вступлении в конспиративное общество в 1817 г. и в возобновленный тайный союз в 1821 г. В отличие от многих членов Союза благоденствия, Лопухин не отрицал осведомленность о политических намерениях тайного общества, но вместе с тем настаивал на своем полном бездействии в качестве его участника[143]. В итоге ускоренного рассмотрения дела, пережив несколько тяжелых часов и сделав дополнительное письменное показание, Лопухин по высочайшему повелению был освобожден от наказания. Его освободили от дальнейшего расследования и признали, очевидно, не подлежащим наказанию. «Высочайшее повеление» об освобождении Лопухина после первого допроса фактически приравнивает его к прощенным в первые дни следствия участникам тайных обществ.
Дальнейшие показания о Лопухине следствием не учитывались. Характерно, что он, по-видимому, даже не был допрошен в связи с расследованием известного эпизода из истории тайных обществ – Московского заговора 1817 г.: как стало известно, письмо Трубецкого о предполагаемом намерении Александра I передать Польше ряд российских губерний было написано на основе информации, полученной от Лопухина (12 января 1826 г. император вынес решение о снятии показаний с Лопухина по этому вопросу, однако сведений о выполнении этого решения не обнаружено)[144].
В этой же форме (допрос без ареста) состоялось привлечение к следствию участника Союза благоденствия и Южного общества Льва (Людвига) Петровича Витгенштейна, флигель-адъютанта, сына главнокомандующего 2-й армией генерал-фельдмаршала графа П. Х. Витгенштейна. В данном случае следствие также оказалось в весьма деликатной ситуации. П. Х. Витгенштейн, который фактически руководил расследованием деятельности тайного общества в подчиненных ему войсках и вел официальную переписку с императором по вопросу об арестах офицеров 2-й армии, как выяснилось, имел сына, участвовавшего в тайном обществе.
Уже спустя две недели после начала следствия появились данные о принадлежности Л. П. Витгенштейна к обществу (показания Свистунова и Комарова). Докладную записку с сообщением об этом император получил 30 декабря, на следующий день последовала его резолюция о привлечении Витгенштейна к следствию: «Не арестовывая». Николай I не дал разрешения на арест; было решено в Следственный комитет «флигель-адъютанта Витгенштейна вызвать неарестованного»[145].
В начале января 1826 г. Л. Витгенштейн спешно приехал в Петербург, на допросе у Левашева он сполна воспользовался представившейся возможностью изложить дело в максимально щадящих тонах. Он не отрицал, что вступил в тайное общество, однако постарался придать своему участию в нем совершенно невинный характер – с точки зрения известных ему основных обвинений, которые выдвигало следствие. Витгенштейн показал: «…в 1820 году по приглашению князя Барятинского вступил в тайное общество, имевшее целью единственно благотворение. Ничего противузаконного и политического он не заметил в сем обществе и с членами оного имел весьма малое сношение. В 1821 году, по возвращении своем из Лайбаха, узнал о уничтожении общества и с тех пор совершенно был уверен, что оно уже не существует». В ходе следствия, согласно справке «Алфавита», «отзывы главных членов подтвердили то, что Витгенштейн не принадлежал к тайному обществу, возникшему с 1821 года, и о существовании оного не знал»[146].
Однако этот вывод противоречит некоторым сведениям, полученным следствием. На допросе Витгенштейн ни словом не упомянул о тайных обществах после 1821 г. Напротив, в следующие после прощения месяцы были получены показания о том, что Витгенштейн не только был извещен о существовании политической конспирации после 1821 г., но и принимал участие в собраниях членов в 1824 г. и, безусловно, знал о политических намерениях заговорщиков. На это прямо указывали М. Муравьев-Апостол, П. Н. Свистунов, А. С. Горожанский, И. Ю. Поливанов, В. Л. Давыдов, Н. Я. и С. Н. Булгари[147]. Все эти показания не были приняты во внимание следователями. При составлении «записки» о Витгенштейне Боровков не использовал полученные следствием данные – сознательно или нет, но в итоге не были учтены все обнаруженные обстоятельства. Их выяснение проведено не было, очевидно, вследствие распоряжения императора: уже 12 января Следственный комитет получил повеление Николая I считать Витгенштейна «неприкосновенным к настоящему делу», причем специально отмечалось, что флигель-адъютант оказался при допросе «невинным» [148]. Таким образом, Витгенштейн после короткого, скоротечного расследования был искусственно зачислен в разряд отставших от тайного общества до 1821 г., не подлежащих наказанию. Это прямое свидетельство, говорящее о существенном воздействии императора на ход расследования.
Анализируя данный случай, следует иметь в виду, что сын известного военачальника и крупного чиновника, конечно, мог быть вовлечен в следствие намного более серьезно, если бы к моменту первого допроса обнаружилась более значительная степень его виновности. Расследование степени «прикосновенности» было остановлено повелением императора. Поэтому исследователи лишены возможности в полной мере оценить истинную роль сына главнокомандующего 2-й армией в декабристском обществе.
В число привлекавшихся к допросам без «арестования» вошли члены Союза благоденствия И. П. Шипов, И. А. Долгоруков, Ф. П. Толстой. Показания против них касались очень опасного эпизода – Петербургских собраний руководства Союза в начале 1820 г., где обсуждалась форма правления, к которой следовало стремиться тайному обществу в его планах политических преобразований. Вскоре из поступивших показаний Комитет выяснил, что на этих собраниях «находились некоторые лица, которые вовсе Комитетом еще не допрошены и не очищены надлежащим изысканием». Среди них были те, кто уже получил «высочайшее прощение» и был освобожден от дальнейшего следствия: Ф. Н. Глинка, И. П. Шипов и И. А. Долгоруков. Ф. П. Толстого же ранее не имели в виду вовсе. Комитет, однако, счел возможным обратиться к императору с просьбой об их привлечении в той или иной форме к расследованию[149]. В связи со вновь возникшими обстоятельствами император повелел привлечь этих лиц к следствию, не прибегая к аресту.
Иван Павлович Шипов, в 1825 г. – полковник Преображенского полка, вступил в Союз спасения в 1817 г., затем состоял в руководящем Коренном совете Союза благоденствия. Из показаний подследственных стало известно, что после 1821 г. Шипов вместе с Н. М. Муравьевым и М. С. Луниным участвовал в попытках создания нового тайного общества, но в 1822 г. отошел от конспиративной активности. Однако из показаний явствовало, что и после этого он знал о декабристском союзе и поддерживал связи с его членами[150]. После получения первых обвиняющих данных (сведения из доноса А. И. Майбороды и показания Трубецкого) император в начале января 1826 г. «простил» Шилова и освободил его от дальнейшего расследования[151].
Повторное привлечение Шилова к следствию имело своей причиной показания об участии в Петербургских совещаниях 1820 г. на квартире Ф. Н. Глинки, сделанные 13 января П. И. Пестелем и затем подтвержденные С. Муравьевым-Апостолом и Н. М. Муравьевым. Последние двое свидетельствовали также об имевшем место отдельном собрании на квартире самого Шилова, где, согласно показаниям указанных лиц, обсуждался возможный акт цареубийства при введении республиканского правления. Подобные обстоятельства, по оценке следствия, «столь серьезно… обвиняющие» всех участников совещаний, вызвали особую докладную записку Комитета императору от 9 февраля, с изложением содержания показаний и запросом на привлечение к следствию Шилова и других лиц, которые «вовсе еще Комитетом не допрошены и не очищены надлежащим изысканием». В записке следствие решительно ставило перед императором вопрос о привлечении этих лиц к процессу: «если действия и участие в тайном обществе помянутых князя Долгорукого, Шилова и Глинки… останутся без исследования, то высочайше порученное Комитету толико важное дело не будет совершенно полное, а от того может произойти впоследствии затруднение в производстве суда»[152]. Сам факт появления этой записки весьма примечателен: Комитет выносил решение этого вопроса на усмотрение императора. Следствие заявляло перед ним необходимость привлечения данных лиц к расследованию, указывая на важный характер обвинения. В связи с тем, что к этому времени уже состоялись акты «высочайшего» прощения Глинки и Шилова, вопрос приобретал принципиальный характер: Николаю I необходимо было решить – отменить данное им прощение, нарушив тем самым слово самодержца, или нет. Император решил формально не отменять акта прощения. Глинку и Толстого Николай I разрешил привлечь к допросам не арестованными, а для Шилова и Долгорукова составить вопросные пункты и потребовать написать письменные ответы-показания[153]. Таким образом, последние привлекались к допросам заочно, – им доставлялись вопросные пункты через великого князя Михаила Павловича. Толстой, как и Глинка, был вызван «в присутствие» Следственного комитета без ареста, а затем, после устного допроса и дачи письменных показаний, благополучно возвратился домой[154].
В своем письме-показании от 9 февраля и в повторно данных показаниях 24 февраля И. П. Шипов признал свое членство в тайном обществе, но отрицал его политический характер, настаивая, что цель тайного союза ограничивалась «благотворением». По существу затронутых в вопросных пунктах обстоятельств Шипов занял твердую позицию отрицания как самого факта собрания на своей квартире, так и своего присутствия на каких-либо совещаниях, где обсуждались политические планы и намерения тайного общества. Очные ставки с обвинителями в данном случае не были проведены, и на этом следствие по этому делу было фактически оборвано. Между тем, Комитет получил показания о контактах Шилова с членами тайного общества в 1823 г., но это уже не имело для обвиняемого никаких последствий: буквально через несколько дней после снятия повторных показаний, около 27 февраля, сформированный из солдат-участников событий 14 декабря 1825 г. Сводный гвардейский полк, командовать которым был назначен Шипов, отправился на Кавказ[155]. Это назначение можно рассматривать не только как знак опалы, но фактически и как определенное административное наказание[156]. В то же время официальный итог расследования по делу Шилова полностью совпадал с вердиктом в отношении членов Союза благоденствия, не понесших наказания: все обвиняющие его данные было «высочайше поведено оставить без внимания»[157].
В отношении полковника Ильи Андреевича Долгорукова, многолетнего адъютанта великого князя Михаила Павловича, на протяжении первых двух месяцев следствия было получено большое количество показаний о его принадлежности к руководству Союза спасения и Союза благоденствия. Долгоруков являлся «блюстителем» Коренного совета, участвовал в создании уставов тайных обществ. Однако он не привлекался к следствию, поскольку был освобожден от «изыскания» по воле императора. Только после упомянутых показаний Пестеля, подтвержденных еще двумя подследственными – Н. М. Муравьевым и С. Муравьевым-Апостолом (последний сообщал о присутствии Долгорукова также на квартире Шилова), у Долгорукова было затребовано объяснение; ему были направлены вопросные пункты. В своем письме от 3 февраля и данных затем двух дополнительных показаниях он отрицал политический характер тайного общества, в котором участвовал. Он настаивал, что на совещаниях 1820 г. ничего не говорилось о конкретных формах правления, а тем более о судьбе императора[158]. После этого расследование в отношении Долгорукова, с согласия императора, было полностью прекращено. Как и в случае с Шиповым, поступило распоряжение: все полученные данные в дальнейшем не учитывать и «оставить без внимания».
Известный художник, скульптор и медальер Федор Петрович Толстой, как установило следствие, стал участником Союза благоденствия при самом его основании (вероятно, он входил в состав одной из предшествующих ему организаций) и вскоре занял должность «председателя» Коренного совета. Именно в этом качестве он председательствовал на Петербургском собрании Союза благоденствия в 1820 г. По решению императора, в связи с показаниями Пестеля и других подследственных о совещаниях 1820 г. Толстой был вызван в Следственный комитет неарестованным. В своих показаниях, данных 15 февраля (как и при устном допросе), Толстой отрицал политический характер Союза благоденствия и утверждал, что ему была известна только благотворительная цель общества. Он полностью отверг показания, данные Пестелем, С. Муравьевым-Апостолом и Н. М. Муравьевым относительно собраний 1820 г. [159] После этого последовало высочайшее повеление «оставить без внимания» обвиняющие Толстого показания.
К группе лиц, привлекавшихся к следствию неарестованными, примыкает подполковник Николай Иванович Комаров. Привезенный в Петербург, он не был заключен «под стражу» и находился в столице, очевидно, на одной из казенных квартир (вероятнее всего, в Главном штабе), связанный запретом «не отлучаться впредь до повеления»[160]. Комаров известен как автор подробных показаний о Союзе благоденствия и его персональном составе, а также о заседаниях Московского съезда 1821 г. Эти показания использовались на следствии в качестве уличающего материала. Однако, хотя названные им в качестве участников тайного общества лица и были арестованы, едва ли не все они оказались оправданными, поэтому роль его показаний в обнаружении членов тайного общества сравнительно невелика.
В собственных показаниях Комаров приложил все усилия, чтобы убедить следствие в их полной «откровенности». Ему удалось доказать свое постоянное намерение «прекратить» общество, которое стало заниматься проектами изменений государственного строя, и полное незнание всех «злонамеренных» планов заговорщиков. Однако, обнаруживая в показаниях свое неприятие и сопротивление «политическим планам» тайного общества, Комаров тем самым признавал и определенную степень осведомленности о них. Эта осведомленность могла стать основанием для привлечения его к ответственности.
В переписке Николая I и великого князя Константина Павловича содержатся важные данные о восприятии содержания показаний Комарова и его линии поведения на следствии высшей властью. Пересылая брату копию показаний Комарова, император полагал, что последний «несомненно очень правдив и, кажется, человек прямой и действительно почтенный», а его показания дают «ясное понятие» о «ходе заговора во 2-й армии». Интересно, что Константин Павлович выразил, через некоторое время, другое мнение: с его точки зрения, показание Комарова «слишком запоздалое, рассудительное, натянуто, чтобы счесть за добровольное чистосердечное признание», его цель – «отклонить от себя подозрение» и, более того, ввести в заблуждение расследование, показав, что тайное общество было распущено[161]. Это еще раз свидетельствует о том, что декларируемая «откровенность» показаний не гарантировала их истины. Константин заметил в показаниях Комарова «рассудочность», которая проявилась в стремлении освободить себя от наказания, от любого подозрения в участии в политической цели декабристской конспирации. Говоря о собственной готовности «прекратить» существование декабристского общества, Комаров, однако, не сообщил власти о его деятельности (как это сделали, например, Грибовский и Юмин). Что касается «натянутости», то в ее основе лежало указанное нами выше противоречие, связанное с противодействием Комарова политическим намерениям заговорщиков. Подобная «рассудочность», конечно, вызывала подозрения, поскольку была несовместима с откровенным, правдивым показанием, но следствие и Николай I, видимо, поверили Комарову.
По-видимому, в силу проведенной им линии «откровенных признаний» и установившегося с первых дней привлечения к процессу фактического сотрудничества со следствием, после 11 февраля Комаров был отпущен без наказания, получив 15 февраля 1826 г. «аттестат». Он был приравнен к основной массе не пострадавших участников Союза благоденствия.
Показания о самом Комарове не выходили за пределы участия в тайном обществе до 1821 г. Некоторые из них свидетельствовали, однако, о знании им существования тайного общества после 1821 г., но они, как отмечает А. В. Семенова, игнорировались следствием[162].
Не избежал привлечения к расследованию, в «легкой» форме личного объяснения с императором, еще один участник Союза благоденствия Илья Гаврилович Бибиков, служивший многие годы вместе с И. А. Долгоруковым под началом великого князя Михаила Павловича. Согласно «Алфавиту», он имел личное объяснение с Николаем I по поводу своего участия в тайных обществах («был членом Союза благоденствия, о чем сам лично объявил государю императору»)[163]. Имя Бибикова впервые прозвучало в показаниях Трубецкого, данных не позднее 19 декабря, а 23 декабря было помещено им в развернутый список известных ему членов[164]. В связи с этими показаниями, очевидно, и состоялась встреча Бибикова с Николаем I. Данные о конкретном содержании и итогах объяснения в фонде следствия обнаружить не удалось. Несомненно, что результат оказался вполне положительным для бывшего участника Союза благоденствия, поскольку Бибиков был освобожден от формального привлечения к следствию и впоследствии внесен в список лиц, отошедших от тайного общества[165].
Из числа участников тайных обществ после 1821 г. и заговора 1825 г. от наказания были освобождены два человека, привлекавшиеся к следствию неарестованными. Но если в отношении допроса полковника А. Н. Тулубьева имеются конкретные указания в материалах процесса, то свидетельство о привлечении к допросам полковника А. Ф. Моллера содержится лишь в мемуарном источнике: записках Николая I.
Непосредственной причиной вызова в Следственный комитет Александра Никитича Тулубьева, командира 1-го батальона Финляндского полка, стали показания его подчиненного, поручика А. Е. Розена, участника заговора и мятежа 14 декабря. Розен показал, что 13 декабря сообщил Тулубьеву о планах заговорщиков на следующий день, а 14 декабря лично предложил полковнику вести полк для соединения с восставшими частями. Розен утверждал, что Тулубьев согласился, отдав приказание строить батальон. 11 января 1826 г. Комитет обратился к императору с сообщением об этом показании Розена, в ответ последовало повеление привлечь Тулубьева к допросу без ареста[166].
Допрошенный Левашевым, Тулубьев отверг показание Розена. На допросе Тулубьев приложил все усилия, чтобы представить отданный им приказ выводить батальон в необходимых для оправдания тонах. Он утверждал, что сделал это, чтобы иметь солдат перед глазами и чтобы они ничего не предприняли. Об этом же свидетельствовала записка, составленная в результате специального исследования этого эпизода в полку, за подписью бригадного командира Е. А Головина; источником сведений послужили свидетельства офицеров батальона Тулубьева и других чинов полка[167]. В итоге следствие сделало благоприятное для Тулубьева заключение; после допроса он был «по высочайшему повелению» освобожден и не привлекался к дальнейшему расследованию.
Но, кроме показаний Розена, в распоряжении следствия оказались показания Трубецкого об участии Тулубьева в тайном обществе, а также показания других лидеров заговора о знании полковником намерений заговорщиков и его согласии участвовать в выступлении, данном еще накануне 14 декабря[168]. По этим показаниям Тулубьев, однако, спрошен не был.
Командир 2-го батальона Финляндского полка Александр Федорович Моллер в день 14 декабря возглавлял караулы Зимнего дворца и оказал немалые услуги новому императору, обеспечивая охрану дворца и находившейся в нем семьи Николая I. За свои действия в этот день Моллер был пожалован в Свиту; он пользовался очевидным благоволением императора. Однако уже в первые недели следствия появились показания о давнем участии Моллера в тайном обществе, о знании им цели и конкретных планов заговорщиков накануне 14 декабря. Трубецкой свидетельствовал о том, что знал Моллера как члена тайного общества еще до начала совещаний участников заговора в период междуцарствия. 21 января 1826 г. Оболенский показал, что Моллер был «предварен» о намерениях тайного общества на 14 декабря, но отказался содействовать. Это же утверждал А. А. Бестужев, со слов брата, Н. А. Бестужева, который посетил Моллера 13 декабря 1825 г. [169]
80
ВД. Т. I. С. 9, 30; Т. XVI. С. 45.
81
ВД. Т. XX. С. 415.
82
Дело Петра Колошина опубликовано: ВД. Т. XX. С. 413–416, 548–549 (комментарий А. В. Семеновой).
83
ВД. Т. I. С. 238.
84
Алфавит. С. 320.
85
А. А Суворов длительное время (1817–1824 гг.) жил в Швейцарии, Франции и германских землях.
86
ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 222. Л. 1, 2.
87
Алфавит. С. 320. ВД. Т. XVI. С. 313.
88
Любопытно, что, согласно одному из мемуарных свидетельств, освобожденный 23 декабря Суворов столкнулся в Зимнем дворце с привезенным на допрос Свистуновым и шепнул ему: «Меня простил – авось простит и тебя» (Русский архив. 1897. Кн. 2. № 5. С. 141).
89
ВД. Т. XI. С. 201; Т. XIV. С. 332, 386, 390; Т. XV. С. 248; Т. XVIII. С. 255. Ср.: Коржов С. Н. Северный филиал Южного общества декабристов // 14 декабря 1825 года: Источники, исследования, историография, библиография. СПб.; Кишинев, 2000. Вып. 3. С. 136. См. также наш комментарий к воспоминаниям А. А. Суворова: 14 декабря 1825 года: Воспоминания очевидцев. СПб., 1999. С. 603–604.
90
ВД. Т. II. С. 262.
91
Русский архив. 1908. Кн. 3. № 11. С. 442.
92
Ансело Ф. Шесть месяцев в России. С. 84–85. Здесь налицо неточность автора или перевода: речь должна идти не об «осужденном», а о «подозреваемом».
93
Остзейский вестник. 1859. № 3. С. 2–3; Русская старина. 1882. Т. 33. № 3. С. 829; Русский архив. 1897. Кн. 2. № 5. С. 141; 1898. Кн. 1. № 2. С. 297.
94
См., например: Д[убровин] Н. Несколько слов в память императора Николая I-го // Русская старина. 1896. Т. 96. № 6. С. 458.
95
Там же.
96
Старк В. П. Портреты и лица. СПб., 1995. С. 194.
97
Алфавит. С. 221; ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 227. Л. 2–2 об. Ср.: Коржов С. Н. Северный филиал Южного общества… С. 137–138.
98
ВД. Т. XI. С. 201, 206, 208; Т. XIV. С. 332, 340; Т. XV. С. 248.
99
ВД. Т. XI. С. 206.
100
ВД. Т. XVI. С. 27, 28, 30, 224.
101
Там же. С. 309.
102
Междуцарствие. С. 92.
103
ВД. Т. I. С. 153; Т. II. С. 123.
104
Алфавит. С. 256. Ср.: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 214. Л. 2–2 об.
105
Алфавит. С. 256. Ср.: ВД. Т. I. С. 246, 373; Т. XVIII. С. 49.
106
См.: ВД. Т. XVI. С. 311.
107
См. воспоминания И. О. Сухозанета и дневник Г. И. Вилламова: 14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. СПб., 1999. С. 85, 225
108
14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. С. 226.
109
Алфавит. С. 237, 242.
110
14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. С. 223–226.
111
Алфавит. С. 267, 279, 282.
112
ВД. Т. XVI. С. 312. Ср.: Декабристы. С. 267, 282.
113
См.: ВД. Т. XVI. С. 42, 45, 62.
114
14 декабря 1825 года. Воспоминания очевидцев. С. 225.
115
ВД. Т. XX. С. 310–312.
116
Там же. С. 533–534. Ср.: ВД. Т. XVI. С. 83, 86.
117
См.: «Истинное изображение нравственного состояния войск». Записка декабриста Н. И. Кутузова Николаю I… С. 30–45; Ильин П. В. 1) Из истории либеральной публицистики 1810-1820-х гг.: Н. И. Кутузов и его статья… С. 104–116; 2) Записки члена Союза благоденствия Н. И. Кутузова к императору Николаю I… С. 45–65.
118
ВД. Т. XX. С. 537.
119
ВД. Т. XX. С. 339, 538; Алфавит. С. 212.
120
ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 36. Л. 1-33. Ср.: ВД. Т. XVI. С. 124, 128, 133.
121
ВД. Т. XX. С. 396.
122
ВД. Т. XX. С. 364–365, 541–542.
123
Там же. С. 357–358, 539–540. В «Алфавите» Боровкова были отражены только показания И. Н. Хотяинцева (Алфавит. С. 261).
124
ВД. Т. XVI. С. 133; Т. XX. С. 358, 542.
125
Оболенский настаивал на том, что лично сообщил Семенову о планах выступления 14 декабря.
126
ВД. Т. XX. С. 391. О критическом значении очных ставок с Пущиным и Оболенским, определивших освобождение Семенова без наказания, рассказывал сам освобожденный своему родственнику А. Ф. Львову (Львов А. Ф. Записки // Русский архив. 1884. Кн. 2. № 4. С. 239).
127
ВД. Т. XX. С. 392, 544–546. Ср.: ВД. Т. XVI. С. 58, 169–170.
128
По утверждению Семенова, Оболенский сообщил только о своих «сомнениях насчет присяги; но более ничего не говорил…» (ВД. Т. XX. С. 391).
129
Там же. С. 217; ВД. Т. XX. С. 546.
130
ВД. Т. XX. С. 377.
131
ВД. Т. XVI. С. 103;
132
ВД. Т. III. С. 56; Т. XX. С. 375.
133
ВД. Т. XVI. С. 133.
134
ВД. Т. XX. С. 381–382, 545.
135
ВД. Т. XVI. С. 222. Ср.: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 168. О готовящемся решении, по-видимому, было известно еще накануне, о чем свидетельствует то обстоятельство, что один из офицеров, А. Р. Цебриков, был отправлен из каземата Нарвской крепости, где он содержался, к председателю Комитета А. И. Татищеву еще 14 июня (Декабристы. С. 191).
136
Алфавит. С. 276.
137
Там же. С. 284. Ср.: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 167.
138
Алфавит. С. 334. Ср.: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 169.
139
Алфавит. С. 265.
140
Габаев Г. С. Гвардия в декабрьские дни 1825 года. Военно-историческая справка// Пресняков А. Е. 14 декабря 1825 года. М.; Л., 1926. С. 179.
141
ВД. Т. I. С. 9; Междуцарствие. С. 168.
142
ВД. Т. I. С. 30, 292; Т. XI. С. 201; Т. XIV. С. 332; Т. XVI. С. 34.
143
ВД. Т. XX. С. 438–439. Ср.: Там же. С. 555 (комментарий А. В. Семеновой).
144
ВД. Т. XVI. С. 57.
145
Там же. С. 42, 43, 231.
146
Алфавит. С. 238. Ср.: ВД. Т. XX. С. 444.
147
ВД. Т. IX. С. 189, 268; Т. XIII. С. 122, 55; Т. XVIII. С. 258; ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 156 (С. Н. Булгари). Л. 10–10 об.
148
Алфавит. С. 238. Ср.: ВД. Т. XX. С. 557–558; Т. XVI. С. 58.
149
ВД. Т. XVI. С. 89.
150
Показания А. В. Поджио, М. Ф. Митькова, Е. П. Оболенского, М. С. Лунина: ВД. Т. I. С. 238; Т. III. С. 196, 122–123; Т. XI. С. 48, 60, 82.
151
ВД. Т. XX. С. 24; Т. XVI. С. 90.
152
Там же. С. 90. Текст записки: ВД. Т. XX. С. 23–25.
153
ВД. Т. XVI. С. 97.
154
См. об этом эпизоде в его воспоминаниях: Записки графа Ф. П. Толстого. С. 220–223.
155
ВД. Т. XX. С. 426–430, 552–553.
156
Следует отметить, что в Сводном полку находились офицеры, не принимавшие участия в заговоре или выступлении 14 декабря. Полк пользовался некоторыми привилегиями, через 2 года благополучно вернулся в Петербург; его состав вновь был распределен среди гвардейских полков. См. о нем: Скрутковский С. Э. Лейб-гвардии Сводный полк на Кавказе в Персидскую войну с 1826 по 1828 год. СПб., 1896.
157
Алфавит. С. 339.
158
ВД. Т. XX. С. 418–424, 550–551.
159
ВД. Т. XVI. С. 97; Т. XX. С. 553–554.
160
Там же. С. 546.
161
Междуцарствие. С. 170, 174.
162
Дело Комарова опубликовано: ВД. Т. XX. С. 393–412. См. также комментарий к нему А. В. Семеновой: С. 547–548. Мы далеки от укрепившегося в литературе отнесения Комарова к числу предателей и доносчиков. Действительно, его показания на процессе были использованы в качестве одного из первоначальных источников информации о Союзе благоденствия и его персональном составе. Слова об «измене» Комарова тайному обществу, которые содержат мемуары И. Д. Якушкина (Якушкин И. Д. Мемуары. Статьи. Документы. Иркутск, 1993. С. 114), и фраза в записках С. Г. Волконского – «…впоследствии был доносчик» (Волконский С. Г. Записки. Иркутск, 1991. С. 365), по нашему мнению, отражают факт откровенных показаний Комарова на следствии и последующего его прощения. Более того, оценка Якушкина, по-видимому, есть реакция на открытое несогласие Комарова с целями политического характера, а главное, – с конкретными средствами политического действия (расчеты на военную силу вместо заложенного в уставе Союза влияния на общественное мнение и правительство), которые обсуждались в 1820–1821 гг. среди руководящих участников тайного общества; на это прямо указывают собственные показания Комарова (ВД. Т. XX. С. 399). Сколько-нибудь определенных данных об «измене» Комарова или сделанном им доносе на тайное общество обнаружить до сих пор не удалось. Если бы Комаров в действительности участвовал в агентурной деятельности против тайного общества или выступил доносчиком, то, несомненно, не преминул бы заявить об этом на следствии, по примеру И. М. Юмина. Намерение «обнаружить» общество, если оно не вернется к своей первоначальной цели – прием защиты на следствии, использованный многими подследственными в своих показаниях (Якушкин И. Д. Мемуары… С. 336). Между тем, в показаниях Комарова отчетливо видно стремление доказать «чистоту» своих намерений – сохранить тайное общество в рамках просветительской деятельности, а кроме того, достаточно заметны его усилия спасти себя от грозящей ответственности: ведь доказывая свое несогласие с политической целью общества, он там самым обнаруживал свою осведомленность о ней. В свете сказанного позднейшие обвинения в его адрес, высказанные на уровне гипотезы, представляются неубедительными (Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 1. С. 325, 451). Утверждение авторитетного ученого, будто Комаров после своего освобождения был заключен «для вида» в Петропавловскую крепость, основано на недоразумении: использованная исследователем в качестве доказательства сопроводительная записка Николая I относилась не к Комарову, а к вновь арестованному Т. В. Комару (Декабристы. С. 83–84). В основе негативной ауры, которая сложилась вокруг образа Комарова в историографии, лежит отношение к нему мемуариста Якушкина и особая ситуация, в которой он, как «отставший» участник Союза благоденствия, оказался на следственном процессе.
163
Алфавит. С. 226.
164
ВД. Т. I. С. 10, 32.
165
Алфавит. С. 226; ВД. Т. XX. С. 487.
166
ВД. Т. XVI. С. 56, 57. Алфавит. С. 326.
167
ОР РНБ. Ф. 380. Д. 58. Л. 9 об.-10 об. Эта записка Е. А. Головина цитируется в исследовании Я. А. Гордина (Гордин Я. А. Мятеж реформаторов: 14 декабря 1825 года. Л., 1989. С. 285–286).
168
ВД. Т. I. С. 33, 234.
169
Там же. С. 33, 97, 240, 246, 258, 435, 446.